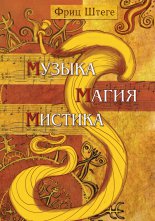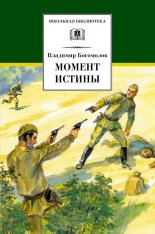Песни в пустоту Горбачев Александр

© Александра Рожкова, Леонид Сорокин, фотография на обложке, 2014
© А. Горбачев, 2014
© И. Зинин, 2014
© М. Динкевич (соавтор главы 6), 2014
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2014
© ООО “Издательство АСТ”, 2014
Издательство CORPUS ®
Предисловие
История русской рок-музыки – да и вообще здешней культуры в последние три десятка лет – представляет собой штриховую линию. За подъемом отчего-то всегда следует не спад даже – безвременье, разрыв, эпоха без героев, без песен, без праздников, без жестов, без слов. А дальше линия снова начинается с точки, чтобы потом снова прерваться. В 80-м она началась с фестиваля в Тбилиси, где Гребенщиков, выкрасивший бороду в зеленый, улегся на пол с чужой электрогитарой, чтобы впоследствии потерять работу и обрести место в вечности, – и закончилась с распадом системы, которая при виде зеленой бороды хваталась если не за пистолет, то за партбилет. В 97-м она началась с экрана, на котором вызывающий молодой человек в желтой рубашке зачем-то стриг красивую девушку и мяукал странное слово “утекай”, – и закончилась, когда такие же люди вышли с экранов в московские улицы, кафе и парикмахерские. В 2007-м…
А может быть, все было иначе. Может быть, не хватало не героев, а тех, кто построил бы им пьедестал. Не песен, а аппаратуры, которая вывела бы их на нужную громкость. Не слов, а тех, кто бы их услышал.
Это книга о людях, которые не упоминаются в энциклопедиях; о событиях, к которым не приурочивают торжественные компиляции. Это летопись эпохи разрыва – эпохи, в которой жизнь билась в самом прямом значении этого глагола. До крови.
В 90-х в России история победила культуру (если угодно, и подлежащее, и дополнение тут можно поставить с больших букв). Некалендарное десятилетие, начавшееся в августе 91-го и закончившееся в августе 99-го, очень быстро превратилось в миф – и неудивительно: в конце концов, миф всегда так или иначе посвящен определению места человека в мире и ощупыванию этого мира – а чем еще занимались все эти годы люди, обнаружившие себя на руинах великой империи? Время совершенно по-шекспировски вышло из пазов и напрочь разрушило все прежние амплуа и связи – в том числе и культурные. Советский рок встал перед необходимостью искать себе новый, внеидеологический родовой эпитет – характерно, что именно на начало 90-х пришлись почвеннические опыты самых крупных фигур жанра, Гребенщикова и Летова. Былую официозную эстраду отпустили на вольные хлеба – в результате чего она вынуждена была придумывать новый облик, звук и язык: в русской поп-музыке не было времен интереснее и безумнее. Тихие барды, пестовавшие свой эскапизм с рюкзаками на плечах, выяснили, что новая реальность может достать и в лесу у костра – симптоматично, что именно из эстетики КСП вышли многие будущие звезды романтического постшансона. В стылых особняках и заброшенных выставочных павильонах зарождался вольный российский рейв (которому, к слову, куда больше повезло с летописцами, чем рок-музыке, – именно поэтому об электронной культуре в этой книге речи нет); подростки примеряли на себя кепки и широкие штаны, а на русский язык – ритмы и рифмы хип-хопа. Социальные роли, прежде расписанные в почти приказном порядке, перемешались, как в дурном водевиле, – и это коснулось всех: и инженеров на сотню рублей, иные из которых теперь стали ворочать миллионами, и дворников и сторожей, которым пришлось выйти из подсобок в пространство свободной конкуренции, и уж тем более молодой шпаны, которая, может, и готова бы была стереть кого-нибудь с лица земли, да только земля к тому моменту уже была голой. Закрытая страна распахнула двери настежь – и вдруг оказалось, что сквозняк приносит не только свежесть, но и мороз по коже. “Я хочу дожить, хочу увидеть время, когда эти песни станут не нужны”, – пел за несколько лет до этого Александр Башлачев, и вряд ли он мог предполагать, что эти его пожелания сбудутся настолько скоро: песни вдруг и правда стали не нужны – как и те, кто их поет, и для того, чтобы не попасть в систему, уже не требовалось уходить под радар – потому что все радары попросту вышли из строя.
Именно в таких обстоятельствах писали, писались, играли, творили и горели герои этой книги.
За временем, о котором идет речь, в последние годы намертво закрепился штамп “лихие 90-е”. Официальная риторика тут имеет в виду, естественно, сугубо негативные коннотации – лишения, опасности, социальную неустроенность, – но русский язык хитрее и умнее любой власти, и даже в этой заржавевшей формулировке, если настроить оптику, просматривается второй, вполне себе рок-н-ролльный смысл. Лихой, если прямо по Далю, – это ведь не только и не столько суровый и трудный, это в первую очередь удалой, решительный, горячий, залихватский, и центральные персонажи следующих глав воспринимали реальность, которую им довелось воплощать в звуке, именно так. В заголовке книги, что вы держите в руках, не случайно цитата из Егора Летова – в песнях, о которых тут пойдет речь, чувствуется та же удивительная смесь восторга и отчаяния, восхищения и ужаса перед человеческой бездной, что и в музыке “Гражданской обороны”. Собственно, “Песнями в пустоту” звалась сделанная в 86-м запись акустического концерта Летова, которая вопреки желанию автора разлетелась по всей стране – и стала для многих первым столкновением с летовскими песнями. Как ни странно, в оригинале в этом словосочетании не было никакого специального отчаяния – Летову просто не понравилась вялая реакция публики на квартирнике. Однако, как это часто бывает с большими художниками, через несколько лет образ воплотился в жизнь по-настоящему трагично – в совсем другую эпоху и с совсем другими людьми, которым и правда в силу стечения обстоятельств нередко приходилось петь в пустоте и для пустоты.
Это книга о жизни – ослепительной и бешеной жизни, какой, кажется, не было ни до ни после. Девяностые как будто сами наводили резкость на людей и пространства. Клуб “Там-Там”, созданный добродушным вегетарианцем Всеволодом Гаккелем, который в предыдущей жизни играл на виолончели в “Аквариуме”, превратился в коммуну молодых выдумщиков и радикалов, в место, где рождался новый, неслыханный прежде звук. Юный последователь Гребенщикова Эдуард Старков, выдумав себя заново и создав группу “Химера”, извлекал метафизику из тяжелого гитарного электричества, вызывал на концертах демонов с помощью медной трубы и забрызгивал зрителей собственной кровью. Улыбчивый украинский бард Александр Литвинов случайно переименовал себя в Веню Дркина – и превратился в странствующего трубадура, который сводил вместе деревенскую непосредственность и трагикомический постмодернизм. Интеллигент-очкарик Андрей Машнин, повесив в гримерке на плечики офисный пиджак, выходил на сцену и неистово орал в зал резкие и точные слова, подсказанные злыми улицами. Бойцы московской индустриальной музыки из группы “Собаки Табака”, использовавшие в качестве инструментов бензопилы и отбойные молотки, имели почти что собственную авторскую передачу на федеральном канале. Поэт-пропойца Борис Усов дрался на концертах своей группы “Соломенные еноты” со зрителями, тем самым подкрепляя отчаянную и безнадежную силу своих песен. А молодой выборгский барыга Леха Никонов, будущий создатель “Последних Танков в Париже”, вдруг очутился перед микрофоном на сцене – и понял, что он рок-герой.
Это книга о смерти – об агонии страны, осознавшей всю мнимость и хрупкость своего былого величия, и о том, как распад социально-исторической сущности приводил к распаду личности. Рок-н-ролльная биография вовсе не обязательно предполагает трагедию – к счастью, тут есть масса контрпримеров, – но почти всегда подразумевает балансирование на грани, игру с собственной судьбой, тем более опасную, если довелось вести ее в России 90-х. Меньше всего авторы этой книги хотели бы романтизировать суицид, причитать: “Не уберегли” – или осуждать тех, кто сошел с дистанции (у наших героев встречаются все три варианта жизненных траекторий, и не только они), – нас скорее интересовала сама эстетическая ситуация, попытка прыжка выше собственной головы, прорыва куда-то за самого себя – и то, чем эти прорывы кончаются. Мы не то чтобы составляли список героев по разнообразию творческих стратегий – но, как выяснилось в процессе работы над книгой, “Песни в пустоту” представляют собой еще и своего рода дорожную карту путей, которые выбирали для себя люди, вольно или невольно оказавшиеся в подполье в ситуации, когда и тех, кто наверху, беспрерывно трясло и лихорадило.
Это книга о поражении – и нет, мы не собираемся делать вид, будто это не так. В каждом из конкретных случаев не так уж сложно вообразить себе, как могла бы выглядеть альтернативная история. Сложись по-иному, и Веня Дркин со своим бродячим ансамблем мог бы играть на фестивалях для красивых людей в московских парках, а “Соломенные еноты” – стать вровень с “Гражданской обороной”. Это не значит, что все вышло несправедливо, но это значит, что необходимо понять, почему вышло именно так. Каждая глава нашей книги – не только рассказ о судьбе человека или группы людей, через конкретные судьбы мы пытались увидеть еще и общие закономерности эпохи, понять, как и чем жили те или иные субкультуры в смутные времена, и таким образом заполнить те самые пробелы в штриховой линии. Это ведь только кажется, что между “Алисой” и группой “Пилот”, между Грушинским фестивалем и Петром Наличем, между Цоем и Noize МС ничего не было – на деле по петербургским улицам в 90-х бродили особенные пророки, изгибы гитары обнимали особенные руки, чеканили слова особенные поэты.
Это книга о победе – потому что в конечном счете песни, что звучали в пустоту, были слишком громкими и вескими, чтобы эту пустоту собой не заполнить, и то, как они прорастают в нынешнее время, тому свидетельство. Тут даже не так важно, сколько у кого слушателей во “ВКонтакте” (хотя в наши времена эти цифры могут служить наилучшим доказательством наличия исторической памяти); куда существеннее, что эхо той музыки слышно и сейчас – возможно, даже лучше, чем когда-либо прежде. Молодые московские левые собирают группы, которые играют кавер-версии “Соломенных енотов” и других авторов их круга, как бы пытаясь примерить на себя опыт дикого прошлого. Илья Черт, лидер вышеупомянутого “Пилота”, одной из самых популярных нынешних русских рок-групп, при каждом удобном случае записывает “Химеру” в свои прародители – да и его (пусть и малоудачная) попытка выработать что-то вроде собственной философской системы явно обязана многим тому, что делал Рэтд Старков; песни “Химеры” перепевают новые подпольные герои вроде Padla Bear Outfit. Так называемый альтернативный шансон – в диапазоне от “Хоронько-оркестра” до того же Петра Налича – в некотором роде является кривым отражением того, что когда-то придумал Веня Дркин. И даже нынешний герой сериалов и блокбастеров Владимир Епифанцев – выходец из круга “Собак Табака”, и в его глазах до сих пор проскакивают искры былого безумия.
Это книга об искусстве. Вероятно, из всего, что было изложено выше, могло сложиться впечатление, будто собственно музыка тут второстепенна, будто предметом нашего рассказа является тот момент, где пресловутое искусство кончается, а начинается, соответственно, судьба. Разумеется, это совершенно не так: в 90-х, как, впрочем, и во все прочие сумбурные эпохи, было множество людей, умевших превратить свою жизнь в приключение, – и считаные единицы тех, кто был способен создать из нее эстетику. В сущности, бытовая и биографическая фактура интересовала нас не только и не столько сама по себе, но как материал, из которого рождались звуки, каких здесь не было прежде – и, увы, не было потом. Группа “Химера” породила поразительный по силе метафизический хардкор, замешанный равно на свободной музыке и мировом фольклоре, и остается только сожалеть, что эта линия не получила дальнейшего развития. Леха Никонов и его “Последние Танки в Париже”, по большому счету, первыми сумели вывести современную поэзию на клубную сцену – в последние несколько лет примерно то же самое, пусть и по-другому, пытаются делать самые успешные из здешних стихотворцев. Веня Дркин сумел увязать советский хипповый рок с его народными корнями – и очистить его от наносного пафоса; в некотором смысле песни Дркина представляли собой перпендикуляр к тому, чем занялось в начале 2000-х поколение “Нашего радио” (которое, напротив, сохранило пафос, а корни искало в западном звуке). И так далее, и так далее – герои каждой главы располагают к долгому разговору о своей музыке, и конечно, авторы хотели бы рассчитывать на то, что песни, о которых здесь идет речь, будут услышаны и поняты по-новому.
Это книга о естестве – потому что именно натуральность, невынужденность, категорическая и порой даже катастрофическая неприспособленность к привычным структурам художественной жизни объединяют очень разных людей, о которых идет речь в “Песнях в пустоту”. Мы говорим о временах, когда слова “продюсер”, “лейбл” и “формат” еще были в диковинку, – и о музыкантах, которые не то чтобы не хотели иметь с ними дело, а просто существовали в реальности, которая этих слов не предполагала. Показательно, что, как будто в соответствии с некой неумолимой исторической закономерностью, почти любое их столкновение с так называемой музыкальной индустрией заканчивалось фиаско: у кого-то возникали проблемы с тиражом, кто-то слишком поздно привлек внимание влиятельных опекунов, кто-то выпускал свою самую перспективную запись ровно под дефолт – ну и тому подобное. Собственно говоря, и важнейшая характеристика этого поколения заключалось в том, что оно играло не против правил (как предыдущее поколение, советское) и не по правилам, пусть даже ими самими созданным (как последующее поколение, поколение Лагутенко, Земфиры и “Нашего радио”), но без правил вовсе, в самом буквальном смысле как бог на душу положит. И разумеется, как только новая, более-менее устаканившаяся российская реальность стала обретать сколько-нибудь ясные очертания, как только в ходу впервые появилось слово “стабильность”, окно возможностей, которым лихо и люто воспользовались музыканты 90-х, начало стремительно захлопываться – уж больно холодный ветер из него дул.
Следует обозначить одно важное обстоятельство: сами авторы книги в 90-х были не действующими лицами, но статистами. С нашей стороны было бы странно описывать все происходившее от первого лица, потому мы решили предоставить слово самим героям, творившим эпоху, тем более что буквальные отчеты о тех или иных происшествиях в данном случае будут выглядеть сильнее любых художественных описаний. Книга, которую вы держите в руках, строится как большая пьеса: каждая глава представляет из себя хронику событий, восстановленную с помощью документальных свидетельств – в подавляющем большинстве случаев мы добывали их лично и сами встречались с нашими героями; в редких исключениях, когда это было невозможно (кто-то умер, кто-то сел в тюрьму и т. д.), цитировали выходившие ранее публикации. От авторов тут только небольшие ремарки, необходимые, чтобы уточнить контекст происходящего или дать чуть более широкий горизонт событий. Кроме того, мы сочли необходимым поместить творческие биографии наших героев в общую картину музыкальной индустрии эпохи – и потому начинается книга с главы о том, что представляли собой музыкальные клубы 90-х и как была устроена их только зарождавшаяся инфраструктура. По большому счету, начинать читать “Песни в пустоту” можно с любого места, каждая из частей – это отдельный самоценный спектакль, тем не менее мы стремились драматургически выстроить книгу так, чтобы она складывалась в цельный сюжет и с точки зрения культурной географии (потому действие переносится из Москвы в Петербург и обратно, отчасти затрагивая и провинцию, и Украину), и с точки зрения истории (потому первыми героями оказывается группа “Химера”, а последними – Леха Никонов и “Последние Танки в Париже”, непосредственно продолжившие дело “Химеры” и не без успеха транслирующие дух 90-х и в 2000-х, и в 2010-х).
Как показывает целая череда событий последних лет, культурно-историческое беспамятство – одна из самых страшных вещей, которые могут случиться с обществом. Так уж сложилось, что нынешние 20-летние гораздо лучше представляют себе то, что творилось в условном 94-м в нью-йоркских клубах, чем то, что было в Москве и Петербурге. Этой книгой мы хотели бы хоть немного компенсировать эту ситуацию – и не только в сугубо архивоведческих целях. Нынешняя ситуация в российской музыке, конечно, не дублирует события двадцатилетней давности, но, во всяком случае, рифмуется с ними: в силу ряда и технологических, и структурных обстоятельств в последние годы возникла новая подпольная культура, и нам кажется важным, чтобы и те, кто ее творит, и те, кто ее потребляет, помнили о предшественниках и искали свои корни не только на внешних территориях. Хотя бы по одной простой причине: для того чтобы найти себе место для шага вперед, нужна как минимум точка опоры.
Действующие лица
Борис “Тревожный” Акимов – журналист, экс-редактор журналов Rolling Stone, “Афиша” и др., художник, участник арт-группы “ПВХ”, музыкант группы Inquisitorum, основатель фермерского кооператива LavkaLavka, ресторатор.
Евгений Алехин – поэт, писатель, музыкант групп “Ночные грузчики” и “Макулатура”.
Андрей Алякринский – звукорежиссер клуба “Там-Там”, групп Tequilajazzz, Zorge и многих других, саунд-продюсер студии “Добролет”.
Ольга Барабошкина – промоутер, сотрудничала с группами “Комитет охраны тепла”, “Ва-БанкЪ”, “Дочь Монро и Кеннеди” и многими другими.
Геннадий Бачинский (1971–2008) – радио-диджей, промоутер, в начале 90-х – музыкант групп “Депутат Балтики” и “Химера”.
Сергей “Фил” Белов – музыкант, гитарист “Дркин-бэнда”.
Борис Белокуров (Усов) – поэт, лидер группы “Соломенные еноты”, создатель журналов “ШумелаЪ мышь”, “Связь времен” и “Мир Искусства”. В 2000-х сменил фамилию на фамилию жены, Анастасии Белокуровой.
Анастасия Белокурова – музыкант группы “Лайда”, жена Бориса Усова.
Вероника Беляева – скрипачка, постоянный аккомпаниатор Вени Дркина и “Дркин-бэнда”.
Сергей Богданов – звукорежиссер, музыкант группы Electro Dub Company.
Михаил Борзыкин – лидер группы “Телевизор”.
Илья Бортнюк – промоутер, директор компании “Светлая Музыка”.
Виктор “Пузо” Буравкин – музыкант групп Inquisitorum, “Прохор и Пузо”, FM и других, художник, участник арт-группы “ПВХ”.
Андрей Бухарин – журналист, обозреватель Rolling Stone, в прошлом – музыкальный редактор журнала “ОМ”.
Игорь Бычков – музыкант, лидер группы “Алоэ”.
Алес Валединский – глава лейбла “Выргород”, музыкант.
Владислав “Витус” Викторов – экс-барабанщик группы “Химера”.
Герман Виноградов – художник, музыкант, автор перформансов.
Виктор Волков – музыкант, экс-сотрудник клуба “Там-Там”.
Всеволод Гаккель – экс-виолончелист группы “Аквариум”, промоутер, основатель клуба “Там-Там”.
Петр Глухов – музыкант, президент Неформального фонда Вени Дркина.
Олег Грабко – продюсер, глава лейбла “Бомба-Питер”.
Ярослав Гребенюк – журналист.
Борис “Рудкин” Гришин – музыкант, участник групп “Брешь Безопасности” и “Соломенные еноты”.
Сергей Гурьев – журналист, идеолог и редактор журнала “Контркультура”.
Ольга Денисова – музыкант.
Джулиано Ди Капуа – театральный режиссер, автор зонгоперы “Медея”.
Максим Динкевич – журналист, создатель интернет-фэнзина Sadwave, музыкант, лидер группы “Да, смерть!”.
Александр Долгов – журналист, экс главный редактор журнала Fuzz.
Светлана Ельчанинова – основатель “Клуба имени Джерри Рубина”.
Владимир Епифанцев – актер, музыкант, автор перформансов.
Ермен “Анти” Ержанов – музыкант, лидер группы “Адаптация”.
Александр Зайцев – музыкант группы “Елочные игрушки”, 2H Company и других проектов; также записывался и играл вместе с Алексеем Никоновым, Стасом Барецким, Андреем Родионовым и другими.
Илья Зинин – промоутер, журналист, музыкант групп Verba и Kira Lao.
Дмитрий “Шарапов” Иванов – журналист, издатель фэнзина “Ножи и Вилки”, панк-хардкор-активист.
Александр “Леший” Ионов – лидер групп “Огонь” и “Регион-77”.
Илья “Черт” Кнабенгоф – лидер группы “Пилот”.
Алексей Коблов – журналист.
Филипп Козенюк – музыкант группы “Собаки Табака”.
Владимир Кожекин – лидер группы “Станция Мир”, промоутер.
Александр Кондуков – журналист, главный редактор журнала Rolling Stone.
Артем Копылов – основатель лейбла “Кап-Кан Records”.
Денис Кривцов – барабанщик группы “Последние Танки в Париже”.
Сергей Кузнецов – писатель.
Виктор Кульганек – лидер группы “Брешь Безопасности”.
Евгений Куприянов – музыкант группы “Барто”.
Александр Кушнир – журналист, писатель, автор энциклопедии рок-самиздата “Золотое подполье”, книг “100 магнитоальбомов русского рока”, “Сергей Курехин: безумная механика русского рока” и других, продюсер, глава музыкально-информационного агентства “Кушнир Продакшн”.
Юрий Лебедев – экс-бас-гитарист группы “Химера”.
Егор Летов (1964–2008) – музыкант, лидер группы “Гражданская оборона”.
Александр Липницкий – бас-гитарист групп “Звуки Му” и “Отзвуки Му”, журналист.
Александр “Веня Дркин” Литвинов (1970–1999) – музыкант.
Полина Литвинова – вдова Александра Литвинова (Вени Дркина).
Мария Любичева – вокалистка группы “Барто”.
Илья “Сантим” Малашенков – лидер групп “Гуляй-поле”, “Резервация здесь”, “Банда Четырех”, “Сантим и Ангелы на Краю Вселенной”.
Андрей Машнин – экс-лидер группы “Машнинбэнд”, журналист, редактор журнала “Пятое колесо”.
Кирилл “Джордж” Михайлов – панк-хардкор-активист, основатель DIY-лейбла “Карма мира Records”, гитарист группы Till I Die.
Алексей Михеев – художник, музыкант, экс-сотрудник клуба “Там-Там”.
Константин Мишин – лидер группы “Ожог”, участник групп “Огонь”, “Банда Четырех”, “Соломенные еноты”, “Брешь Безопасности” и других, организатор квартирников, концертов и фестивалей.
Алексей “Прохор” Мостиев – музыкант, участник групп “Собаки Табака”, “Прохор и Пузо”, Altera Forma и других.
Егор Недвига – бас-гитарист группы “Последние Танки в Париже”.
Алексей Никонов – лидер группы “Последние Танки в Париже”, поэт.
Леонид Новиков – экс-редактор журналов Fuzz и Rolling Stone, промоутер, лидер группы Para Bellvm.
Валерий “Лерыч” Овсянников – директор “Дркинбэнда”.
Андрей “Слесарь” Оплетаев – бас-гитарист группы “Психея”.
Андрей “Дрон” Орлов – барабанщик групп “Юго-Запад”, “Машнинбэнд” и других.
Роберт Остролуцкий – лидер групп “Кронер” и “Собаки Табака”.
Борис “Борян” Покидько – лидер группы “Лисичкин хлеб”, участник “Соломенных енотов” и других коллективов.
Валерий Постернак – журналист, экс-главный редактор журнала Billboard, музыкант групп ColneyHatch и “Три козла”.
Олег Пшеничный – журналист.
Станислав Ростоцкий – журналист, кинокритик.
Юрий Рыданский – музыкант, друг юности Александра Литвинова (Вени Дркина).
Максим Семеляк – журналист, экс музыкальный редактор журнала “Афиша”, главный редактор журнала Prime Russian Magazine.
Алексей “Экзич” Слезов – лидер группы “Затерянные в Космосе”, участник групп “Ожог”, “Огонь”, “Соломенные еноты”, “Банда Четырех”, “Регион-77” и других.
Дмитрий “Сид” Cпирин – лидер группы “Тараканы!”.
Эдуард “Рэтд” Старков (1969–1997) – лидер группы “Химера”, создатель проектов “Авдогесса”, “Егазеба” и других, первый барабанщик “Последних Танков в Париже”.
Александр Старостин – лидер группы Theodor Bastard, экс-редактор журнала Fuzz.
Арина Строганова – музыкант групп “Соломенные еноты”, “Утро над Вавилоном” и других, певица.
Алексей Тегин – музыкант, создатель проектов Corps, Phurpa.
Владимир “Вова Терех” Терещенко – музыкант, лидер групп “Хлам”, “Ривущие струны”, “Zэ Travы” и других, промоутер.
Юлия Теуникова – музыкант, экс-клавишница “Соломенных енотов”, лидер групп “Волшебные мужики” и “Город Макондо”.
Артемий Троицкий – журналист, теле– и радиоведущий, организатор концертов и фестивалей, учредитель музыкальной премии “Степной волк”, автор книги “Рок в Союзе” и др.
Андрей Тропилло – звукорежиссер, продюсер (записывал классические альбомы “Аквариума”, “Кино” и многих других), издатель, владелец студии “Антроп”.
Анастасия Тюнина – музыкант, лидер группы “НастежЬ”.
Юрий Угрюмов – основатель клубов “Молоко” и “Цоколь”.
Евгений Федоров – лидер групп Tequilajazzz и Zorge.
Леонид Федоров – музыкант, лидер группы “Аукцыон”.
Сергей Фирсов – продюсер (работал с Александром Башлачевым, “Гражданской обороной”, “Машнинбэндом” и другими), заведующий фонотекой Ленинградского рок-клуба.
Наталья Чумакова – бас-гитаристка “Гражданской обороны”, вдова Егора Летова.
Александр Шульгин – продюсер, бывший муж певицы Валерии.
Глава 1
Бей, барабан: “Там-Там”, “Третий путь” и музыкальная среда 90-х
С 7 по 14 марта 1991 года Ленинградский рок-клуб, что на Рубинштейна, 13, пышно отмечал свое десятилетие. В специально отведенном под юбилей павильоне “Ленэкспо” была устроена фундаментальная выставка “Реалии русского рока”, где были и архивные фото и документы, представленные музыкантами, и художественные инсталляции, и даже филиал Храма Джона Леннона. На фестивале, организованном по такому случаю, играли все – и ветераны движения, появившиеся еще в 70-х (Юрий Морозов, “Россияне”, “Мифы”), и совсем новые лица, еще не успевшие запомниться и примелькаться (“Два самолета”, “Колибри”, “Дурное влияние”), и группы, составившие рок-клубовскую массовку в минувшее золотое десятилетие (“Джунгли”, “Тамбурин”, “Дети”), и, разумеется, суперзвезды, к тому моменту уже бравшие стадионы и пользовавшиеся спросом на Западе. Правда, выступление группы “Зоопарк” в последний момент было отменено – зато Майк Науменко вышел на сцену в разгар финального сета “Аквариума” и сыграл вместе с ними свою классическую вещь “Пригородный блюз”. В самом конце концерта Борис Гребенщиков объявил: группы “Аквариум” больше нет. Значительную часть экспонатов выставки в “Ленэкспо” растащили по домам и чуланам неизвестные люди. Через несколько месяцев не стало и группы “Зоопарк” – по причине смерти Майка Науменко. А еще через несколько месяцев исчезла и страна, в которую Майк с БГ принесли рок-н-ролл.
Эпоха великих свершений, канонизировавшая советскую подпольную рок-музыку, закончилась. Что делать дальше, толком не понимали даже люди, вполне осознанно уничтожившие прежнюю реальность, не говоря уж о музыкантах. Деятели культуры, привыкшие ругать государство, но неизбежно циркулировавшие в заданной им системе, оказались на свободе – и быстро столкнулись с ее издержками: теперь все было можно, но мало что было хоть кому-то нужно. Ленинградского рок-клуба уже не существовало, клубов в нынешнем понимании этого слова – с отлаженной экономикой, продуманной политикой и просчитанным балансом приходов и расходов – еще не существовало. Новая культура была вынуждена начинать с фундамента, не обладая при этом и малейшими знаниями о принципах строительства.
Прежде чем говорить о том, как жили и пели герои 90-х, следует обозначить, где и как им приходилось жить и петь.
Герман Виноградов
В 80-х вообще не было клубной культуры. Никакой. Но, когда перестройка с гласностью начали набирать обороты, появились сквоты. В одном из таких и началась моя художественная жизнь. После окончания архитектурного факультета я не пошел работать по распределению и подался в дворники и сторожа: за это платили какие-то деньги, у тебя была масса свободного времени, и тебя не могли привлечь по закону о тунеядстве. Мне была нужна мастерская, где я мог бы спокойно рисовать, – и я пошел по району Китай-города искать себе место. А надо сказать, что в то время было очень много шикарных пространств, стоявших пустыми. Нежилой фонд был большой, была бесхозяйственность и не было бизнеса. В результате попал в один особняк, где на втором этаже оказалась в одиннадцатикомнатной квартире свободная комната. Точнее, две: я, как папа Карло, однажды постучался в стенку – и обнаружил там восьмигранную залу с двумя каминами. И год там провел, одновременно сторожа в этом же здании Мебельинторга: работа заключалась в том, чтобы утром открыть подъезд, а вечером закрыть. В квартире был полукруглый балкон, и я, сидя на нем, занимался гитарой – было очень классно. И очень многие мои друзья по Москве тоже так существовали – на каких-то словесных безбумажных договоренностях, на птичьих правах, не платя ни копейки ни за что[1].
Артемий Троицкий
Из всех десятилетий, что на нашей территории существовала электрическая гитарная музыка, ситуация в 90-х, особенно в начале, была самой печальной. Здесь надо просто вспомнить, чем были 80-е годы. Их можно условно разделить на две половины: черную первую и светлую вторую. Но первая половина, притом что это была агония советской власти, период максимальных антироковых репрессий, все же стала временем, в которое было создано процентов семьдесят железобетонной классики русского рока, почти все лучшее, на мой взгляд: Башлачев, “Кино”, “Аквариум”, Майк, “Центр”, “ДК”, “Звуки Му”. Включая и ранний “Телевизор”, и “Странные игры”, и московскую новую волну – “Ночной проспект”, “Браво”. Потом была вторая половина 80-х, которая в творческом отношении оказалась, может быть, не столь впечатляющей, зато это были годы общего признания, эйфории, выездов за рубеж, стадионных концертов. Куда-то делась вся попса и эстрада, Алла Пугачева тоже стала рокершей, всё подстилалось под рок. А в 90-е годы блистающий рок-н-ролльный крейсер постигла судьба “Титаника”. Это был практически крах всего движения. Он выражался и в том, что оппозиционный рок утратил идентификацию, поколение протеста растерялось и не знало, против чего протестовать. И в том, что ветреная публика вместо “Аквариума”, “ДДТ” и “Наутилуса” стала слушать “Ласковый май”, “Мираж” и так далее. И в том, что провалились все западные проекты, относительно которых тоже было много ожиданий. Первая половина 90-х годов, я это помню прекрасно, у меня оставила ощущение выжженной земли, там просто нечего было делать. С этим связаны и какие-то мои личные метания: я пошел работать на телевидение, начал писать о политике, ушел в журнал Playboy и так далее – все это были попытки удрать из музыки и забыть об этом как о прекрасном сне, который обернулся кошмаром.
Александр Липницкий
Андеграундная сцена в 90-х формировалась с нуля. Я тогда продюсировал группу “Атас”, и лидер этой группы, Лена Чеботарева, очень правильную вещь заметила, давая интервью финским журналистам. На вопрос, что происходит с советским роком, она ответила: “Советский рок умер вместе с Советским Союзом. Сейчас все будет иначе”. Так оно, по сути, и оказалось. То, что было до 91-го года, меня больше не интересовало. Исключение – мой приятель Гребенщиков, за которым я всегда следил. Тем более что тогда, в 91-м, у него родился цикл “Русского альбома”. А так все начиналось с нуля.
Всеволод Гаккель
Когда “Аквариум”, в котором я играл, вышел в дамки, это оказалось крайне негативным опытом. Потому что поначалу группа гармонично развивалась в собственной среде, была правильной комбинацией разных людей, у нас все получалось – и ничего больше не надо было. К тому же оказалось, что наша музыка интересна еще каким-то людям из того круга, в котором мы существовали. Это было уникальное состояние – неискушенности; ни о каком нонконформизме и речи не было. При любом режиме молодые люди выживают и находят свой кайф, это уже дальше навешиваются ярлыки – подполье, инди… На самом деле существует просто заряд юности. На наше поколение пришлась перестройка, включились средства массовой информации, стали все это мусолить – и началась чертовщина. С этого момента все происходило по сценарию спортивно-зрелищных мероприятий. Группа оказалась абсолютно не готова к большой аудитории. Стадионы, безликая толпа, живущая по своим законам, какие-то девочки в тельняшках, фенечки… Балаган. Стало непонятно, ради чего это делать. Увидев это несоответствие своего статуса своему самоощущению, я ушел. И, когда я начал делать клуб “Там-там”, я как раз хотел предостеречь людей другого поколения от желания выстрелить, от этой ошибки.
Культурная ситуация, сложившаяся в начале 90-х, была болезненно парадоксальной. Границы теперь были открыты – но пересекать их по-прежнему могли только избранные, только уже не по политическим, а по экономическим причинам. Музыкантов теперь никто не ущемлял и не контролировал – но и опекать их централизованно больше никто не собирался: выплывайте, мол, сами. Новые пластинки теперь не нужно было доставать на черном рынке, но на рынке “белом”, свободном, никто не спешил пускать в оборот товар, выгода от которого в обновленных условиях жизни представлялась сомнительной. Молодые люди, бравшиеся за инструменты, готовы были сочинять и транслировать сверхновый звук – однако делать им это было негде и по большому счету не для кого. Создание новых культурных пространств в то время стало уделом одиночек-энтузиастов и прибившихся к ним аутсайдеров – и неудивительно, что получившиеся в итоге оазисы были больше похожи на клоаки.
Андрей Алякринский
Никакой клубной культуры в то время еще не было. Сева Гаккель бывал в Нью-Йорке и Лондоне, видел, как это там происходит, был в CBGB, был знаком с группой Sonic Youth, еще с кем-то. Его идея заключалась в том, чтобы построить клуб, в который он сам ходил бы, если бы ему было двадцать. Что ему и удалось.
Всеволод Гаккель
В Нью-Йорке я был поражен сбалансированностью, которую там увидел. В этом городе было множество уровней бытия: рядом с супергруппами и Madison Square Garden – гигантское количество клубов, альтернативных, экспериментальных, джазовых, блюзовых, каких угодно. То есть ту жизнь, которую мне хотелось бы вести, когда я был молод, я увидел уже в старшем возрасте. Ничего похожего здесь не было, я очень заразился этой идеей, и когда клуб с полтыка стал получаться, я в первую очередь хотел молодых людей оградить от искушений – славой, гигантской аудиторией, деньгами. Я сформулировал свое определение андеграунда – это то, что существует независимо от формации. В советское время считалось, что андеграунд – то, что существует вопреки системе, подавлявшей идеи. Но вышло так, что все те люди, которые были в андеграунде, как только были сняты барьеры, с этим андеграундом спокойно распрощались и пошли зарабатывать деньги. То есть этот андеграунд был обусловлен чисто экономическими причинами. Для меня это было совершенно неприемлемо, и построение нового андеграунда 90-х было такой попыткой восстановить культурный слой, чтобы люди ощутили радость игры для маленькой аудитории себе подобных. То есть тех, кто понимает правила игры. Потому что только в таком случае эта игра становится взаимообогащающей, происходит натуральный обмен идеями, энергией.
Илья Бортнюк
С одной стороны, закончилась эпоха рок-клуба и всей постперестроечной эйфории, с другой – каким-то образом стала доступна свежая западная музыка. И стали возникать группы, играющие в новом ключе. Например, индустриальные. Я был продюсером такой группы “Монумент страха” – смесь Ministry и Revolting Cocks, они одними из первых у нас индастриал заиграли. С другой стороны, были группы, которые играли “манчестерскую волну” – “Улицы”, “Никогда не верь хиппи”. Панк-движение тоже было очень сильным. Еще были команды типа “Бироцефалов”, игравшие почти хардкор. Еще была очень сильная рокабилльная туса. В общем, была очень насыщенная музыкальная жизнь. Причем не искусственно созданная, как сейчас делается при помощи радиостанций и телеканалов, а естественная – слухи расходились моментально. Кто-то сказал: “Был на выступлении такой-то группы, это круто”. И на следующий их концерт уже набивался полный клуб.
Валерий Постернак
У нас в Кривом Роге была группа. Играли мы что-то близкое к хард-року. И был у нас спонсор – бандит, как водилось в то время. Он оплатил нам поездку в Москву. Мы приехали туда, записались. В Москве я увидел множество клипов и открыл для себя гигантское количество новой музыки – Red Hot Chili Peppers, Nirvana и так далее. Нас поселили в доме отдыха в Жаворонках, и я там просто не отлипал от телевизора. Все имеющиеся деньги я потратил на музыку – покупал ее тогда еще на бобинах, в ларьках звукозаписи. Вернувшись, я распустил группу. У меня с собой было около сотни катушек с новой музыкой, я хотел играть что-то современное. От RHCP мне просто крышу снесло, я понял: вот она, музыка будущего! Со мной остался только басист, который меня поддержал, и я нашел молодых пацанов, которые играли что-то в духе Slayer, и сказал им: “Парни, какой Slayer, совсем другие времена на дворе!”
Москва и Петербург всегда соперничали между собой – в том числе и по части рок-музыки. Причем в этом смысле вторая столица, тогда еще называвшаяся Ленинградом, соревнование у первой явно выиграла – Московская рок-лаборатория очевидно уступала Ленинградскому рок-клубу и с точки зрения общей репутации, и с точки зрения имен, и с точки зрения мифа. В некотором смысле новая клубная инфраструктура в Москве делалась почти на пустом месте – на ее создателей не особенно давило славное прошлое или стремление ему себя противопоставить. Закономерно, что и площадки здесь возникали по новой логике – точнее, даже по нескольким. С одной стороны, тут был “Бункер” – почти настоящий клуб западного образца, по модели которого в конце десятилетия начали расти как грибы коллеги и конкуренты. С другой – типичные для 90-х дикие реликты вроде казино и бандитских ресторанов, куда зачем-то – видимо, потому что “положено” – приглашали играть музыкантов, причем бойцы нового андеграунда тут могли стоять в одном ряду с ветеранами советской эстрады. С третьей, были здесь и места, существовавшие вопреки рыночной экономике, а точнее, параллельно, как бы без учета новых правил: кочевой панк-подвал “Клуб имени Джерри Рубина” и заведение с характерным именем “Третий путь” под управлением харизматика Бориса Раскольникова. Именно в них в полной мере и выразила себя тогдашняя московская подпольная жизнь.
Светлана Ельчанинова
Когда я окончила школу, у меня была мечта с несколькими друзьями организовать рок-клуб. Потому что рок-клуба в Москве просто не было. Была Рок-лаборатория, которая под эгидой комсомола раз в году проводила свой фестиваль, у них была маленькая каморка, в которой они кого-то записывали, но там не было места для тусовки. Мы хотели его сделать. Эта идея витала в воздухе – но наш Клуб имени Джерри Рубина был первым. Помню, через две недели после него открылся клуб “Отрыжка” (так его называли, на самом деле он назывался “Кафе в Отрадном”), потом Sexton, потом “Бункер”, ну и, пожалуй, все. Больше клубов в Москве не было. Именно рок-клубов – было еще два-три ночных дискача, где выступали попсовые звезды. Поэтому мы все между собой дружили, помогали друг другу, присылали друг другу группы. И народ всегда валил валом, потому что больше идти было просто некуда. Рекламу можно было не делать, потому что все знали про все концерты в Москве. Подъезжаешь на Пушку, где каждый день тусили панки, и говоришь паре людей: “Завтра в “Джерри” играют те-то”. И все. Вообще, все же это в основном по подвалам было. Это потом, когда пошли какие-то деньги, возникли бандиты, которые поняли, что можно вкладывать бабки, продавать алкоголь и получать реальную прибыль. И тогда уже стали появляться другие заведения.
Артемий Троицкий
В Москве тогда было два главных клуба. Sexton – панково-металлический, абсолютно тупой и по музыке, и по человеческому наполнению. Просто ребята в черной коже, какие-то байкеры – все эти понтованные мудаки мотоциклетные, я их никогда не любил. Ничего интересного там не было. При этом он был очень агрессивным – Sexton был знаменит в том числе и тем, что в клубе было несколько убийств. Какого-то музыканта там порешили, каких-то простых посетителей, по-моему, даже одного из владельцев этого клуба. Но место было просто неприятное, такое черное место для байкерского быдла и всякой музыки типа AC/DC и Motorhead, только в русской интерпретации. Второй клуб, по-моему, он чуть позже, чем Sexton, образовался, – это клуб “Бункер”, с которого, собственно, началась вся эта империя “Б2” и “Б1”. Он был на Трифоновской улице, недалеко от станции метро “Рижская”. Это было гораздо более цивилизованное и приятное место, где выступали группы самых разных стилей. В общем, это был милый плюралистичный клуб, который послужил прототипом для таких впоследствии появившихся в Москве клубов, как “Китайский летчик Джао Да”, “Проект ОГИ”, “Запасник” и так далее.
Светлана Ельчанинова
Как-то мы сидели на кухне с одним пронырливым 18-летним поэтом, который был членом Союза литераторов. И он мне сказал: мол, у меня есть одна тетя знакомая, позвони ей, может, удастся через нее клуб получить. Я к ней пришла. Оказалось, она раньше была в райкоме комсомола, а потом, когда комсомола не стало, он превратился в некий фонд по работе с молодежью. При этом они занимались торговлей тряпками и сдавали помещение банку “Менатеп”. В общем, хоть какая-то молодежь им была нужна – и они разрешили провести выставку прикидов в своем актовом зале. На открытии играли “Тараканы!”, “Чудо-Юдо” и “Наив”; людей было столько, что дверей в помещении после этого не осталось, все здание было заблевано, зассано, закидано окурками… В общем, я была уверена, что меня со всей выставкой оттуда быстренько выгонят. Но мне почему-то сказали: “Ну, Света, ты, главное, смотри, чтобы они не нюхали прямо тут, на ступеньках, клей, пусть они в подвале это делают”. Так мы и переехали в подвал. Это было наше первое помещение. А потом, когда все здание продали тому же банку “Менатеп”, мы переехали в подвал на Вавилова. Это было какое-то ведомственное общежитие для семей сотрудников. Мы сделали в этом подвале – жутко загаженном, замусоренном, с прорванной канализацией – ремонт; я буквально звонила всем знакомым музыкантами и говорила: “Хотите свой рок-клуб? Приходите разгребать срач”. В общем, это была такая молодежно-комсомольская стройка. Половина панков Москвы там прошли локальную трудовую подготовку.
Владимир “Вова Терех” Терещенко
Помню, Света делала замечательную выставку одежды рок-музыкантов 80-х годов. Причем это были не какие-то глянцевые прибамбасы, купленные по дешевке в магазине и изготовленные в Китае, а реальные панковские и металлические прикиды тех лет, какие-то пиджаки участников групп “ДК” и “Автоматические удовлетворители”. Я оказался на этой выставке случайно, и это было круто: Москва уже начала заниматься евроремонтом и привозом модных молодежных вещей, и рок-н-ролльная тусовка уже начала, скажем так, переодеваться в модные шмотки, какие-то там “мартенсы”, “лонсдейлы” и “бомберсы”, а вся эта сермяжная тема типа самодельно проклепанных косовороток или сделанных крестиком нашивок Slayer стала уходить. В общем, когда я попал в “Джерри Рубина”, я почувствовал, что это мое место. К тому же там начинали всякие группы типа “Пургена”, то есть лютый панк, по чесноку. Я тогда решил, что для меня уже кончилась вся эта история, начал пытаться жить какой-то более-менее осознанной взрослой жизнью, но, попадая к Свете, я чувствовал, что все ништяк: DIY, путешествия с панками-бомжами, распивание самогона – все это никуда не девается.
Светлана Ельчанинова
Историй много было. Как-то, когда мы были еще в Черемушках, приехали американцы Pinocchio Vampire. Причем приехали со своим аппаратом. Поставили, начали настраиваться. В результате мы концерт слушали на улице. Аппарат был такой мощности – мы даже не знали, что такое бывает! Продано было буквально два-три билета, потому что никто просто не решался войти в помещение. Еще там же у нас репетировала группа “Интимная близость”, дело было летом, и жители соседних пятиэтажек жаловались, что им приходится с девяти утра слушать матерные песни про Цоя. Бывали концерты, которые шокировали даже подготовленную публику. Например, однажды было нойзовое мероприятие, в рамках которого товарищ разрывал руками металлический лист – ну и порезался сильно. Кровь полилась, все такое. Одной девушке даже стало плохо, пришлось откачивать. Но это было хорошее шоу, в панковском стиле. Я вообще очень не люблю группы, которые в черных рубашках стоят на одном месте и нажимают на две клавиши. Мне кажется, что для этого вообще не обязательно на сцену выходить. А если уж вышел, ты должен чем-то заниматься, что-то собой выражать.
Алексей Тегин
Гадюшник под названием “Третий путь” – он был, конечно, хороший. Потому что это была клоака, ничем не запрограммированная – ни стилем музыкальным, ни публикой, которая туда приходит. Приходи и делай. И Боря Раскольников – колоссальный, безупречный адепт социального идиотизма – все это пролонгировал.
Владимир “Вова Терех” Терещенко
“Третий путь” в Москве в 90-х был королем андеграунда. Там и публика была такая, и место само, что, заходя, ты понимал: это не клуб, это что-то другое. И потому возникало ощущение, что ты можешь делать здесь все что хочешь. Там было тихо, спокойно, царило ощущение безопасности, какой-то интимности – что совершенно не мешало трешу и угару. К тому же Боря Раскольников – достаточно одиозная личность, и он в 90-х умудрялся даже музыкантам что-то платить. Я помню, мы там выступали и получили за это 100 долларов – это были, в общем-то, деньги. У меня была тогда группа под названием “Овердрайв”, и это была просто художественная самодеятельность с людьми, с которыми мы тогда вместе работали на “Горбушке”. В остальные рок-клубы мы со своим репертуаром не вписывались, другая была конъюнктура. А Боря нас взял и после выступления был очень восторженный, сказал – бля, ну вообще, рок-рок, как оно было раньше. Я увидел, что человек прется от того, что делает. Что это не бизнес, а это примерно так же, как и для меня, – это фан. Его фан, его кайф. Причем за это он может даже заплатить денег, когда никто вокруг этого не делает. Потом я несколько раз оказывался в “Третьем пути” в качестве просто посетителя. И наблюдал какие-то совершенно феерические истории. Было ощущение, что здесь либо снимают кино, либо перед тобой разворачивается спектакль. Это были тусовки на уровне каких-то глобальных перформансов. И ты, не зная никого, попадал в это и становился участником. У Бориса было умение накручивать ситуацию и делать все красиво.
Алексей Тегин
Как-то мы играли в “Третьем пути” тибетскую музыку традиции бон. А публика вся уже упитая, обкуренная – и вот в какой-то момент сзади берет и рисуется мальчик и начинает отвратительно бить по барабанам. Мы поем, а он бьет. Совершенно невпопад, просто гаденыш. И эти барабаны спровоцировали нескольких женщин, которые, видимо, тоже были под наркотиками сильными, – и они стали дико визжать, как ведьмы. А потом хохотать. Сначала визг, а дальше дикий хохот. А мы поем. При этом перед выступлением я договорился с одним мужиком – он в тот момент трезвый был, а потом все равно упился. Говорю ему: мы будем делать чёт – это отрезание привязанностей. Когда надо будет, я тебя выведу из зала, положу, привяжу твои руки и ноги к кирпичам, покрою тряпкой, и ты будешь у нас мумией такой, жертвой, на которую я потом сяду. Он согласился. Ну и вот, я на нем сижу, мы поем, гаденыш бьет по барабанам, девки визжат и смеются. В общем, царила обстановка с точки зрения бытового сознания достаточно дегенеративная, грязная и адская. Эта реальность очень хорошая была. Нормальная.
Светлана Ельчанинова
Мы регулярно делали разные выездные акции. Причем несанкционированные. Например, когда мы открывались на “Академической”, решили сделать красочное шествие до клуба – хотя бы потому, что никто не знал, где он находится, кроме тех, кто его строил, и надо было показать людям этот подвал в общежитии. В милицию ничего не заявляли, но я обратилась в пожарную часть, мол, просим разрешить запустить пять детских фейерверков. Нам отказали. Тогда я обратилась в Союз литераторов – и они разрешили! Смешно, конечно: Союз литераторов дал официальное разрешение устроить фейерверк на площади Хо Ши Мина. В итоге собралось человек 200 наряженных панков, все с какими-то смешными лозунгами типа “Воду – рыбам, небо – птицам”, наш пиротехник Кокос понаставил железных конструкций, все запалил – и народ организованной толпой пошел по улице Дмитрия Ульянова. Милиция спохватилась, но просто не успела доехать – все уже взорвалось, а толпа дошла до клуба, и менты ничего не поняли. Другая акция была на заброшенном эскалаторе на Ленинских горах. Мы привезли туда аппарат, поставили колонки на поручни и сделали фестиваль против фашистов и буржуев. Народу было человек пятьсот. Где-то уже вечером приходят два милиционера: что тут у вас происходит? А я пригласила знакомого с видеокамерой обычной. И отвечаю: кино снимаем. (А надо еще понимать, что там все было сгоревшее и, когда люди танцевали, поднимался пепел, так что все были черные с ног до головы и совершали всякие непотребные плясовые движения.) Что еще за кино, спрашивают милиционеры. А я говорю: сцену “Черти в аду”. Так и пронесло. Да и вообще тогда было ощущение полной свободы. Самые сумасбродные мероприятия получались. Мы даже сделали выступление группы “Чудо-Юдо” в ГЦКЗ “Россия”. После которого ко мне подбежал администратор и заявил, что, мол, они здесь больше никогда играть не будут. А я ему ответила, что и сама знаю, что не будут. Ну а с кем? С Пугачевой и Орбакайте, что ли?
Александр Липницкий
Еще в Москве был “Манхэттен-Экспресс”, очень странное место, которое принадлежало каким-то бандитам. Там был менеджер Володя, который любил “Аквариум”. И было очень много смешных моментов. Однажды мы решили устроить презентацию фотоальбома, посвященного Виктору Цою. На презентации выступал Алексей Рыбин вместе с Наилем Кадыровым, гитаристом, который много с кем играл, в том числе и с “Зоопарком”. В клубе сидели классические краснопиджачные бандиты, и они подозвали метрдотеля – а он был крупный такой мужчина, видимо, из ментов, – что-то ему сказали, после чего он подскочил ко мне бледный и говорит: “Мне этот стол сделал предупреждение: если ваши ребята не перестанут играть, они просто их поубивают. Вместе со мной. Им такая музыка совершенно не катит”. Я подошел к Рыбину между песнями, показал на стол, за которым сидели грозные и пьяные бандюганы, настоящие беспредельщики, и предупредил его, что возникла такая ситуация – на нас могут напасть, если концерт продолжится. Он спрашивает: “А ты как думаешь?” Я говорю: “Все зависит от вас. Если хотите играть дальше – мы все вместе рискуем. У нас-то оружия нет. А у них, возможно, есть”. В общем, мы продолжили концерт. С того стола были какие-то угрожающие знаки, а потом бандиты совсем напились, и девки их увели. То есть все кончилось хорошо, но это типичная история для того времени.
Алексей Тегин
Было как-то представление под названием “Дух и почва”. В каком-то подвале. Мы нагнали туда аппаратуры, сделали какой-то перформанс, подожгли что-то – и стал дикий дым идти. Публика ломанулась на улицу. Но, поскольку двери были закрыты, они пошли туда, где дыма нет. А дым-то вытягивался… В общем, там катастрофа какая-то началась. В конце концов дверь сломали, вышли на улицу, внутри никого не было – а музыка продолжала играть. Все громче и громче. Я думаю: как так? И тут понимаю, что процессоры, микрофоны и магнитофоны замкнулись друг на друга и продолжают издавать звук, который становится все громче. А мы на улице стоим и переглядываемся.
Владимир “Вова Терех” Терещенко
Однажды, когда мы играли в “Третьем пути” уже с группой “Хлам”, после концерта Борис подошел ко мне и сказал – Володя, ты не прав. Я спрашиваю – в чем? Он: ты знаешь, у тебя в первой же песне прозвучала фраза “я пришел с работы обратно”. Как же так? Ты же вроде такой панк, как ты можешь такое со сцены произносить? Вспомни, у Мамонова есть фраза “я уволился с работы, потому что я устал”. Почему ты нарушаешь каноны жанра? Так нельзя, это нестильно, это не по-пижонски. Такие слова ты не имеешь права петь. Музыкант, художник не должен петь про работу, должен думать о других вещах!.. И дальше была очень долгая философская с ним беседа о том, что художник не должен работать. И это тоже мне многое сказало о его внутреннем содержании, его взгляде на жизнь.
Алексей Тегин
Мне нравились концерты, когда публика не платит за билеты. Потому что, когда платит, получается, что люди как бы заказывают себе музыку и получают от этого удовольствие. Другое дело, когда творится какая-то херь. То есть без билетов ты пришел, но получил по мозгам – отлично совершенно. Вот это хорошо. Такого раньше было много, теперь почти нет.
Светлана Ельчанинова
Нам приносили кассеты сотнями. Группы, которые играли что-то вторичное, я старалась на сцену не выпускать – только когда они несли с собой еще какую-то идею. Вообще сначала у нас было, конечно, больше панка. Я была против хиппизма, недолюбливала арт-рок, в какой-то момент перестала пускать любителей регги, потому что в их идеологию входит трава. Так что в основном у нас работали и играли сторонники панка, хардкора, рокабилли и чего-то более тяжелого. Потом, где-то к середине 90-х, панк себя исчерпал, идейных групп стало меньше, потому что непонятно было, с чем бороться, всем все разрешили. Началось затишье, я даже думала клуб закрыть, раз панк умер, – но потом появились стрейт-эджеры, и это была интересная альтернатива панку, которую я стала всячески поддерживать. Мне кажется, благодаря нашему клубу стрейт-эдж во многом и заявил о себе у нас. Потому что мы заявляли и музыкантам, и зрителям, и людям из других городов: мол, мы за творчество без наркотиков и алкоголя, мы поддерживаем стрейт-эдж. И он действительно как-то распространился. И сейчас неформал, альтернативщик – это скорее непьющий человек, который противопоставляет себя обществу потребления.
“Клуб имени Джерри Рубина” и “Третий путь” диверсифицировали московский андеграунд просто постольку, поскольку создали их люди разных поколений. “Джерри Рубина”, сделанный юной подвижницей Светланой Ельчаниновой, притягивал к себе все новое и прогрессивное – от панка и нойза до совсем еще начинающих инди-рокеров, пик музыкальной активности которых пришелся уже на 2000-е. Жизнь в клубе кипела самая разнообразная. Благодаря левацким взглядам его основательницы здесь все время обретались социалисты и радикальные экологи, отсюда вышли и “заибисты” (движение “За анонимное и бесплатное искусство”), и анархо-краеведы, и много кто еще. Придя в клуб днем, можно было запросто увидеть собрание анархистов, на полном серьезе обсуждавших глобальные вопросы – например, роль женщины в современном обществе. По окончании собрания все голосовали и выносили резолюцию. В дни выборов на акции в “Джерри Рубина” входным билетом был избирательный бюллетень – ну и так далее. “Третий путь” же был для людей постарше: тут репетировали “Звуки Му” и Инна Желанная, выступали Алексей Тегин и “Оберманекен”, да и средний возраст посетителей был повыше, чем в “Джерри Рубина”. Все было очень по-домашнему (собственно, для Бориса Раскольникова клуб и стал домом в самом прямом смысле этого слова) – придя на саундчек, музыканты могли встретить заспанного хозяина клуба в тренировочных штанах и домашних тапочках. Музыка звучала более интеллигентная, регулярно проводились ставшие впоследствии легендарными показы авангардной моды, московские тусовщики очень любили водить в “Третий путь” иностранцев, рекомендуя его как едва ли не главную клубную достопримечательность столицы. Объединяло эти площадки одно: многие ходили и в “Джерри Рубина”, и в “Третий путь” еженедельно, даже не заглядывая предварительно в расписание (тем более что и узнать его было толком негде), – и тот и другой были в полном смысле слова клубами, создавшими вокруг себя очень отдельную жизнь.
Если в Москве появилось сразу несколько независимых друг от друга андеграундных центров, то в Петербурге получилось иначе. То есть места, конечно, возникали и исчезали, но основным центром притяжения всех людей, продолжавших жить музыкой даже во времена, когда остальным достаточно было просто жить, стало одно место – как бы бастард Ленинградского рок-клуба, в максимально оскорбительной манере отринувший все наследие предка. Это место называлось “Там-Там”, и – еще один симптоматичный парадокс 90-х – придумал его человек, имевший к Рок-клубу самое непосредственное отношение, – бывший виолончелист “Аквариума”, добродушный человеколюбивый вегетарианец Всеволод Гаккель, в котором очень сложно было заподозрить куратора молодых экстремалов с гитарами, примочками и татуировками.
Всеволод Гаккель
Я и раньше симпатизировал панк-року, но меня к нему совершенно не тянуло. Когда появились первые группы – “Автоматические удовлетворители”, ранние ипостаси “Кино” и так далее, совсем локальная тусовка, – они были немножко несвоевременны. В тот момент мы все находились в андеграунде, все были оппозиционны официальной культуре – и панк-рок к этому ничего, кроме мата, не прибавлял; никакого социального различия между панками и непанками не было. Но к началу 90-х, когда группы эпохи рок-клуба вышли совершенно на другой уровень, появилась новая волна панка – и она уже не принимала того, что было достигнуто музыкантами нашего поколения. Они хотели начать с самого начала. И они пришли в “Там-Там”.
Александр Долгов
Андеграунд 90-х начался с клуба “Там-Там”, который открылся осенью, кажется, 91-го года – где-то в сентябре я заметил на двери станции метро самопальную афишку, которая рекламировала концерт в новом клубе “Там-Там”. Поначалу, кстати, они были бесплатные. Газета Rock Fuzz тогда уже тоже выходила. И когда я туда попал, то постарался взять интервью у Гаккеля. Первое, что я у него спросил: “Правомочно ли называть это место рок-салоном?” Поначалу мне клуб охарактеризовали именно этим словом. Гаккель рассмеялся и сказал: “Рок-притон, а не рок-салон!”
Илья Бортнюк
Я жил на Шевченко, совсем недалеко от клуба, и был такой человек – Олег Малыш, гитарист “Дурного влияния”, одной из самых интересных на тот момент постпанк-групп. Мы с ним зачем-то зашли в “Там-Там”. Это был, по моему, вообще второй концерт в клубе, он еще даже “Там-Тамом” не назывался. После этого я стал туда ходить. Помню, меня Дусер позвал на концерт группы Swindlers, там Кощей играл. И там же присутствовала группа “Пупсы”. И я помню, что возникла такая дружеская драка. То есть она была ненастоящей, а такой шуточной, между рокабиллами и панками. А потом они все братались. “Пупсы”, я считаю, выдающаяся панк-группа была. Они очень много музыки слушали – не только Sex Pistols, а, например, Кейва и Birthday Party, то есть подкованными были. И каждый их концерт был экшном. И каждый заканчивался дракой, настоящей дракой. “Пупсы” вызывали у панков очень мощные эмоции. Потом я с ними в Берлин ездил, это было в 90-м году. Совершенно невероятная поездка. Только-только рухнула стена, мы буквально через несколько месяцев туда приехали. Эта поездка в итоге и погубила группу. Когда они вернулись, почувствовали себя мегазвездами, что в итоге пагубно на них сказалось. С другой стороны, из этого появилась группа Tequilajazzz. В общем, под впечатлением от всего этого я и сам вскоре стал работать в “Там-Таме”.
Валерий Постернак
Мы начали очень много ездить из Кривого Рога в другие города. Надо сказать, никто нигде не работал, тогда можно было на двадцать долларов месяц жить, а еще у нас была репетиционная комната с какой-то аппаратурой, и мы каждый день там утром собирались и до вечера репетировали. Естественно, результат был серьезный, нас стали активно звать на фестивали, и в Каховке нас заметили питерцы. Мы жили с ними на одном корабле. К нам подошел Игорь Березовец, подошел Сергей Наветный – он тогда играл в группе “Стили”. И вот он увидел нас на сцене и говорит: “Перцы! Настоящие перцы!” Это сейчас про RHCP знает каждая пэтэушница, а тогда это было музыкой для интеллектуалов, для посвященных. И Игорь Березовец, который впоследствии занялся Чижом, а тогда просто был промоутером и выискивал новые группы, пригласил нас сыграть в трех питерских клубах. Был ноябрь 92-го года. Мы приехали и сыграли в “Горе”, “Там-Таме” и еще одном клубе, названия которого я уже не помню.
Андрей Алякринский
Я устроился техником в маленькую прокатную компанию, не имея никаких навыков. И первый же концерт, на который я в этой роли попал, был открытием клуба “Там-Там”. Там играла группа “Пупсы” и немецкая группа Hordy-Tordy, совершенно никому не известная. И так я там и остался функционировать и профункционировал все шесть лет существования клуба.
Артемий Троицкий
Могу с уверенностью сказать, что такого места, как “Там-Там”, в России не было и больше никогда не будет. Это было нечто. Преисподняя, реальный ад. С обывательской точки зрения. Грохот, жара, нулевой комфорт, огромное количество народу, очень агрессивная атмосфера. В общем-то, находиться там было тяжело. Было гиперинтенсивное место. Невероятное. Это был клуб, в котором тебя просто давило и раздирало. При этом он был очень мил. Люди там были полны какого-то горячечного энтузиазма. Правда, боюсь, что наркотики тут тоже играли какую-то роль. Хотя знаю, что Сева Гаккель был их категорическим противником. Вообще, что было бы с “Там-Тамом” без Севы, мне себе трудно представить. Там сочетались несочетаемые вещи. С одной стороны инфернальный питерский андеграунд самого грубого помола. С другой – Алеша Карамазов, он же Сева Гаккель, реальный святой, который в этом аду наводил какие-то свои райские порядки. Как это место вообще могло существовать, я не знаю. Но эти два начала там сочетались абсолютно органично. Это одно из самых удивительных мест, в которых я вообще был в своей жизни.
Андрей Алякринский
В течение года “Там-Там” стал абсолютно европейским клубом, чем-то вроде сквота. Группы играли разные; принцип был в том, что не должно быть волосатого хэви-метала и классического русского рока в духе “Аквариума”, “ДДТ” и так далее. А в остальном было вообще все – начиная от абсолютного хиппанства, занудства, подражаний Дилану и заканчивая самыми радикальными проявлениями хардкора, панк-рока и того, о чем мы сами еще не подозревали. Это было откровением – в том числе и для Севы: так он получил свою вторую молодость, едва ли не более бурную, чем первая.
Всеволод Гаккель
Музыка, которая у нас играла, была агрессивна, динамична и находилась совершенно вне контекста русского рока. Люди, которые ее играли, они и жили ведь в очень агрессивное время. Система не учитывала существования молодых людей вообще; мир стал жестоким, работы не было, жилья не было, а были неблагополучные семьи и коммунальные квартиры. В это время в каждом подъезде сидели подростки и бухали или принимали наркотики. Во дворах сидела гопота и практиковала ночные увеселения с криками и мордобоем. Возле каждой станции метро была какая-то ужасная ночная жизнь – пьяные углы, везде орут, ночью стрельба, чертовщина. Хаос. Как в кино показывают Америку 30-х годов. Понятно, что тех молодых людей, которые приходили к нам, тоже можно было бы вполне назвать гопниками. Потому что они приходили подраться – ну, в том числе и подраться. Но я все-таки видел, что у этих людей есть если не тяга к прекрасному, то способность и желание реагировать на происходящее. Если они вообще приходят в музыкальный клуб, то это все-таки не те люди, которые шляются по спальным районам и бьют друг другу морды.
Андрей Алякринский
“Там-Там” не был оппозицией чему-то, даже тому же русскому року. Это были другие люди, которые играли другую музыку для других людей. И совершенно не обязательно панк-рок – все забывают про тамтамовские четверги, когда играл джазовый авангард или акустические концерты. Виолончелист и барабанщик – или чувак на гитаре и арфистка. Абсолютно тихие концерты, очень мало народу. Разбрасывали по залу подушки, и все сидели на этих подушках и слушали.
Всеволод Гаккель
Когда я запустил клуб, я категорически отказался от любой рекламы: мне хотелось оставить андеграунд в том виде, в котором он интуитивно себя реализует. Он ведь повинуется законам среды: все те люди, которые ощущают те же самые вибрации, это место сами найдут. И другим моим правилом было не вмешиваться. Мне было уже тридцать пять, я просто не имел на это права – я позволил им существовать так, как они знают и умеют в свои двадцать. Я всегда был очень легким в общении человеком. Но, если я вижу, что меня много, я отойду – пускай молодые люди играют в свою игру. В “Там-Таме” меня все любили, я был всегда окружен большим числом людей, у нас была команда, мы там готовили еду, жили – ну, такая коммуна. Но я при этом прекрасно знал, что, если я уходил, всем было гораздо лучше. У всех было по своей комнате. Огромное здание было, двухэтажное, со своей кухней, с переходами-переборами, человек двадцать там жило, многие независимо друг от друга. Но, когда я приезжал в дни концертов, все так – чик! – вылезали из нор, происходили какие-то процессы, начинались выступления, приходило по три-четыре сотни человек.
Леонид Новиков
Вход всегда стоил пять рублей. Как-то раз, когда Гаккель поехал с “Химерой” в Германию, эти подлецы сделали десять, но, как только Сева вернулся, снова стало пять. Какие-то афишки и флаера были, но по большому счету все это не рекламировалось. Я всегда ходил, не зная и не подозревая, что вообще будет играть. И я не помню концертов, где бы я скучал. Отбор групп проходил так. “Можно у вас поиграть?” – “Можно. Все что угодно, только не треш и не песни у костра”. Для этой тусовки слово “рок-клуб” было такой могильной плитой.
Михаил Борзыкин
Атмосфера в “Там-Таме” была максимально подпольной, играли какие-то панковские группы. Звук был не очень. В фойе шаталась масса пьяного и обдолбанного народа, кто-то блевал в туалете. Словом, обычный такой набор. Шприцы какие-то валялись. С другой стороны, я с уважением относился к Севе Гаккелю как к человеку, отдавшему себя на заклание андеграунду. То, что вообще этот клуб существовал, для меня было большим удивлением. Как это было возможно, я не понимаю. Все-таки должна была проявлять себя милиция, да и капитализация творчества уже тоже вовсю шла. А тут был клуб, который финансово ничего не приносил, в нем не было ни кабака, ни стриптиза, и он тем не менее как-то существовал. И долго продержался, невзирая на это.
Сергей Богданов
Все это было просто – Гаккель ведь сам из хиппи, так что у них там был просто сквот. Да и народ там был не особо буйный, но так как все это было под общежитием милиции, то не редкость была, что менты спускались после каких-нибудь неудачных вечерних смен и отоваривали всех, кто там находился. Просто стучались в дверку, добрые хиппи открывали, и им в жало там насовывали. Но потом Севе удалось закорешиться с двумя более-менее вменяемыми полицаями, и так они всю жизнь и провели в “Там-Таме” – сидели на входе и спали.
Видимо, благодаря своей непостижимости (панк-клуб, расположенный под милицейским общежитием и возглавляемый бывшим виолончелистом “Аквариума”, – абсолютный, если вдуматься, оксюморон) “Там-Там” быстро превратился в миф – а миф, в свою очередь, стал менять реальность. Сюда ехали из Москвы, провинции и Украины, чтобы посмотреть, как такое бывает, и показать себя; в некотором очень извращенном смысле “Там-Там” можно даже было назвать светским местом. Здесь за один вечер могла возникнуть и распасться группа, не оставив после себя ничего, кроме неправдоподобных воспоминаний у тех, кому посчастливилось ее увидеть. Здесь могли неподалеку друг от друга звучать регги и хеви-метал, авангард и примитивный панк-рок. Здесь был свой язык, своя манера поведения, своя мода и даже в некотором смысле своя валюта – в виде ящиков с пивом, которыми нередко расплачивались с музыкантами. Здесь легко было получить несколько синяков в слэме или внезапно оказаться жертвой антинаркотического рейда – впрочем, тех, кто оказывался таковой заслуженно, тоже хватало. И все же главной в “Там-Таме” все равно была музыка – свирепая, яркая и дотоле неслыханная в России музыка, которую как будто сами порождали и подталкивали к жизни обугленные стены клуба.
Дмитрий Спирин
Такое место не могло бы возникнуть в Москве ни при каких раскладах, никогда. Клуб располагался на Васильевском острове, в темном и узком питерском районе. В неотапливаемом, продуваемом всеми ветрами, сравнительно большом помещении было кошмарно неуютно, по крайней мере нам, ребятам-москвичатам. Посетители заведения производили впечатление бычья, нацепившего на себя зачем-то панк-лохмотья и отрастившего волосы. Все они выглядели тотально неприветливо и агрессивно, что вместе с мрачными стенами и общим нерадостным антуражем создавало крайне гнетущее ощущение. Атмосфера была недружелюбной, это чувствовалось в каждом взгляде, в каждом движении. Казалось, вот-вот, и эти люди превратятся в жутких монстров и каждый попытается сожрать другого. Когда я слышу от парней из Tequilajazzz или Marksheider Kunst об “отличных деньках времен “Там-Тама”, я просто охуеваю. Насколько же мы разные, жители двух столиц. В ноябре 93-го “Там-Там” был натуральной клоакой, где торговали кислотой перед входом в клуб на глазах у охраны (ментов после службы), в фойе, зале, туалетах и на лестнице. Я видел людей с огромными двадцатикубовыми шприцами, которые отпускали другим дозы прямо в рот из этих самых шприцев. Никто даже не думал шифроваться, создавалось впечатление, что фенциклидин в Питере легализован. Подумать только, “кислая” у них стоила дешевле, чем водка в ларьке, и считалась “бычьим” кайфом! Мы не могли себе такого даже представить. То, за чем мы гонялись дома по полдня, наводя шифры и боясь запалиться, то, что считалось у нас чуть ли не символом какого-то психоделического причащения, здесь отдавалось за копейки. Люди проливали стафф на землю и лишь морщились. Наркотики не делали этих людей ни мягче, ни расслабленнее. Они нажирались PCP как водярой и мрачно охуевали друг от друга. Думаю, этого описания должно быть достаточно для понимания того, откуда растут ноги у огромного количества групп из Санкт-Петербурга. Этот город ставит такую печать, которую невозможно смыть никогда. А “Там-Там” был натуральным порождением Питера, порождением дьявольским и кошмарным.
(Из книги “Тупой панк-рок для интеллектуалов”)
Андрей Алякринский
Часто бывает, нарываешься на воспоминания каких-то непонятных людей, которые пишут, какая жесть была. Для меня было не так – “Там-Там” был моим домом, как и для всех, кто там работал. Это было место с очень светлыми идеологическими задачами, это была свобода. Плюс это была колоссальная школа – и жизни, и в профессиональном смысле. Мне “Там-Там” никогда не казался особо брутальным и злым местом – а я видел это все изнутри. Я помню огромное количество великолепных концертов, от которых сносило башню: это было круто, свежо, ново. С тех пор не было такой яркой волны, и ощущений таких я с тех пор не испытывал.
Виктор Волков
Мне дали номер Севы Гаккеля, а я тогда даже не знал, кто это такой, был вне контекста “Аквариума”, русский рок не слушал. И вот я дозвонился до Севы: “Я из Азова, играю как Джими Хендрикс, демо-записей нет. У вас можно сыграть?” Сева отвечает: “Перезвоните через неделю”. Я звоню, и он предлагает нам сыграть. Это был 92-й год. С этого момента все и началось. Мы приехали на два дня раньше концерта, играли рокабилльщики, очень зло и рьяно. Тусовка была соответствующая – панки с ирокезами. Наш басист через пять минут выбежал из зала, у него был настоящий шок. “Витя, куда ты нас привез! Я для этих ублюдков играть не буду”. В конце концов убедили его кое-как сыграть. Концерт у нас был безумным, эти панки прыгали до потолка, я такого никогда не видел. А мне было уже тридцать пять лет. Потом мы сыграли, музыканты уехали, а я остался и стал ходить в клуб. В конце концов напросился к Севе на чай, и он говорит: “Я могу предложить тебе только одно: пиво продавать”. Надо сказать, там уже была эта практика, продавали пиво из-под полы, нелегально. Я поначалу удивился: как же так, я же музыку приехал играть, а предлагают продавать пиво. Но деваться было некуда, и я согласился. И так неожиданно для себя вписался в тамтамовскую команду.
Валерий Постернак