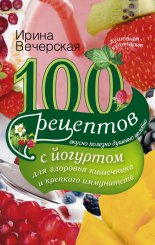Поднимите мне веки Елманов Валерий

«Не иначе как боярская дочка, а папашка из начальных бояр, тех кто в Думе штаны протирал», – сделал я вывод.
Она и тон с самого начала взяла приличествующий не столько просительнице, сколько чуть ли не обвинительнице.
Мол, государь Борис Федорович, когда взял на себя имущество Захарьиных-Юрьевых, посулил ей, что обитель Христовых невест хоть и основана Никитой Романовичем, чьи сыны имели злой умысел на царскую особу, но ни в чем недостатка ведать не будет.
Более того, он же и намекнул ей тогда, что со временем передаст само подворье монастырю. Впрямую сказано не было – врать она не собирается, но вскользь он обронил что-то похожее, а потому я должен...
Выговаривала она мне долго, пока наконец не высказала все, что накипело у нее на душе, после чего устало вздохнула и сурово уставилась на меня.
Да уж, не совсем удачный способ она избрала, чтоб выколачивать деньги. Потому и отказывают ей все. Выслушав такие требования, да еще высказанные столь категоричным тоном, навряд ли кто захочет помочь монахиням – мол, пусть ваш небесный жених и выручает своих земных невест.
Честно говоря, и я отказал бы, выслушав ее тогда, в первый раз, но, по счастью, мы с нею почти не разговаривали, а теперь, учитывая мою задумку...
Одно понравилось – ни одного намека на услугу, оказанную ею в укрывательстве Годунова, она себе не позволила, то ли посчитав, что я за нее уже достаточно уплатил, то ли сочла ниже своего достоинства упоминать о таком, – иначе получался почти торг.
Свою ответную речь я начал с приятного.
Мол, мысли о том, чтобы подарить обители свое подворье на Никитской, я не оставил, хотя и продолжаю пребывать в колебаниях. Дескать, с одной стороны, оно у меня уже приготовлено как подарок, но с другой...
Им же поди и впрямь тесновато, а это не дело. Мало того что жизнь женщин на Руси нынче вообще тяжела, так хоть в монастыре, во время молитвы, обращенной к небесам, они не должны думать о том, чтоб поскорее пообедала первая смена, да и вообще, такая теснота изрядно отвлекает от дум о святом, вечном и...
Затем, все так же вежливо улыбаясь, перевел разговор на мирскую жизнь страдалиц, иным из которых келья оставалась единственным убежищем, где они могли чувствовать себя относительно спокойно, не опасаясь нескромных мужских притязаний на свою честь.
Не знаю, что там приключилось с нею самой, но, судя по участившемуся горячему поддакиванию, вроде бы я сумел задеть в ней нечто наболевшее.
Очень хорошо. Значит, можно переходить к основному вопросу.
Тут пришлось действовать исключительно намеками. Как, мол, насчет того, чтобы укрыть у себя на малый срок некую деву, страдающую исключительно через свою ангельскую красоту?
Особо наглеть я не собираюсь, а потому попрошу приютить ее всего на одну, от силы на две ночи, а далее вывезти ее в сопровождении сестер из обители за пределы Москвы в более отдаленное укрытие.
Честно говоря, этой даме прокурором бы работать, а не настоятельницей – сразу возникли беспочвенные подозрения, от которых я еле-еле успевал отбиваться.
Нет, не собираюсь я обманом увести оную деву от родителей, даже и в мыслях не держал. И греха у меня с нею не учинилось, и не собираюсь я измышлять непотребное коварство...
А уж когда последовал второй мой намек – о том, чтобы на время подменить оную деву, дабы в течение нескольких дней никто не заметил ее отсутствия, она и вовсе решительно встала, вознамерившись уйти. Еле удержал.
Словом, битый час у меня ушел только на то, чтобы убедить в чистоте своих помыслов.
Пришлось даже, хоть и рискованно, взяв с нее обещание молчать, чуть приоткрыть завесу тайны, намекнув, как зовут эту несчастную деву и по какой такой причине – нежелание выполнять волю государя и выходить замуж за князя Дугласа – она нуждается в укрытии.
Оказывается, я зря опасался, что она испугается гнева Дмитрия. Ничего подобного. Пожалуй, как бы не наоборот, поскольку сразу после этого стала куда уступчивее.
Единственное, что ее смущало, – отсутствие нужной кандидатуры на временную замену, зато во всем остальном мне была обещана помощь и поддержка.
Разумеется, я и сам понимал, что одного согласия матери игуменьи мало – нужна хорошая исполнительница задуманной мною мистификации, но в том-то и дело, что таковая, едва только я подумал о Никитском монастыре, мне моментально припомнилась.
Звали ее... Любава.
Да-да, та самая, которую еще год назад по моей просьбе отыскал Игнашка, чтобы совратить шотландца и по принципу клин клином выбить из него любовь к царевне. Вот только не получилось у нее ничего с Дугласом, который даже не замечал ее.
Не получилось, несмотря на весь профессионализм, поскольку притащил ее Игнашка, можно сказать, со средневековой панели.
Бедная деваха даже расстроилась, и не столько оттого, что не получит обещанного вознаграждения, сколько от потери уверенности в своей неотразимости, каковую уверенность она попыталась немедленно восполнить за мой счет.
Надо признать, что получилось у нее это довольно успешно. Так успешно, что даже сейчас, по прошествии более чем года, я несколько засмущался, вспоминая жаркие ночки.
Увидел я ее случайно, когда приезжал забирать из монастыря Федора. Удивилась Любава моему появлению очень сильно, да я и сам изумился, когда застал ее заносящей кипяток в небольшой флигель, где мать Аполлинария распорядилась разместить царевича.
Изумился настолько, что поначалу даже глазам не поверил, решив, что ошибся. Уж очень не вписывалась бедовая девка в это богоугодное место.
И дело даже не в прежнем ее занятии, тем более мне не раз доводилось слышать, что бывшие проститутки становятся замечательными и верными женами. Более того, они еще зачастую оказываются жутко благочестивыми ханжами – наверстывают, что ли?
Словом, жизнь – штука сложная, и бывает в ней всякое, в том числе и такие перерождения, но в данном конкретном случае об этом не могло быть и речи.
Не те у нее были глаза, чтобы утверждать что-то такое. Скорее уж напротив – два зеленых зеркала ее души говорили о прямо противоположном – прежняя она, такая же, как и была.
Тогда почему на ней ряса и все прочее?
Нет, я явно что-то спутал или недопонял, тем более что мать Аполлинария, находившаяся рядом, назвала ее Виринеей.
Но тут она сама затеяла разговор, в ходе которого выяснилось, что никакой ошибки нет и мои глаза меня не обманывают.
Правда, наша беседа была короткой, закончившись чуть ли не через минуту – и игуменья мешала, да и я торопился забрать Федора, которого надо было срочно отвезти в Запасной дворец, чтобы наглядно продемонстрировать его плачевное состояние командирам стрелецких полков.
О ней я и завел речь, пока мы ехали с игуменьей в ее монастырь. Та с недоумением уставилась на меня.
Что-либо пояснять не имело смысла, тем более что, судя по ее лицу, настоятельница прекрасно знала, чем занималась до прихода в монастырь эта пышнотелая послушница, которая, по словам матери Аполлинарии, так и не сумела отринуть от себя бренные и греховные помыслы, а потому все откладывала и откладывала свой постриг, ссылаясь на неготовность.
Сидя в возке, я еще раз прикинул все как следует, сравнивая двух девушек.
Пышнотелая...
Да, габариты вроде почти сходились. Возможно, Ксения на размер-другой крупнее, но особо вглядываться никто не станет, к тому же ряса – одеяние бесформенное, талии и прочего не имеет, а потому попробуй разгляди, что там под нею скрывается – восемьдесят килограммов или восемьдесят пять.
Лицо...
Тут, конечно, тяжелее.
Поставить рядом, и вряд ли кто решит, что они сестры.
Например, цвет волос. Ну с ним ладно – перекрасить недолго. А как быть со всем остальным?
Имеется у них некое сходство, хотя тоже не бог весть, в овале лица, очертаниях бровей и разрезе глаз... А вот цвет их вновь совсем разный – у царевны черный, а у Любавы пронзительно-зеленый, эдакие два изумруда.
Вот это и впрямь беда – тут уж никак не замаскируешь.
Я вначале помрачнел, но спустя минуту припомнилось, как сама Любава, еще в то время когда выполняла мой спецзаказ по Дугласу, как-то поинтересовалась у меня насчет цвета глаз. Мол, может, немцу, как она называла всех иностранцев без разбора, не по душе яхонтовые зенки, а то она их запросто перекрасит.
Я тогда ей ответил, что у зазнобы Квентина черные, и очень удивился: неужто в начале семнадцатого века косметическое искусство на Руси добилось таких высот.
– А ты что, и в самом деле можешь изменить их цвет? – изумился я.
Она в ответ лишь надменно фыркнула, снисходительно посмотрела на меня – ох уж эти тупые мужики – и уже к вечеру была...
Да, точно, именно черноглазой...[26]
Отлично!
Получается, что и за это беспокоиться не надо.
Я вновь повеселел и бодро улыбнулся матери Аполлинарии, которая, постепенно входя во вкус авантюры, успела пожаловаться мне на ряд технических трудностей нашего совместного проекта.
Дескать, приютить – нет проблем, а вот с вывозом за пределы Москвы, увы, – нет у нее возка в монастыре. Хоть и неприлично настоятельнице расхаживать по московским улицам пеше, однако она вынуждена это делать...
Намек я понял, принял к сведению и... пообещал отдать ей насовсем вот этот весьма приличный крытый возок, в котором мы с нею катили.
Поерзав по мягкому сиденью, она благосклонно кивнула, давая понять, что согласна принять от меня сей дар, и... сразу завела другую тему – про коней.
– Вовсе клячи, – кратко охарактеризовала она свой гужевой транспорт, – как есть клячи. До ворот Бела города довезут, а вот до Скородома – навряд ли.
В ответ я посулил ей двух жеребцов и... порадовался, что обитель находится достаточно близко, ибо больше выжать из меня она ничего не успела, хотя явно намеревалась, поскольку выглядела несколько разочарованной скорым окончанием поездки.
– Вот уж нипочем не поверю, княже, что ты за мной сюда явился, – чуточку насмешливо, но с какой-то потаенной горечью в голосе протянула Любава, с которой, дабы не смущать остальных невест Христа, мы встретились все в том же флигельке, где несколько дней назад укрывали Федора.
Мать игуменья, правда, уходить не хотела, настаивая на своем присутствии, но я добавил в голос металла и так повторил свою просьбу поговорить с этой послушницей наедине, что протестовать после этого она не решилась.
– Ну, здравствуй, Любава, – вздохнул я. – А явился я сюда именно за тобой. – И торопливо, чтоб чего не подумала, уж очень ярко блеснули ее зеленые глазищи, пояснил: – Помощь твоя понадобилась... одной девушке.
– Вона как, – кивнула она и печально улыбнулась. – Понимаю.
– А каким ветром тебя сюда занесло? – сразу перевел я разговор на нее – хотя ради приличия следовало бы немного поинтересоваться самой Любавой.
– Из-за тебя, княже, – не стала таить она. – Помыкалась я с месяцок-другой опосля нашего расставания, ан душу не обманешь. На купчишку какого гляжу, а тебя вижу. Веришь ли, так ни разу ни с кем и не оскоромилась. Потому и решила тут свою греховную плоть утишить. Мыслила, в тишине да покое авось и угомонится сердечко. Правда, по первости куда как тяжко приходилось – уж больно прикипело у меня все к тебе.
Вот уж никогда бы не подумал, что я такой неотразимый донжуан. Даже не по себе стало слышать такие откровения, а она меж тем продолжала:
– Мне б поране от тебя убечь али вовсе после первой нашей ночки, да я, глупая, все откладывала, надеялась бог весть на что, вот за то и расплачивалась здеся. Считай, сама на себя епитимию возложила. Токмо скушно тут, – пожаловалась она, с детской непосредственностью перепрыгнув с одной темы на другую.
– Монастырь ведь, – пожал плечами я, не зная, что еще сказать.
– Уйду я из него, – мрачно пообещала она. – Славно, что ты тут ныне очутился, как раз вовремя. Авось развеешь тоску-печаль. – И спохватилась: – Да ты о себе хоть чуток поведай. Помнится, ты и веры другой был, а ныне вроде как крестился. Эвон даже имечко сменил на нашенское. – Нараспев протянув с полузакрытыми глазами, словно звала или подманивала: – Федор Константи-ины-ыч.
– Да и у тебя новое, – заметил я.
– Старое оно, – усмехнулась Любава, – токмо ты его ранее не слыхал, потому как оно крестильное, да и не нравилась мне никогда ента Виринея. Так что, поведаешь, как жил... без меня, али как?
– Обязательно расскажу, только потом, – кивнул я и решил, не откладывая в долгий ящик, перейти к сути своей просьбы.
Таить ничего не стал – бессмысленно. Разве что причину столь горячего желания Дмитрия Иоанновича оставить Ксению в Москве назвал не подлинную, а официальную – для ухода за матерью.
– Ну и еще что-то вроде заложницы, – добавил я.
Но Любава – девка смышленая и остальное вмиг додумала сама:
– А там от заложницы до наложницы всего-то одна буквица, и оборонить девку некому, – сделала она вывод и вопросительно уставилась на меня.
Я не возражал, но и не подтверждал, во всяком случае вслух. Лишь тяжело вздохнул, продолжая молча смотреть на нее, но ей и того хватило, чтобы все понять.
Однако Любава не была бы Любавой, если бы упустила столь удобный случай подколоть.
– Ой и высоко ты ныне залетел, княже, – лукаво заметила она. – Выше-то, я чаю, некуда. Эвон кого себе подобрал – царевну, а их ныне на Руси одна-разъединая и есть.
– Да не о том ты подумала! – возмутился я. – Я же не украсть ее хочу, а спасти! И вообще, у нее жених имеется.
– О том, о том, – ласково, как несмышленышу, улыбнулась она мне. – Это со мной твое сердечко во льду пребывало, а ныне зрю – огонечек там возгорелся.
Ну и мастерицы эти женщины вгонять нашего брата в краску, даже если мы ни в чем не виноваты, – вот как меня сейчас.
И потом, какая разница – чего там у меня возгорелось или не возгорелось, тем более что есть Квентин и становиться шотландцу поперек дороги было бы с моей стороны самым настоящим свинством.
Но объяснять ничего не стал.
Во-первых, некогда, во-вторых, все равно ей не понять мужской дружбы, которая, если настоящая, должна быть превыше всего, а в-третьих, не ее ума это дело – рассуждать про огоньки, когда я... и сам о них знаю.
– Так ты согласна? – хмуро спросил я.
– Чтоб тебя удоволить, я на все согласная, – пропела Любава. – Я, чаю, подсобишь опосля всего домик крохотный прикупить?
– Помогу и с домиком, и с серебром, – пообещал я твердо и... отвел глаза в сторону – было стыдно.
Судя по вопросу, бедная Любава так до конца и не поняла, на какую авантюру дает согласие и что ей грозит после разоблачения, которое неминуемо – вопрос лишь во времени.
Честно говоря, я и сам не представлял, что может учинить над бедной послушницей впавший в гнев Дмитрий, но допускал все что угодно, тем более что из реальных виновников обмана налицо только она одна.
Мы-то в Костроме, а Марию Григорьевну трогать и пальцем не моги, не говоря уж о том, чтоб подвесить ее на дыбу, – царица-мать, хоть и вдовая.
Зато Любаву – самое то.
Одна надежда, хоть и весьма хлипкая, – монашеская ряса. Может, и защитит принадлежность к Христовым невестам отчаянную девку, а там как знать...
И говорить ей об этом нежелательно, а то испугается и откажется, но... уж больно тяжело было на сердце, и я все-таки решился предупредить:
– Только это очень опасно. Когда Дмитрий Иоаннович узнает о подмене, а он обязательно узнает – не так уж вы и похожи, то тут может быть всякое.
– Всякое – это хорошо... – загадочно протянула она. – Может, мне всякого токмо и не хватает.
– Речь не о том всяком, которое... – попытался пояснить я Любаве, или, как ее тут именуют ныне, сестре Виринее.
– И я не о том, – подхватила она. – Хотя что там толковать – рано тебе еще. Потом поймешь. – И пообещала: – Вот огонек твой в полную силушку войдет, тогда и уразумеешь, о чем я ныне помыслила. – И, сжалившись, добавила: – Да ты не бери в голову. Лучше сказывай, чего теперь делать.
Я спохватился и вновь постарался быть предельно кратким, уложившись в считаные минуты.
Любава согласно кивнула, уточнив:
– Стало быть, мне ныне за подаянием во дворец тот постучаться?
– И не одной, – напомнил я. – Куда лучше, если войдут пятеро, а выйдут четверо.
– Не сумлевайся, стукну, – заверила она и вскользь поинтересовалась: – Тебя-то там хошь разок узрю ли?
– А как же. Буду я в том тереме, – кивнул я. – Обязательно буду.
– Вот и славно, – улыбнулась она. – Тогда скоро постучим. – И весело засмеялась. – Да не боись. Ныне-то мне и впрямь куда полегше – отболело уж, так что я теперь ученая и сызнова в твою постелю не нырну, чтоб, чего доброго, прежнее не полыхнуло. Уж лучше к царевичу...
– К кому?! – вытаращил я глаза, решив, что ослышался.
– А что, – повела она плечом. – Девка я справная, да и он... Хошь и мало я его повидала – всего ничего, – а запал он мне в память. – И звонко, заливисто засмеялась.
«Ну и юмор у нынешних кандидаток в Христовы невесты, – вздыхал я по пути к Запасному дворцу. – И ведь как ловко разыграла. Даже я повелся, разубеждать кинулся, чтоб не вздумала. Ох и Любава...»
Но зато в который по счету раз пришел к выводу, что именно она – та, которая мне нужна. Эта отчаюга сыграет все как надо, лишь бы от усердия не перестаралась.
Разговор с Федором получился тяжелым. Радовало только одно – отсутствие Марии Григорьевны.
Она последнюю пару недель, еще до моего отъезда в Серпухов, вообще по возможности старалась избегать общения со мной.
Уж очень ей было неприятно видеть в моем лице последнюю несбывшуюся надежду усадить сына на царство, которую я в ней вначале возродил, но в тот же день, всего несколько часов спустя, безжалостно порушил.
Да тут вдобавок взбунтовались и собственные дети, решительно встав против, и опять-таки виной тому был не кто иной, как я.
Не знаю, какая из этих причин была важнее, но факт остается фактом – всякий раз, узнав, что я появлюсь, Мария Григорьевна, сославшись на внезапное недомогание, не выходила к столу. Более того, при моем неожиданном появлении она почти сразу молча вставала и уходила к себе.
Впрочем, мне и без царицы-матери пришлось несладко.
Поначалу Годунов, едва узнав о царском повелении, в сердцах даже схватился за рукоять сабли и срывающимся голосом заявил:
– А вот таковского терпети силов у меня не сыщется, княже, и уговоров твоих я ныне и слухать не стану. Хошь он ныне и государь, а... – И, не договорив, напустился на сестру: – А ты что молчишь?! Али тебе уж все равно стало?!
Лицо Ксении побелело, но держалась она на удивление, и тон ее голоса, хотя и холодно-безжизненный, внешне оставался ровным и даже рассудительным.
– Коли князь Мак-Альпин молвит, что так надобно, я перечить не стану. Да и то взять – ныне в первую голову потребно хошь тебя одного подале из Москвы спровадить, а о нас что сказывать. Кто ведает, может, и смилостивится господь, ежели мы сами, яко агнцы, на жертвенный алтарь возляжем. – И пытливо спросила: – Так что поведаешь, князь? Я пред любым твоим словом ныне смирюсь.
«Странно. Вроде бы она меня раньше всегда по имени-отчеству звала, – промелькнуло вскользь, – а сейчас как-то сухо, Мак-Альпин. И не княже, как обычно, а князь – вроде как тоже почти официально», – но тут же выкинул это из головы.
Нашел о чем думать. И без того у нас всех «цигель-цигель ай лю-лю», как говорил один из персонажей развеселой гайдаевской кинокомедии.
– Вашу матушку и впрямь придется оставить, – вздохнул я и беспомощно развел руками, давая понять, что тут я бессилен, но сразу постарался успокоить брата с сестрой относительно перспектив Марии Григорьевны: – Уверен, что Дмитрий без причины не сделает ей ничего худого – просто побоится. Да и зачем ему попусту злить своего престолоблюстителя? А причин мы ему не дадим – козней чинить не станем, злое умышлять не будем, заговоров готовить тоже, ибо забот и без того полон рот, верно?
– Верно, – кивнул, соглашаясь со мной, Годунов. – А... с Ксюшей?
– А вот Ксению Борисовну Дмитрий Иоаннович не получит, – твердо произнес я.
Царевна глубоко вздохнула, и лицо ее вновь слегка порозовело.
– Так ведь не уймется государь и братца моего не отпустит. Что ж вы тогда, за сабельки возьметесь? Может, и впрямь, Федор Константиныч, ни к чему вам из-за меня одной почем зря пропадать? – пропела она.
Я сразу подметил, что и голос ее тоже схож с Любавиным, разве что у Ксении чуть пониже тембр. Зато интонации и манера говорить один в один, а это куда важнее.
Вдобавок, уж не знаю почему, порадовал и ее возврат к прежнему обращению, без всяких князей. Даже удивительно, что такой пустяк отчего-то вызвал столь сильное удовольствие, хотя если призадуматься, то какая разница, ведь я и то и другое, ан поди ж ты...
Но в сторону сантименты.
– Впрямую нам перечить ему, даже если бы в Москве сейчас находился весь наш полк, и впрямь глупо, – согласился я, – поэтому придется схитрить и сделать вид, что подчинились. Через три дня Мария Григорьевна и Ксения Борисовна прилюдно попрощаются с дворней, со своим сыном и братом, после чего у всех на глазах сядут в возок и поедут в нем в Вознесенский монастырь, где займут свои кельи, после чего возок вновь вернется на подворье.
Брат с сестрой недоуменно переглянулись и оторопело уставились на меня.
– А в чем хитрость-то? – наморщил лоб Годунов.
– В том, что сядет в возок одна Ксения Борисовна, которая истинная, а выйдет из него вместе с Марией Григорьевной, когда он остановится в монастыре, совсем иная.
– Уличат, – скептически заметил Федор. – Ее ж там сколь раз монахини видели.
– А вот и нет, – сразу возразила его сестра. – Мы хошь и ездили по монастырям, а вот в Вознесенский матушка мне воспретила захаживать – уж больно там много сестер во Христе из бывших женок бояр, коих мой батюшка... – И смущенно замялась. – Пужалась она, что сглазить меня по злобе могут. Потому я в него, да еще в Никитский, кой отцом ворогов наших основан, ни разу не наведалась. Вот в Зачатьевском была, в Алексеевском, в Варсонофьевском, в Новодевичьем...
– Тогда совсем замечательно! – обрадовался я. – К тому же мнимая царевна будет в слезах, накрашена и вдобавок спрячет лицо на груди у своего горячо любимого брата в поисках утешения. Так ты ее и доведешь до кельи, в сопровождении двух прислужниц, которые пойдут спереди, закрывая от посторонних глаз, где и оставишь.
– А как же... – вновь не понял Федор, но мягкая ладошка сестры умиротворяюще легла на руку брата, и он умолк, продолжая слушать.
– В прислуги определим самых молчаливых, которые умеют держать язык за зубами, причем возьмем их не из дворни, а из монахинь, но Никитского монастыря. И будет она сидеть в этой келье безвылазно, ибо захворает от разлуки с братцем и от таких тягостных перемен в своей жизни.
– Ну хорошо, это все мы о подмене речь ведем, а настоящая куда денется? – не выдержал Годунов.
– Говорю же – в возке останется. Не можешь ведь ты, царевич, без ратников выезжать – не по чину. А в монастыре им делать нечего, так что они останутся ждать тебя возле возка, а заодно постерегут, чтоб в него не заглянули посторонние. Далее же будет так... – И я торопливо изложил им дальнейший замысел.
– Ишь ты, – покрутил головой Федор, оценивая всю замысловатость закрученного мною сюжета.
– А на следующий день поутру крытый возок с матушкой настоятельницей и Ксенией Борисовной выедет из столицы в сторону Новодевичьего монастыря. Там Москва-река делает большущий изгиб, вот на нем через десяток верст царевну будет ждать мой струг[27], – закончил я расклад своего причудливого пасьянса.
– Как к Новодевичьему? – удивился Годунов. – Мы же вниз по Москве, да опосля по Оке сбирались, а ей, выходит...
– Ты должен быть чист перед Дмитрием, – напомнил я. – Стало быть, ехать ей надлежит одной – только мои люди и я. Но беспокоиться нечего. Там помимо моей ключницы для нее будут аж две прислужницы, так что ей вполне хватит. А сам ты знать ничего не знаешь, ведать не ведаешь.
– А почто я тебя отправил иной дорожкой? – поинтересовался Федор.
Я замялся. А действительно, почему это я так поеду? Прикупить по пути что-то для Костромы? Несерьезно. Все что надо я мог приобрести и тут, в Москве. Тогда...
– А поклон передать патриарху Иову, – тихонько вымолвила царевна. – Он как раз в Старицком Успенском монастыре пребывает.
Я с восхищением посмотрел на нее. Мало того что красавица неописуемая, так еще и умница, каких днем с огнем. И такое сокровище достанется этому обалдую! Обидно, честное слово! Он же...
Но и тут додумывать не стал, а то еще дойду черт знает до чего. И без того уже нехорошие мысли то и дело приходят в голову – только успевай отгонять. Не был бы он мне другом, тогда...
Но свой восторг перед ее находчивостью выразить не преминул, заявив, что она гений. Ксения Борисовна сразу смущенно потупилась, но потом вскинула голову и с вызовом посмотрела на меня.
«Я еще и не то могу», – явственно читалось во взгляде.
«Кто бы сомневался, а я тебе верю без доказательств», – ответил я.
– Все одно – увидят в дороге, – задумчиво протянул царевич. – Опять же ентот десяток верст одним... А ежели...
– Никаких ежели, – отмел я его возражения. – И ехать одним тоже не придется. Возничим будет один из наших гвардейцев, который и станет их охранять, да и то всего пару верст, а далее возок будут ждать десяток самых надежных наших ратников. Они и проводят до струга. Да, потом, когда я повезу ее, нам действительно нельзя будет останавливаться в больших городах, но это уже пустяки.
– А в пути яко быти? – уточнил он.
– Нам с тобой, Федор Борисович, трудности не в диковинку, – я весело подмигнул Годунову, намекая на учебу в летнем полевом лагере, – а для Ксении Борисовны, ссылаясь, что царевич привык к неге, мы сразу, еще до отплытия из Москвы, приготовим удобный и уютный ночлег на том самом струге, который ее повезет.
Брат радостно кивнул и довольно потер ладоши, но ликование длилось недолго, и улыбка тут же сползла с лица.
– А как же... – неуверенно напомнил он мне. – Как же государь-то? Он ведь не слепой.
– Потому и затеяно мною именно так, – пояснил я. – Как раз на тот случай, если он сам приедет к Запасному дворцу поглядеть, как выполняется его распоряжение. А потом, когда Ксения Борисовна скажется хворой, у нас будет запас дня в три-четыре. К тому времени мы выйдем на Волгу, а там вниз по течению, да с парусом... Словом, догнать нас нечего и думать.
– Все одно – вернуть потребует, – угрюмо пробубнил Годунов. – И спрос учинит, да таковский, что мало никому не покажется.
– Так ведь плыть она будет отдельно, – напомнил я, – поэтому с тебя у него спросить никак не получится. И вообще, поручил он мне, затея моя, везу ее я, так что и весь спрос с меня, – весело подмигнул я ему. – Призовет к ответу – так тому и быть. Помнится, я уже как-то говорил тебе, царевна, что есть женщины, ради которых стоит драться...
Она потупилась, мгновенно покраснев, но потом все-таки насмелилась, взглянула на меня искоса и еле слышно уточнила:
– Неужто и впрямь тако обо мне мыслишь?
– Не о тебе, – покачал головой я. – Ты, Ксения Борисовна, относишься к другим женщинам... ради которых... стоит умереть...
Она зарделась еще сильнее – куда там румянам, но вдруг испуганно вздрогнула и отчаянно выкрикнула:
– Нет!
Я непонимающе уставился на нее. Федор тоже.
– Нет! – во второй раз прозвенел ее голос. – Я на таковское не пойду. – И умоляюще взяла меня за руку. – Сам помысли, Федор Константиныч, яко мне опосля с таким камнем на сердце жити, ежели ведать буду, что твоя погибель...
Я слушал и не слышал ее, видя перед собой лишь ее беззвучно шевелящиеся губы, которые совсем рядом, и встревоженные, наполнившиеся слезами глаза.
Ее глаза.
Да что ж со мной творится-то?!
И вообще, не я ли совсем недавно, всего час назад, сидя близ Любавы, размышлял о мужской дружбе, которая о-го-го и всякое прочее?
Так куда это делось-то?!
Я грустно посмотрел на нее.
- На тебя, моя душа,
- Век глядел бы не дыша,
- Только стать твоим супругом
- Мне не светит ни шиша!..[28]
Но любимый Филатов, которого я процитировал себе в качестве напоминания, на сей раз не подействовал. Скорее уж наоборот – сразу возник возмущенный вопрос: «А почему это, собственно говоря, ни шиша?!»
Однако усилием воли я все же стряхнул с себя наваждение, запихал в темные уголки щекотливые вопросики и спокойно заверил царевну, что со мной ничего страшного не случится, да и вообще, не станет Дмитрий выставлять себя на посмешище, когда обман вскроется.
– К тому же у него в закладе все равно останется мать-царица, а потому можно считать, что он ничего не потерял... – журчал я убаюкивающе...
Доводы мои звучали увесисто, основательно, убедительно, но только я один знал, насколько они фальшивы.
Это уже не удар, который я нанес ему несколькими неделями раньше, а пощечина, что куда унизительнее, и навряд ли тщеславный мальчишка простит мне ее. Что он придумает в отместку, даже представлять не хотелось.
А впрочем, все это случится потом, когда-нибудь, а пока я говорил, говорил, говорил...
– Вот видишь, Ксения Борисовна, ничего страшного. – Итог и впрямь получался убедительный и... столь же фальшивый, как и доводы.
– Но ведь все одно – потребует к ответу, – слабо запротестовала она.
– Вот когда потребует, тогда мы... еще чего-нибудь придумаем, – выдал я слепленное на скорую руку туманное пояснение и бесцеремонно закруглил беседу, подводя окончательный итог: – Словом, все уже решено, так что хватит об этом, а то дел еще невпроворот. – И ласково прижал ладонь к ее губам, не давая ей возразить, но тут же еле сдержался, чтоб не вздрогнуть.
Как током тряхануло, честное слово!
Показалось или она и впрямь ее поцеловала?
А как же Квентин?! Она ведь каждый день у его изголовья просиживала.
Неужто правду бухнула как-то моя ключница, что на самом деле царевна приходит... Помнится, в тот раз я, даже не дослушав, вопреки обыкновению, столь резко оборвал Петровну с ее бреднями, что она опешила, обиделась и больше к этой теме не возвращалась.
А если моя персональная ведьма права и это не бредни?!
Нет! Нельзя мне об этом думать! Только не сейчас!
Лицо мое в этот момент горело, пожалуй, не хуже, чем минутами ранее у самой Ксении. Да что горело – полыхало, как нефтяная скважина, к которой неосторожные руки поднесли зажженную спичку.
Хорошо хоть, что Ксения почти сразу после этого, что-то невнятно прошептав, убежала к себе наверх и не увидела, как я раскраснелся.
Во всяком случае, надеюсь, что не увидела. Федор же точно ничего этого не заметил – смотрел куда-то в сторону, а то вообще стыдоба. Называется, спасаю брата, а сам в это время к его сестре...
Словом, надо заканчивать, иначе...
Но и тут додумывать не решился – страшно.
Вместо этого, откашлявшись, я предложил Федору обсудить и уточнить кое-какие детали, дабы соблюсти максимальную маскировку, на случай если Басманов по приказу Дмитрия выставил возле подворья Годуновых тайных соглядатаев или завербовал в осведомители кого-то из их дворни.
Царевич согласно кивнул, однако начал с того, что попросил у меня... прощения. Дескать, был миг, хоть и краткий, когда он обо мне плохо подумал, решив, что я и тут посоветую ему смириться, потому что я не видел того, что видел он... во сне.
– Я ить не все тебе о снах своих сказывал, – глухо произнес он, отвернувшись куда-то в сторону. – Тамо мне еще и сестрицу показали, с коей Дмитрий... – Он осекся и умолк, нервно комкая в руке платок.