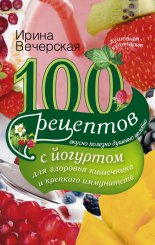Поднимите мне веки Елманов Валерий

– Ишь какой хитрый! – усмехнулся я. – У нас столько великих дел впереди, а ты собрался в кустах отсидеться? Даже и не мечтай. Едва выйду, сразу заеду за тобой, а уж потом за остальными.
– Мыслишь, помилуют тебя опосля таковского, что мы учинили? – И робкая надежда вспыхнула в глазах Дубца.
– Уверен, – твердо сказал я. – Да и не учинили мы ничего особого. Государь поймет, он… добрый. В любом случае суд будет, который ты потребуешь, а это уже кое-что. Да и я сложа руки сидеть не стану – чего-нибудь да придумаю. Так что… скоро свидимся.
– А… ты не обманешь? – усомнился он, чутко уловив фальшь в моем голосе.
– Когда это я вас обманывал?! – возмутился я. – Как на духу! – И для убедительности перекрестился.
Вообще-то, честно говоря, я не стал бы биться об заклад даже о том, что доживу до вечера, – слишком велик риск проигрыша.
Да что там до вечера – до полудня. Уж больно горяч наш «добрый» государь, а когда он в гневе, то его поведение и вовсе непредсказуемо. При виде меня он запросто может вытащить саблю и незамедлительно использовать ее в деле.
Мало того что я увел у него самую красивую девушку на Руси, причем из-под самого носа, так еще и изрядно напугал, вломившись среди ночи в опочивальню. Сразу одна за другой две хамские пощечины по его самолюбию – это что-то с чем-то.
Такого тщеславный мальчишка мне нипочем не простит.
Одна надежда – на зелье моей травницы.
Пока мой гвардеец побрел в обход, я успел приметить еще одно действующее лицо, чье появление мне совсем не понравилось.
Шотландец это был, собственной персоной.
Нет, его никто не собирался арестовывать. О чем он говорил с Петром Федоровичем и Дмитрием, слышно было плохо, но, судя по всему, именно он на правах моего друга, которого никто из оставшихся в тереме ребят не контролировал, то ли сам выскользнул со двора, то ли послал кого-то предупредить Басманова.
Вот, оказывается, откуда Петру Федоровичу стало известно обо мне и моих людях.
Ай да Дуглас!
Дубец же сделал все как надо, заявив от моего имени, что если государь беспрепятственно выпустит всех моих ратников из Москвы, то князь Мак-Альпин сам не позже как через два часа после того, как последний воин пересечет ворота Скородома, выйдет из своего укрытия и явится на подворье Басманова.
Правда, сделает он это только при условии, что Дмитрий Иоаннович пообещает ему от своего имени отсутствие пыток и справедливый суд, где судьбу гуся не станут вершить судьи-лисы, и в том поцелует крест.
Это напоминание о Путивле окончательно убедило Дмитрия, что тут нет никаких военных хитростей и Дубец действительно послан мною. И еще одно он понял – раз ратник появился совсем с иной стороны, то на подворье у Бельского князя Мак-Альпина действительно нет.
– Не обманет ли? – усомнился Басманов.
– Слово нашего воеводы князя Мак-Альпина крепче булата и дороже злата, – отчеканил мой гвардеец. – Уж коли он что обещал, то сполнит беспременно.
– А не сполнит, стало быть, струсил, – тряхнул головой государь и зло улыбнулся, глядя на покрасневшего от возмущения, но вынужденного помалкивать ратника.
Думаю, что «добрый» государь был бы не прочь уложить на плаху и всех моих людей, особенно тех, кто был со мной в опочивальне, включая и самого Дубца, однако жажда поквитаться именно со мной была куда сильнее, и он дал согласие, спросив лишь одно:
– А почему князь пообещался сдаться боярину, а не мне?
– Не по чину ему такое, – нашелся мой гвардеец.
– Да мы его и так сыщем, – попытался переубедить Дмитрия Басманов. – Не мог же он из Кремля убечь, так что…
– Он все может, – хмуро поправил его тот, очевидно припомнив мой недавний успешный штурм стены. – Он при нужде и с дьяволом сможет в прятки сыграть, и еще неведомо, кто кого при этом объегорит. – И распорядился: – Вели открыть Знаменские ворота и уводи людей, а сам… ступай к себе на подворье да жди.
Я сдержал обещание.
Едва Дубец проводил всех гвардейцев до ворот Скородома и, выждав там час, чтоб не вздумали схитрить, пустив за ними погоню, вернулся, показавшись в поле моей видимости, как я сразу отправился сдаваться.
Надо сказать, что Петр Федорович немало этому удивился, будучи куда более высокого мнения о моих умственных способностях.
Во всяком случае, это было первое, чем он со мной поделился, причем с присущей ему солдатской прямотой и откровенностью. Ну то есть не стесняясь в выражениях.
А в финале последовало лаконичное, но емкое:
– Дурак ты, князь!
Кажется, я совсем недавно это от него уже слышал…
– Повторяешься, боярин, – упрекнул я его.
– То я по первости еще сомневался, – пояснил он. – А теперь, опосля всего, точно убедился. – И повторил: – Как есть дурак.
– Слово дал, – напомнил я, но особо спорить не стал – со стороны, как известно, виднее.
Может, и впрямь…
А вот выспаться мне бы не помешало, сказывалась бессонная ночь, и я по-хозяйски распорядился:
– Ты проверь, чтоб мне в темнице солому поменяли, да чтоб не поскупились на лишнюю охапку, – и сладко зевнул.
Басманов подозрительно покосился на меня, хотел было что-то сказать, но лишь сокрушенно махнул рукой, так и не произнеся ни слова.
Ну и правильно, слышал я уже все. Тем более бог любит троицу, так что чего повторять в четвертый раз…
Отчаиваться я не собирался – говорю же, нельзя мне умирать, но о суде над собой и соблюдении даденного обещания я спросил Дмитрия при первой же встрече.
– Я к мудрым советам завсегда прислушиваюсь, – кивнул он, – потому судить тебя станут по справедливости и те, пред кем ты провиниться не успел. Токмо ежели ты мыслишь, что это тебе подсобит… – И, не договорив, вышел.
Допрашивали меня тоже деликатно – государь и тут держал свое слово: никуда не привязывали, кнутом не стегали, и все мои приготовления к большой драке, поскольку без боя я бы не сдался, не пригодились, чему я сильно порадовался.
Да и зачем пытать человека, который вины своей касаемо расхищения государственной казны вовсе не скрывает и запираться не пытается?
Удивительно, но что до всего прочего, то есть вывоза Ксении Борисовны из монастыря, то вопросов практически не задавали. То есть спросили разок, в самом начале, без уточнения деталей, и все.
Да и суд как таковой меня тоже несколько удивил своим составом.
Оказывается, сумел Басманов успеть организовать тайный совет при государе, молниеносно использовав мою идею. Да и включил туда именно тех, кого я ему и подсказал, – Яна Бучинского и князя Ивана Хворостинина.
Кто еще вошел в этот совет – не знаю, не интересовался, да и не до того мне было, но в качестве судей присутствовали именно они, которые вместе с Петром Федоровичем и, разумеется, под председательством самого Дмитрия должны были решить мою судьбу.
– Что, гусь? Эти на лис не похожи? – язвительно осведомился Дмитрий, когда меня ввели в хорошо знакомую по предыдущему посещению пыточную, и широким жестом гостеприимного хозяина обвел сидящую за столом четверку.
Основная надежда была у меня на Бучинского – этот должен встать на мою сторону.
Вот с Хворостининым куда хуже. Смотрел он на меня хоть и не зло, но, уверен, оскорбления мои не забыл, а ведь я впопыхах – с такими вводными от Дмитрия было не до мелочей – так и не успел извиниться перед Иваном. Понятно, что тут и к гадалке не ходи – все припомнит.
Однако как бы там ни было, все равно я загадал, что после суда обязательно извинюсь перед ним за издевки о разноцветных глазах, пояснив, что иного пути не было.
Басманов? Тут вообще нечего задумываться – первым подаст голос против меня. Разве что как-нибудь исхитриться и намекнуть на Фетиньюшку, о свадьбе царевича с которой после моего смертного приговора можно будет забыть.
Итого получалось один против, один за и один не пойми в какую сторону, но шансы есть, что в мою.
Однако больше всего я был удивлен, когда увидел четвертого судью. Им был… Дуглас.
Да-да, шотландский пиит, который упорно избегал смотреть в мою сторону, да и уселся весьма скромненько, на самом краешке лавки, робко сложив руки на коленях.
Впрочем, остальные судьи тоже чувствовали себя неуютно. Бучинский, например, сидевший на другом краю лавки, то и дело вставал, чтоб попить воды, а князь Хворостинин столь тяжко вздыхал, что мне стало не по себе.
Даже Басманов и тот вел себя не совсем естественно, не зная, куда деть свои руки и то и дело пытаясь отколупнуть ногтем щепку от столешницы.
Вместо обычного подьячего, которому надлежало вести протокол, раз Бучинский назначен судьей, Дмитрий поставил думного дьяка Афанасия Власьева.
Впрочем, кому ж еще и быть на этом месте, как не «великому секретарю и придворному подскарбию». Помнится, именно так именовалась его должность в Серпухове. Вот он, пожалуй, был единственным из всех присутствующих, кто вел себя естественным образом.
Хотя да, он же дипломат, так что ему сам бог велел. Взгляд непроницаемый, губы строго поджаты, и поди пойми – то ли сочувствует, то ли осуждает обвиняемого.
Поведение Дмитрия было тоже не совсем обычным – слишком много суетился, но его нервозность не в счет.
Единственное, чем он разительно отличался от остальных присутствующих, так это своим настроем. Если у прочих он был, образно говоря, пасмурным, то у государя – солнечным и безоблачным.
– Ни одной лисы, – подвел итог я.
Получив такой ответ, Дмитрий довольно потер руки и заметил:
– Стало быть, сдержал я свое слово, князь?
Я вновь утвердительно кивнул и поинтересовался, кивая на судей:
– Их ведь четверо. А что будет, если голоса разделятся поровну?
– Судей пятеро, но я скажу свое словцо самым последним, ежели оно… понадобится. – И, понизив голос, заговорщически шепнул: – Открою тебе тайну – коль что, так подам его за тебя, токмо боюсь, что глас мой навряд ли тебе подсобит, яко глас вопиющего в пустыне, уж больно они грозны. – И кивок в сторону четверки.
Понятно – снова чужими руками.
Мне на миг стало даже скучно. Хоть бы новенькое что-то придумал, а то все одно и то же.
Однако расслабляться нельзя.
Пока есть хоть один шанс, надо драться, а уж там как судьба…
Глава 23
Суд
Первое из обвинений касалось разбойного нападения на детей боярских, ехавших исполнять государеву волю и погибших от моих рук.
Как ни удивительно, но разбор случившегося был достаточно объективен. Признаться, я уже привык к обратному.
Приняли во внимание и показания тех ратных холопов, которых мои гвардейцы доставили на подворье Басманова, и… свидетельства моих воинов.
Оказывается, накануне бирючи прокричали о суде над князем Мак-Альпином, обвинявшимся в этом самом нападении, и пригласили всех видавших оное или ведавших, как все это произошло, явиться на подворье думного боярина Басманова.
Из тех, что тогда были со мной на струге и дрались бок о бок, к вечеру перед Петром Федоровичем предстал весь десяток в полном составе…
Я посмотрел на недовольное лицо Дмитрия и с трудом сдержал усмешку. Мальчик решил было унизить меня хоть в этом. Уверен был, что мои люди, которых он отпустил с подворья, не явятся, и тогда он мог, глядя на меня, сказать, что…
Впрочем, неважно что, ибо теперь ему сказать было нечего.
– А мне почто про его людишек не поведал? – мрачно осведомился он у Басманова.
Вот тебе и раз! Неужто боярин промолчал?
– Так то дело обычное, – пожал плечами Петр Федорович. – Я и не мыслил, государь, будто тебе надобно о кажном видоке сообчать.
Точно, не сказал. Ай да Басманов, ай да…
А теперь послушаем приговор судей.
Дело в том, что еще до начала заседания Власьев поставил их и меня в известность, что согласно повелению государя, раз каждое из преступлений заслуживает смертной казни, то и решение по каждому обвинению надлежит принимать в отдельности.
Более того, если судьи хоть раз проголосуют за смертную казнь, то царем велено далее уже не продолжать, ибо дважды казнить одного человека все равно нельзя, а потому нет разницы, повинен князь Мак-Альпин в чем-то еще или нет.
Сидящие соблюдали очередность, и первым свой голос подал Бучинский:
– Он вправе был защищать себя. – И виноватый взгляд на Дмитрия.
– Мыслится, нет тут его вины, – поддержал Яна Басманов.
– Сами они виноваты, – кивнул Хворостинин.
Дуглас, помедлив, еще ниже склонил голову и проворчал:
– Невиновен.
– И я тако же мыслю, – благосклонно согласился Дмитрий и поторопил Власьева: – Чти далее.
Второе обвинение гласило, что князь Мак-Альпин, обуреваемый похотью, лживыми посулами и с коварным умыслом улестил бежать с собой царевну Ксению Борисовну Годунову. И это невзирая на государево повеление остаться в Москве, кое было передано ей через того же князя.
Порадовало, что о подробностях похищения не говорилось.
Наверное, посчитали излишним.
Вообще-то правильно, какая разница, как ты украл, главное сам факт воровства.
Вот только спорный он – а было ли воровство?
– Что скажешь, князь? – сурово поджав губы, холодно осведомился у меня «великий секретарь».
– Не было у меня ни коварного умысла, да и лживых посулов я ей не давал.
– Но увез? – уточнил Власьев.
– Увез, – сокрушенно признался я, – но выполняя волю нашего государя.
– Как… выполняя? – на миг даже растерял свою дипломатическую невозмутимость надворный подскарбий.
Про остальных вообще молчу – пять изумленных взглядов, требующих немедленных разъяснений.
– А так, – вздохнул я и… напомнил всем о словах Дмитрия, которые он во всеуслышание ляпнул на Пожаре.
– Но позже я самолично указывал тебе иное, – не выдержав, вскочил со своего деревянного кресла Дмитрий. – Али скажешь, что не было того?
Вообще-то был соблазн ответить именно таким образом – свидетелей-то не имелось. Но чувствовал – именно этого он от меня и ждет. Если я опущусь до вранья, то тем самым унижу себя, и, хоть об этом будут знать всего двое – я и он, – ему хватит и такого.
Я вскинул голову, горделиво окинув взглядом этого маломерка, который ждал этого от меня, но… так и не дождался.
– Было, государь, – кивнул я. – И впрямь сказывал. А не далее как пару дней назад даже пояснил, для чего ты хотел оставить царевну в столице. – И сокрушенно развел руками. – Жаль, ранее о том не ведал. Кабы знал, иначе бы себя вел.
Он резко отшатнулся, словно я в него плюнул, лицо исказилось от гнева, а рука потянулась к сабле, которой не было.
– Попомнишь свои словеса, князь, – злобно прошипел он. – На плаху не восхотел, так будет тебе костер.
«Но вначале утрись», – мысленно посоветовал я.
Дмитрий нерешительно оглянулся на остальных судей и громко произнес:
– Он сам сознался в нарушении моей воли, о которой знал. Все о том слышали?
– Нет, государь, – поправил я его. – Не сознавался я в этом, ибо воли твоей не нарушал. Лучше вспомни, что ты говорил мне об оставлении ее в Москве. – И поведал при всех.
Философ, конечно, не юрист, но уцепиться за неосторожное слово, а при необходимости и вывернуть его наизнанку, придав совсем иное значение, мы тоже умеем. Логика – штука хитрая, и доказать, что белое, разумеется, белое, но на самом деле, если приглядеться повнимательнее, чуток серое, а коль зайти с другой стороны да прищуриться, и вовсе черного цвета, это нам раз плюнуть.
К тому же тут такого радикального и не требовалось – речь шла об оттенках и интонациях, а это куда проще.
По моему раскладу получилось, что мать, Мария Григорьевна, перестала нуждаться в уходе, то есть первая причина отпала. Что же касается жениха, то мне что-то не доводилось слышать об обычае, по которому невеста обязана до свадьбы проживать в том же городе, что и он.
Кроме того, неясно, почему князя Дугласа упорно именуют именно так, ибо, насколько мне известно, с его стороны не было ни сватовства, ни даже предварительного сговора, не говоря уже о помолвке и оглашении в церкви.
Более того, не следует забывать и про ту глубокую печаль, в которой ныне пребывает вся семья Годуновых, включая царевну. И насколько мне помнится, печаль эта, согласно русским традициям, должна длиться аж до середины грязника, то есть октября. Вести же какие-либо разговоры о свадьбе с девушкой, потерявшей отца, пока не закончится период глубокой печали, простительно разве что некоему представителю шкоцкого народа, но никак не истинно православному государю.
Квентин при этом упоминании побледнел, Дмитрий покраснел, а я продолжал неспешно вещать о русских традициях.
Не зря я перед тем, как отплыть обратно в Москву, нашел время, усадил перед собою всех троих – Марью Петровну, Резвану и Акульку – и попросил подробнее рассказать, с чего все начинается и чем заканчивается, кроме венчания и самой свадьбы – финальная стадия меня не интересовала. А кроме того, я в деталях выяснил специфику – что можно делать и чего нельзя во время глубокого траура, просто траура и полутраура.
Это простодушная Ксюша сразу зарделась и под предлогом немедленной смены повязок раненым ратникам упорхнула из каюты, решив, что негоже находиться рядом, когда речь идет о ней самой.
Вообще-то правильно решила. Только с оговоркой – думал я не об организации своей свадьбы с царевной, а о том, как расстроить ее свадьбу с Квентином.
Судя по отсутствию возражений присутствующих – один лишь шотландец порывался что-то выпалить, но от излишнего возмущения лишь беспомощно заглатывал воздух, – рассказанное женщинами мне удалось усвоить на твердую пятерку.
Крыть нечем.
Правда, Дмитрий попытался:
– Была дадена грамотка, отписанная Федору Годунову, в коей я повелел выдать…
Ну как же, как же, помню про нее. Даже читал, что там понаписал наш непобедимый цесарь, как он непонятно почему именовал себя уже тогда. Хотя тут тоже как трактовать. Если в ином смысле – цесарь, не имеющий побед, – тогда вполне подходит. Впрочем, сейчас это неважно, и то, что я ее прочел, ему как раз знать ни к чему.
Более того, судя по тому, как вздрогнул Квентин и поморщился Басманов, лучше бы он про нее вообще не вспоминал.
Пришлось пояснить, что подлые бояре, задумавшие убиение невинных, выданную им Дмитрием Иоанновичем грамотку царевичу зачитать не удосужились, а сразу накинулись на него, аки псы смердящие, и…
– Но потом-то Федор ее зачел! – встрял неугомонный государь.
«А вот шиш, тебе, паря!» – ухмыльнулся я в душе и невозмутимо поведал, что потом зачесть ее у царевича тоже не вышло, ибо найдена она была близ бездыханного тела князя Дугласа и оказалась сплошь залита кровью.
Между прочим, Квентина.
Я почти не соврал. Мой ученик и впрямь не смог ее прочесть. Что до крови – тут спорна лишь принадлежность, то ли она шотландца, то ли стрелецкая, но, прежде чем отдать грамотку Федору, вымазал я в ней свиток очень старательно.
Далее на всякий случай я пояснил и то, что ни один из подлых убийц про ее содержание мне так ничего и не сказал, а потому ни я, ни престолоблюститель, не говоря уж о вдовой царице и самой царевне, знать, что в ней, никак не могли.
– Пусть так, – скрепя сердце согласился Дмитрий. – Но все равно остается моя последняя воля, кою ты нарушил. – И торжествующе уставился на меня.
– И воли твоей не было! – отверг я. – Еще раз напомню, причем слово в слово, то, что ты мне тогда сказал, – процитировав: – Желательно, чтоб при царице осталась и Ксения Борисовна. – И медленно повторил: – Желательно. Ну какая ж это воля?
Дмитрий растерянно уставился на меня, а я милостиво добавил ложечку медку в бочку дегтя:
– Напротив, повеление твое на Пожаре прозвучало ясно и четко – ни убавить, ни прибавить, как и подобает истинному государю.
Басманов озадаченно крякнул, Бучинский недоумевающе покосился на Дмитрия, который по-прежнему не отводил от меня глаз, кипя от ярости.
Ну все шло не по его сценарию, решительно все.
«А ты думал, что самый умный? – ответил я ему. – На-кася, выкуси!»
– Что скажут судьи? – глухо спросил он, даже не глядя в их сторону.
Судьи не замедлили с ответами, попутно сопроводив их комментариями.
– Дак ты ей и впрямь волю с выбором дал, государь, – развел руками Басманов. – Стало быть, она сама вправе решать, с кем ей и куда ехать. А что до посулов и обмана, то тут впору ей тебе на князя челом бити, да и были ли они? Эвон яко Федор Константиныч сказывает, а он своему слову крепок. И уж коли она сама молчит, стало быть…
– И в Речи Посполитой вести себя с благородной шляхтянкой так не принято. Да и во всех европейских странах тоже, – деликатно заметил Бучинский.
– У нас Русь, – зло напомнил Дмитрий, – а не Речь Посполитая.
– А и на Руси тож такового не бывало, – вступился за Яна Петр Федорович. – Коль сирота – одно. Но у нее и мать имеется, да и брат, кой ей в отца место, жив покамест.
– За что ж тогда судить-то? – Это уже Хворостинин.
Квентин еще ниже склонил голову и вполголоса упрямо произнес:
– Виновен.
Я посмотрел на Дмитрия. Получалось, что теперь даже его голос уже ничего не решит, и он тоже это понял. Чуть поколебавшись с ответом, он махнул рукой Власьеву:
– Коль три судейских голоса и от этой вины князя освободили, что проку мне говорить, так что чти далее.
Ишь ты, опять увильнул. Хотя да, зачем надрываться, если ты уверен, что третье обвинение меня все равно доконает, ибо тут крыть нечем, разве что придраться к некоторым нюансам.
Вот, например, касаемо особо крупных и дорогих камней. Ведь не просто так я их конфисковал, а в счет ста причитающихся царевичу тысяч. Кто ж виноват, что казна сжулила при покупке? Мне-то откуда это знать? Я честно заплатил сколько написано в расходных книгах.
Но перечень Власьева включал в себя не только алмазы, рубины, сапфиры, изумруды и жемчуг. Было в нем и все остальное – дьяк Меньшой-Булгаков оказался весьма дотошен и предоставил полный список «расхищенного», по его мнению, и я еще раз пожалел, что не сказал, дабы его выпустили попозже.
– Тако же статуй язычного бога Нептуна ценой в пятнадцать тыщ шестьсот тридцать рублев, – монотонно цитировал надворный подскарбий показания Булгакова. – А с им чара гиацинтовая в дорогих каменьях ценой в двенадцать тыщ и сто двадцать рублев. А с ими зверь…
Оставалось кивать и соглашаться, но Годунова, едва в тексте просквозил намек на повеление царевича, я обелил сразу.
– То было мое указание, государь, – уточнил я. – Спутал дьяк. Престолоблюститель лишь вспоминал о том, кто и чего подарил его батюшке, вот я и решил угодить ему, распорядившись взять с собой все это.
Власьев остановил чтение и вопросительно уставился на государя.
Я уж было приготовился с пеной у рта рьяно доказывать непричастность царевича, но напрасно.
– Пусть так, – равнодушно передернул плечами Дмитрий.
Это хорошо. Получается, что на Федора он катить бочку не собирается. У меня отлегло от сердца.
Теперь Багдадский вор остался в гордом одиночестве, а одному выкручиваться куда легче, и я тут же кое-что напомнил царю, хотя и не рассчитывал получить от Дмитрия правдивый ответ.
Дело в том, что еще будучи в Коломенском, накануне выезда в Москву, я как бы между прочим поинтересовался о том, позволительно ли престолоблюстителю взять с собой в Кострому ряд подарков, которые в свое время преподнесли его покойному отцу. Например, трон от персидского шаха.
Мол, как ни крути, а царевичу в Костроме нужно что-то посолиднее, чем простое резное кресло, а здесь этот столец все равно пылится в Казенной палате.
Поглощенный мыслями о завтрашнем дне Дмитрий лишь досадливо отмахнулся, буркнув, чтоб забирал.
– А прочие подарки? – уточнил я. – Они, конечно, не трон, а так, для красоты, не больше, но ему дороги как память, и потому…
– Да пусть все заберет, – проворчал Дмитрий. – Коль ему блюд с чугунками да сковород с тазами мало – пущай и енто прихватит. – И презрительно ухмыльнулся, подмигивая стоящему рядом Бучинскому, чтобы тот разделил его презрение относительно эдакого крохоборства.
Но я не отставал, сразу напомнив ему и об украшениях, которые опять-таки по повелению Бориса Федоровича были изготовлены для будущего храма. Построить его царь не успел, и сыну хотелось бы их забрать с собой, чтоб воздвигнуть его в Костроме и оставить в нем эти украшения!
– Пущай хоть замолится… в своей Костроме, – беззаботно отмахнулся он, и я тут же заметил Яну о том, как щедр и благороден государь.
Тот, разумеется, охотно со мной согласился.
– Было такое? – растерянно спросил Власьев у потупившегося Бучинского.
Молчали оба.
Придворный подскарбий уставился на меня.
Оставалось пожать плечами. Дескать, я свое слово сказал, добавить нечего, теперь пусть они.
Дмитрий встал и, очевидно что-то решив, вновь направился ко мне. Во взгляде торжество. Он даже надменно прищурился, разглядывая меня и давая понять, что теперь я весь в его руках.
«Вот только при этом я по-прежнему чистенький, а ты…» – ответил я ему взглядом.
Он понял, иначе бы не вздрогнул и не отпрянул от меня, словно получив еще один удар по роже, причем вполне заслуженно.
– Не помню я таковского, – нехотя выдавил он. – Эвон сколь дел, рази упомнишь всякое.
Вот так. Снова как в детской игре: да и нет не говорите, ну и так далее. Не иначе как играл в нее государь, и мастерски играл.
Ну а что скажет Бучинский?
– Я… э-э-э… тоже не помню, – выдавил он через силу.
– И как я сразу вслед за этим хвалил государя за щедрость? – осведомился я. – Помнится, тогда ты со мной согласился, Ян, и даже добавил, что…
– Может, и было оно, – перебил меня Дмитрий, то ли сжалившись над Яном, то ли еще почему. – Но… изустно. Указа на то моего не было. – И, понимая, что дальнейшее промедление играет на руку лишь мне, требовательно заметил судьям: – Сказывайте свое слово.
– Сказывайте, только помните, что прошлое обвинение как раз и стояло на том, что я нарушил изустную волю государя, которая, оказывается, тут уже не считается, – добавил я.
Бучинский поднял голову и умоляюще уставился на Дмитрия, но, придавленный его тяжелым, давящим взглядом, снова опустил ее и глухо произнес:
– Виновен.
Ну что ж, этого и следовало ожидать. А что дальше?
Дальше был не Басманов – его опередил Хворостинин:
– Ежели он сказывает, что спрашивал дозволения, а ты, государь, о том запамятовал, то за что ж тут винить-то? К тому же, коль на то пошло, их и вернуть недолго. Не-э, за таковское на плаху посылать негоже.
Счет сравнялся. Теперь все зависело от Дугласа, хватит ли у шотландца совести, потому что с Басмановым все ясно, можно даже не слушать. Хотя, с другой стороны, даже если Квентин уравняет шансы, один черт – все решать Дмитрию, а он…
– Виновен.
Ну так и есть, чего еще ждать от боярина, который любимец у…
Стоп!