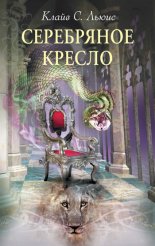Ночь в Лиссабоне Ремарк Эрих Мария

— Завтра.
В последний вечер мы поужинали в саду ресторана Альберто делла Поста в Ронко, небольшой деревушке, которая, как ласточкино гнездо, прилепилась на склонах гор над озером. Между деревьями мерцали огоньки. На крышах домов бродили кошки. С нижних террас сада доносился запах роз и дикого жасмина. Озеро с островами, где во времена Рима, говорят, стоял храм Венеры, было неподвижно. Темно-синие горы четко выделялись на светлом небе. Мы ели спагетти и пили местное вино. Это был вечер невыразимой нежности и грусти.
— Жаль, что мы должны уехать отсюда, — сказала Елена. — Я бы с удовольствием провела здесь лето.
— Ты еще часто будешь говорить так.
— Что ж, может быть, это самое лучшее. До этого я слишком часто говорила обратное.
— Что именно?
— Что, к сожалению, я где-то почему-то должна была оставаться.
Я взял ее руку. У нее была очень темная кожа. Прошло всего два дня, а она уже сильно загорела. Глаза ее, казалось, стали светлее.
— Я очень тебя люблю, — сказал я. — Я люблю тебя, и этот миг, и лето, которое пройдет, и эти горы, и прощание с ними, и — в первый раз в жизни — себя самого, потому что я теперь стал зеркалом, и отражаю только тебя, и владею тобою дважды. Пусть будет благословен этот вечер и этот час!
— Благословенно пусть будет все! Выпьем за это. И ты — тоже, за то, что ты, наконец, отважился сказать мне то, чего вообще говорить не любишь и что заставляет тебя краснеть.
— Я и теперь краснею, — сказал я. — Но только внутренне и уже не стыдясь. Дай мне время. Я должен привыкнуть. Даже гусенице приходится делать это после пребывания во мраке, когда она выходит на свет и видит, что у нее есть крылья. Как счастливы здесь люди! Как пахнет дикий жасмин! Кельнер говорит, что в лесах его очень много.
Мы допили вино и узкими переулками выбрались на дорогу, которая шла высоко по склону горы. Она вела в Аскону. Над дорогой нависало деревенское кладбище, полное крестов и роз. Юг — это соблазнитель. Он прогоняет мысли и заставляет царить фантазию. К тому же, она почти не нуждается в помощи посреди пальм и олеандров, во всяком случае — меньше, чем рядом с солдатскими сапогами и казармами.
Словно громадное шелестящее знамя, расстилалось над нами небо. Все больше и больше звезд выступало на нем, как будто это был флаг ежеминутно расширяющегося государства вселенной. Аскона сверкала огнями своих кафе далеко внизу, на глади озера; прохладный ветер веял из горных долин.
Мы подошли к домику, который сняли на время. Он стоял у озера. В нем было две спальни, эта уступка морали казалась здесь достаточной.
— Сколько нам еще осталось жить? — спросила вдруг Елена.
— Если мы будем осторожными — год и, может быть, еще полгода.
— А если мы будем неосторожными?
— Только лето.
— Давай будем неосторожными, — сказала она.
— Лето так коротко.
— Вот оно что, — сказала она неожиданно горячо. — Лето коротко. Лето коротко, и жизнь тоже коротка, но что же делает ее короткой? То, что мы знаем, что она коротка. Разве бродячие кошки знают, что жизнь коротка? Разве знает об этом птица? Бабочка? Они считают ее вечной. Никто им этого не сказал. Зачем же нам сказали об этом?
— На это есть много ответов.
— Дай хоть один!
Мы стояли в темной комнате. Двери и окна были раскрыты.
— Один из них — в том, что жизнь стала бы невыносимой, если бы она была вечной.
— Ты думаешь, она стала бы скучной? Как жизнь богов? Это неправда. Давай следующий.
— В жизни больше несчастья, чем счастья. То, что она не длится вечно, — просто милосердие.
Елена помолчала.
— Все это неправда, — сказала она наконец. — И мы говорим это только потому, что знаем, что мы не вечны и ничего не можем удержать. И в этом нет никакого милосердия. Мы его изобретаем сами. Мы изобретаем его, чтобы надеяться.
— Но разве мы все-таки не верим в это?
— Я не верю.
— И в надежду?
— Ни во что. К этому приходит каждый. — Она порывисто разделась и бросила платье на кровать. — Даже арестант, пусть ему однажды и удалось бежать.
— Но ведь это все, на что ему остается надеяться. Только на это.
— Да, это все, что мы можем сделать. Так же, как и мир перед войной. Надеются, что она еще разок будет отложена. Но задержать ее никто не может.
— Войну-то вообще можно, — возразил я. — А вот смерть — нет.
— Не смейся! — вскричала она.
Я подошел к ней. Она через открытую дверь выскользнула наружу.
— Что с тобой, Элен? — спросил я, пораженный. На дворе было светлее, чем в комнате. Я увидел, что лицо ее залито слезами. Она ничего не ответила, и я не стал расспрашивать.
— Я захмелела, — сказала она тихо. — Разве ты не видишь?
— Нет.
— Я выпила слишком много вина.
— Слишком мало. У меня есть еще бутылка. Я поставил бутылку «Фиаско настрано» на каменный стол, что стоял на лужайке позади дома, и пошел в комнату за стаканами.
Вернувшись, я увидел, что Елена спускается по лужайке к озеру. Я помедлил, налил два полных стакана; вино — в бледном сиянии неба и озера — казалось черным.
Я медленно пошел по зеленой траве вниз, к пальмам и олеандрам, что росли на берегу. Неясная тревога как-то вдруг охватила меня. Я облегченно вздохнул, увидев Елену.
Она стояла у самой воды, понурившись, опустив плечи. Вид у нее был странный, будто она ждала какого-то зова или чего-то, что должно было возникнуть перед ней из озера.
Я замер, — не для того, чтобы подсматривать за ней, — я боялся ее испугать. В следующее мгновение она вздохнула, выпрямилась и вошла в воду.
Увидев, что она поплыла, я вернулся в дом и принес махровую простыню и купальный халат. Затем я присел на гранитном валуне и стал ждать. Я смотрел на ее голову с высоким узлом волос — она казалась такой маленькой на водной глади — и думал о том, что, кроме нее, у меня никого и ничего нет. Мне хотелось позвать ее, крикнуть, чтобы она вернулась. Но я смутно чувствовал, что она стремилась победить что-то неизвестное мне и что это совершалось именно в то мгновение. Вода предстала перед ней в роли судьбы, вопроса и ответа, и она сама должна была преодолеть то, что стояло перед ней. Так поступает каждый, и самое большее, что может сделать другой, — это быть рядом на тот случай, когда потребуется немножко тепла.
Елена описала дугу, повернула и поплыла к берегу, прямо на меня. Какое это было счастье — видеть, как она приближается, смотреть на ее темную голову на лиловой поверхности озера. Она поднялась из воды — тонкая, светлая и быстро подошла ко мне.
— Холодно. И жутко. Прислуга рассказывала, что на дне под островом живет гигантский спрут.
— Крупнее щук здесь ничего нет, — сказал я, закутывая ее в простыню. — Тем более — спрутов. Их можно найти теперь только в Германии — с 1933 года. А вечером вода всегда производит жуткое впечатление.
— Если мы думаем, что есть спруты, они должны быть, — заявила Елена. — Мы не можем вообразить себе того, чего нет на свете.
— Прекрасное доказательство бытия Божия.
— А ты разве не веришь?
— В эту ночь я верю во все.
Она прижалась ко мне. Я отбросил влажную простыню и подал ей купальный халат.
— Как ты думаешь, это правда, что мы живем несколько раз? — спросила она.
— Да, — ответил я, не раздумывая.
— Слава богу! — она вздохнула. — Сейчас я уже не могу спорить об этом. Я устала и замерзла. Ведь это горное озеро.
Из ресторанчика в Ронко я, кроме вина, захватил еще бутылку «граппы» — виноградной водки наподобие «марка» во Франции. Она острая и крепкая и очень хороша в такие минуты. Я принес ее и дал Елене целый стакан. Она медленно выпила.
— Я не хочу уезжать отсюда, — сказала она.
— Завтра ты забудешь об этом, — ответил я. — Мы поедем в Париж. Это самый чудесный город на свете.
— Самый чудесный город — тот, где человек счастлив. Я выражаюсь общими фразами?
Я засмеялся.
— К черту заботы о стиле! Пусть общих фраз будет еще больше. Особенно таких. Тебе понравилась «граппа»? Хочешь еще?
Она кивнула. Я налил стакан и себе. Мы сидели на лужайке у столика из камня. Елену начало клонить ко сну. Я отнес ее в постель. Она заснула рядом со мной.
Ночь густела. В открытую дверь была видна лужайка. Она постепенно стала синей, потом серебристой от росы. Через час Елена проснулась. Она встала и пошла на кухню за водой. Вернулась она с письмом в руках. Оно пришло, пока мы были в Ронко.
— От Мартенса, — сказала она.
Она прочла и отложила письмо в сторону.
— Он знает, что ты здесь? — спросил я.
Она кивнула.
— Он сказал моим родственникам, что я по его совету поехала в Швейцарию показаться врачам и останусь недели на две.
— Он лечил тебя?
— Иногда.
— Что у тебя было?
— Ничего особенного, — сказала она и положила письмо в сумочку.
Она не дала мне его прочесть.
— А откуда у тебя, собственно говоря, этот шрам? — спросил я.
Тонкая белая линия пересекала ее живот. Я заметил ее еще раньше, но теперь она выступила яснее на загорелой коже.
— Маленькая операция. Так, пустяки.
— Какая операция?
— Милый, об этом не говорят. Знаешь, у женщин бывают иногда разные случаи.
Она погасила свет.
— Хорошо, что ты приехал и забрал меня, — прошептала она. — Я больше не могла бы выдержать. Люби меня! Люби, и ни о чем не спрашивай. Ни о чем. Никогда.
10
— Счастье… — медленно сказал Шварц. — Как оно сжимается, садится в воспоминании! Будто дешевая ткань после стирки. Сосчитать можно только несчастья.
Мы приехали в Париж и сняли квартиру в маленьком отеле на левом берегу Сены, на набережной Августинцев. Лифта в гостинице не было, лестницы были старые, кривые, комнатки маленькие. Зато из них видны были прилавки букинистов на набережной, Сена, Консьержери[14], собор Парижской богоматери.
У нас были паспорта, и мы чувствовали себя людьми.
Мы были людьми до сентября 1939 года. И до тех пор, собственно говоря, не имело значения, настоящие у нас паспорта или фальшивые. Правда, это оказалось далеко небезразличным, когда началась «странная война»[15].
— Чем ты жил здесь? — спросила меня Елена однажды в июле, дня через два после нашего приезда. — Ты мог работать?
— Конечно, нет. Я не смел даже существовать. Как же я мог получить разрешение на работу?
— Чем же ты жил тогда?
— Ей-богу, не знаю. Я перепробовал много профессии. Зарабатывал от случая к случаю. Во Франции, к счастью, не все распоряжения выполняются в точности. Иногда можно наняться на какую-нибудь мелкую работу исподтишка. Я грузил и разгружал ящики на рынке. Был кельнером, торговал сорочками, галстуками и воротничками. Преподавал немецкий. Иногда мне перепадало кое-что из комитета помощи эмигрантам. Продавал вещи, которые у меня еще были. Работал шофером. Писал заметки для швейцарских газет.
— А ты не мог снова стать журналистом?
— Нет. Для этого надо иметь вид на жительство и разрешение для работы. Моим последним занятием было надписывание адресов на конвертах. Потом явился Шварц, и началось апокрифическое бытие.
— Почему апокрифическое?
— Подставное, скрытое, анонимное — жить под эгидой мертвого.
— Мне бы хотелось, чтобы ты назвал это как-нибудь иначе, — сказала Елена.
— Можно назвать как угодно: двойная жизнь, жизнь в подполье, вторая жизнь. Скорее всего — вторая. Такой она мне кажется. Мы — будто потерпевшие кораблекрушение, лишенные всех воспоминаний. Нам не о чем сожалеть. Потому что воспоминание — это всегда еще и сожаление о хорошем, что отняло у нас время, и о плохом, что не удалось исправить.
Елена засмеялась:
— Кто же мы такие теперь? Мошенники, мертвые, духи?
— С точки зрения закона — туристы. Нам разрешено здесь жить, но не разрешено работать.
— Прекрасно, — сказала она. — Раз так, не будем работать. Поедем на остров Святого Людовика[16], сядем на скамеечку и будем греться на солнышке, а потом отправимся в кафе «Франс» и пообедаем за столиком на улице. Неплохая программа?
— Чудесная.
На том мы и порешили. Больше я не искал случайных заработков. С утра до утра мы были вместе и не разлучались неделями. Время шумело где-то в стороне, наполненное специальными выпусками газет, тревожными сообщениями, чрезвычайными заседаниями. Но мы его не чувствовали. Мы жили вне времени. Если все затоплено чувством, места для времени не остается, словно достигаешь другого берега, за его пределами. Вы в это не верите?
На лице Шварца опять появилось напряженное, отчаянное выражение, которое я уже видел несколько раз.
— Вы не верите в это? — повторил он.
Я устал, против воли мной начало овладевать нетерпение. Слушать рассказы о счастье было неинтересно, как и рассуждения Шварца о вечности.
— Не знаю, — машинально ответил я. — Может быть, это счастье, когда умираешь в таком состоянии. Тогда, время и его календарная обыденная мера теряют свою власть. Но если продолжаешь жить дальше, то несмотря ни на что это опять становится куском времени, чем-то преходящим. И тут уж ничего нельзя поделать.
— Но это не должно умирать! — сказал вдруг Шварц горячо. — Оно должно остановиться, окаменеть, как статуя из мрамора, не превращаясь в песочный домик, который каждый день осыпается и тает под порывами ветра! Иначе — что же будет с мертвыми, которых мы любим? Где же они могут пребывать, как не в нашем воспоминании? А если нет — то не становимся ли мы невольно убийцами? Неужели я должен смириться с тем, что время своим напильником сотрет то лицо, которое знаю я один? Да, я уверен, оно поблекнет и изменится во мне, если я не извлеку и не воздвигну его вне себя, — чтобы ложь моего живущего сознания не обвила и не уничтожила его, как плющ. Потому что иначе оно станет просто удобрением для паразитирующего времени и уцелеет один только плющ! Я знаю это! Потому-то я и должен спасти его прежде всего от себя самого, от пожирающего эгоизма воли к жизни, воли, которая стремится забыть его и уничтожить! Разве вы этого не понимаете?
— Понимаю, господин Шварц, — осторожно сказал я. — Ведь именно поэтому вы и говорите со мной, чтобы спасти его от самого себя.
Я рассердился на себя за то, что перед этим ответил ему так небрежно. Ведь человек, сидевший передо мной, был сумасшедшим — все равно — в логическом или поэтическом значении этого слова, и если я хотел узнать, как далеко он может зайти, — мне нужно было помнить о той боли, что его терзала.
— Если мне удастся, — сказал Шварц и запнулся. — Если мне удастся, то дело сделано, я спасу его от себя. Вы понимаете?
— Да, господин Шварц. Наша память — это не ларец из слоновой кости в пропитанном пылью музее. Это существо, которое живет, пожирает и переваривает. Оно пожирает и себя, как легендарный феникс, чтобы мы могли жить, чтобы оно не разрушило нас самих. Вот этому вы и хотите воспрепятствовать.
— Да! — Шварц взглянул на меня с благодарностью. — Вы сказали — только тогда, когда умираешь, память обращается в камень. Вот я и умру.
— То, что я сказал, — нелепость, — устало проговорил я.
Я ненавидел подобные разговоры. Я встречал слишком много ненормальных. В изгнании они росли, как грибы после дождя.
— Нет, я не думаю лишать себя жизни, — сказал вдруг Шварц и усмехнулся, будто догадавшись, о чем я думал. — К тому же жизнь сейчас слишком нужна для других целей. Просто я умру как Иосиф Шварц. Рано утром, когда мы попрощаемся, его больше не будет.
У меня вдруг вспыхнула дикая надежда.
— Что вы хотите сделать? — спросил я.
— Исчезнуть.
— В качестве Иосифа Шварца?
— Да.
— В качестве имени?
— В качестве всего, чем был во мне Иосиф Шварц. И даже в качестве того, чем я был раньше.
— А что вы сделаете со своим паспортом?
— Он мне больше не нужен.
— У вас есть другой?
Шварц покачал головой.
— Мне никакой больше не нужен.
— А в том есть американская виза?
— Да.
— Может быть, вы продадите его мне? — спросил я, хотя денег у меня не было.
Шварц опять покачал головой.
— Почему?
— Я не могу его продавать, — сказал Шварц. — Мне его подарили. Он может вам пригодиться?
— Боже мой! — сказал я, едва дыша. — Пригодиться! Он спасет меня! В моем паспорте нет американской визы. И я еще не знаю, как ее раздобыть завтра до полудня.
Шварц грустно усмехнулся.
— Как все повторяется! Вы напомнили мне о том времени, когда я сидел в комнате умирающего Шварца и думал лишь о паспорте, который опять мог сделать меня человеком. Хорошо, я отдам вам свой. Нужно только переменить фотографию. Возраст, наверно, подойдет.
— Тридцать пять лет, — сказал я.
— Ну, что ж, станете на год старше. Знаете ли вы тут кого-нибудь, кто умеет обращаться с паспортами?
— Знаю, — ответил я. — А фотографию сменить не так уж трудно.
Шварц кивнул.
— Легче, чем свое я. — Мгновение он смотрел прямо перед собой. — И разве не странно, что теперь вы тоже привяжетесь к снимку, как некогда мертвый Шварц, а потом — я?
Я не мог ничего с собой поделать и вздрогнул от ужаса.
— Паспорт — это всего только кусок бумаги, — сказал я. — Тут нет никакой магии.
— Разве? — спросил Шварц.
— Может быть, и есть, но не такая, как вы думаете, — ответил я. — Долго ли вы были в Париже?
Меня так взволновало обещание Шварца отдать паспорт, что я не слышал, что он говорил. Я думал только о том, что надо предпринять, чтобы получить визу и для Рут. Может быть, представить ее в консульстве как мою сестру? Вряд ли это поможет, порядки в американских консульствах строгие. И все-таки придется попытаться, если до того не случится еще одного чуда.
Тут я вновь услышал голос Шварца:
— Он внезапно вырос в дверях нашей комнаты; через полтора месяца, но он все-таки нас нашел. На этот раз он не стал подсылать чиновников из немецкого консульства, явился сам и теперь стоял посреди номера, обклеенного обоями с игривыми рисунками в стиле восемнадцатого века, — Георг Юргенс, обер-штурмбаннфюрер, брат Елены, высокий, широкоплечий, в двести фунтов весом. Он был в штатском, но немецкой спесью от него разило в сто раз больше, чем в Оснабрюке.
— Итак, все ложь, — сказал он. — Недаром мне сразу показалось что тут дурно пахнет.
— Чему же тут удивляться? — возразил я. — Всюду, где появляетесь вы, начинает вонять.
Елена засмеялась.
— Перестань! — прорычал Георг.
— Лучше вы перестаньте, — сказал я. — Или я прикажу выкинуть вас за дверь.
— Почему вы не попробуете сделать это сами?
Я покачал головой.
— Вы на сорок фунтов тяжелее, чем я. Ни один рефери не свел бы нас в схватке на ринге. Что вам здесь надо?
— Это вас не касается, вы дерьмо, изменник. Вон отсюда! Я хочу говорить с моей сестрой.
— Останься! — быстро сказала Елена. Глаза ее сверкали от гнева. Она медленно поднялась и взяла в руки мраморную пепельницу. — Еще одно слово в таком тоне, и я швырну ее в твою физиономию.
Она сказала это совершенно спокойно.
— Ты не в Германии, — добавила она.
— К сожалению, еще нет. Но подождите — и здесь скоро будет Германия.
— Нет, здесь никогда не будет Германии, — сказала Елена. — Может быть, ваша вшивая солдатня и завоюет эту землю на время, но она все же останется Францией. Ты явился для того, чтобы обсуждать именно этот вопрос?
— Я явился для того, чтобы увезти тебя домой. Ты представляешь, что с тобой будет, если обрушится война?
— Довольно слабо.
— Тебя посадят в тюрьму.
Я увидел, что она на секунду растерялась.
— Может быть, нас посадят в лагерь, но это будет лагерь для интернированных, а не концлагерь, как в Германии, — сказал я.
— Что вы-то знаете об этом! — вскричал Георг.
— Не так уж мало, — ответил я. — Был в одном из ваших концлагерей благодаря вам.
— Вы, червяк, вы были только в воспитательном лагере, — презрительно заметил Георг. — Но вам это не пошло в прок. Вы дезертировали после того, как вас выпустили.
— Ну и словечки вы находите, — усмехнулся я. — Если кому-нибудь удалось ускользнуть от вас, значит, он — дезертир.
— Вам было приказано не покидать Германии!
Я отвернулся. У меня было с ним довольно разговоров на эту тему еще до того, как он обрел власть сажать за разговоры в тюрьму.
— Георг всегда был идиотом, — сказала Елена. — Мускулистый недоносок. Ему нужно панцирное мировоззрение, как корсет толстой бабе, иначе он расплывется. Не спорь с ним. Он беснуется, чувствуя свою слабость.
— Оставим это, — сказал Георг более миролюбиво, чем я ожидал. — Укладывай вещи, Элен. Сегодня вечером едем обратно. Дело серьезное.
— Чем же оно серьезное?
— Будет война. Иначе я бы не приехал.
— Нет, ты все равно приехал бы, — возразила она. — Тебе просто неудобно, что сестра такого преданного члена фашистской партии, как ты, не хочет жить в Германии. Два года назад, в Швейцарии, тебе удалось добиться того, чтобы я вернулась. Но теперь я останусь здесь.
Георг ненавидяще уставился на нее.
— И все из-за этого жалкого негодяя? Значит, он опять тебя уговорил?
Елена засмеялась.
— «Негодяй», — как давно уже я не слышала этих слов. У вас и в самом деле допотопный словарь. Нет, мой муж меня не уговаривал. Наоборот, он сделал все, чтобы я осталась там. И доводы у него были получше твоих.
— Я хочу поговорить с тобой наедине, — сказал Георг.
— Это тебе не поможет.
— Все-таки мы брат и сестра.
— Я замужем, это важнее.
— Это не узы крови, — сказал Георг. — А мне ты даже не предложила сесть, — добавил он вдруг с детской обидой. — Едешь от самого Оснабрюка, и вдруг тебя заставляют разговаривать стоя.
Елена засмеялась.
— Это не моя комната. За нее платит мой муж.
— Садитесь, обер-штурмбаннфюрер, гитлеровский холуй, — сказал я. — И поскорее уходите.
Георг злобно взглянул на меня и уселся на старый диван, который жалобно заскрипел под ним.
— Неужели вы не понимаете, что я хотел бы поговорить со своей сестрой наедине? — сказал он.
— А когда вы меня арестовали, вы дали мне поговорить с ней без свидетелей?
— Это совсем другое, — проворчал Георг.
— У Георга и его любимых «партайгеноссе» всегда все другое, даже если они делают то же, что и другие, — заметила Елена саркастически.
— Если они убивают людей других взглядов, то тем самым они защищают свободу мысли; если они отправляют тебя в концлагерь, то они только защищают честь родины. Ведь так, Георг?
— Точно!