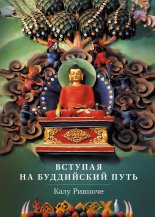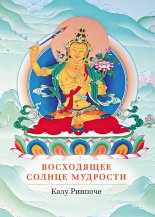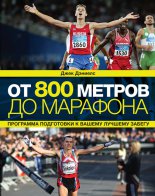Мультипроза, или Третий гнойниковый период Гареев Зуфар

Поартачились основные старухи и поняли, что с сестрами им теперь надо жить дружно, действовать в жизни вместе.
– Идите, убейте Валентину Теремкову вы! – отдала приказ Тархо-Михайловская.
– Есть! – гаркнули двойниковые старухи и тучей поползли к магазину.
Возглавляла отряд двойник по фамилии Ефремова.
Она закричала:
– Платье вы ей порвите-ите! Для чего каблуками вскочите на нее, гадину вонючую – и топчите! Тело ее молодежное избейте вы: кто ящиками, кто кирпичами! Живот разорвите, кишки повынимайте! А в мозг ей гвоздей ржавых позабивайте вы, и каждая по триста раз ей в глаза-то и наплюйте! Ибо бесстыжие они есть у нее!
Так приказала Ефремова, и тут же бросились двойники на Теремкову Валентину.
Свалили с ног ее, белолицу, кудряву да всю наряжену, да всю в импорте, да всю в золоте, да в двойных подбородочках всю.
Стали бить ее ящиками-кирпичами. Живот ей разодрали, печень вытащили всю парящую, а Ефремова самолично есть принялась ее, повизгивая от предчувствия холестерина и тяжелых металлов – олова и ртути.
Ефремова, торопясь и обжигаясь, доела печень и вновь бросила клич:
– Бейте ее вы!
И принялись вновь Валентину Теремкову бить да дубасить, а маленькая Говорушкина скок-поскок вскоре разодрала голову ей – подняла ногу и, хихикнув, прыснула смрадом.
А Ефремова сама подскочила и стала вбивать Теремковой гвозди в мозг.
А потом приказала:
– Тело ее под ящики отнесите и кирпичом забросайте!
Так и сделали пенсионеры.
Но тут на поиски Валентины Теремковой вышла продавщица Степанюк. Она оглядела зловещее подворье и стала говорить:
– Валентина Теремкова, где ты, ай?
– Дорогая! – окликнула ее Учватова, а старик Косоруков будто бы случайным прохожим прошел мимо.
Он закурил папиросу «Беломорканал», что было тайным знаком. С другой стороны Говорушкина крикнула:
– Дорогая!
Степанюк дважды обернулась туда-сюда и потеряла ориентацию на подворье.
Тут из-за ящиков выскочили старухи. Учватова набросила ей веревку на шею и стала валить ее с ног.
Степанюк хрипела, пойдя вся багровыми пятнами.
И крикнула тогда она из последних сил:
– И крикнула тогда я из последних сил!
Учватова вдвоем со сродной сестрой новоявленной свалили Степанюк с ног.
– Сколько ж ты молока выпила по блату, нам недодала! – зарыдала Учватова. – Сколько ж ты творогу унесла и творожной массы «Особой», ослабив наши кости!
– Медленная ты убивица наша! – зарыдала от негодования сродная сестра Учватовой. – Так вот же тебе! – И она влепила пощечину Степанюк.
У Степанюк, перевернутой к небу лицом, не было в горле звуков. Огромные груди ее, опрокинувшись на шею ее, душили в горле ее звуки ее.
Свирепо вращала глазами Степанюк да хрипела.
– А яиц сколько съела ты, подлость ходячая! Сколько людей вы народных погубили в голоде! – страшно зарыдала сродная сестра Учватовой, зыркнув глазом в небо и почуяв приближение луны.
Учватова пальцами в золоте и бриллиантах стала душить ее насмерть.
Степанюк, набравшись сил, крикнула глухо:
– Ой, душно мне, золотой!
И умерла: глаза ее застекленели.
– Щеки – словно яблоки налитые, – с завистью проговорила Учватова, вглядываясь в тайну смерти и жизни Степанюк.
– И пухлинка в губах... – сказала сродная сестра ее.
– А пумпушечки! – воскликнул Косоруков ласково. – Вся мягонькая такая, тепленькая, словно хлебушек с молочком да с маслицай...
Он пошарил у Степанюк в карманах, стал вытаскивать крутобокие пачки творога, пухлые пачки сметаны.
– Ах ты, мать честная! – застонали пенсионеры и стали хватать да прятать в карманы.
– Труп бы надо спрятать! – цинично, сквозь зубы проговорил Косоруков.
В руках у него блеснул под красной кровавой луной шелк преступной веревки:
– Уходить надо. Не ровен час, участковый пойдет: застукает, как пить дать...
Он запихнул молчаливую Степанюк в контейнер, привалил ее обломком бетона, и все трусцой побежали прочь.
Напоследок Косоруков встал в профиль, и все увидели знакомый матерый оскал Капитоныча; все услышали знакомое позвякиванье под полой пиджака.
...Через некоторое время, не убиенная до конца Степанюк выползла из контейнера и покатилась снова в магазин. Она встала за прилавок, выставила привычную пожухлую картонку:
НИЧИГО НЕТ И НИ БУДИТ ВАМ
В ТЕЧЕНЬИ ДНЯ И МЕСЯЦЕВ ДОЛГИХ.
СТЕПАНЮК ДОРОГАЯ, АЙ.
18. Свиное копыто не знает пощады
Между тем за полночь стали завозить в каптерку драгоценную книгу Булгакова, люди стали выползать из своих щелей и формироваться в живейшую очередь.
Гилявкина хотела обойти Тихомирову, для чего стала ее пихать, но Тихомирова сказала:
– Нет, не сковырнешь ты меня отседов!
Но вдруг черная мохнатая лапа высунулась из-за спины Гилявкиной и стала отпихивать Тихомирову.
Тихомирова крутанула блатной палец на излом, рука застонала и убралась.
Гилявкина, злобствуя, повернулась лицом к Кремлевскому Дворцу съездов.
И в то же мгновение перед ней появился Капитоныч. Он шепнул:
– Есть наемный у меня человек в высшем эшелоне общества... Дай-ка мне быстро в благодарность ты печень трески...
Гилявкина сунула Капитонычу презентик, и Капитоныч подумал: «Напишу-ка я тебе, Клещук ты моя, писмецо жалобливое».
И он стал писать, зловеще поигрывая мускулом землистого предынфарктного лица:
Записка была такая: «В направлении Кремлевского Дворца съездов. Заявление. Клешук, дай мне министра утренних дел. Пришлю тебе с запиской сей Идрисову. Ей верь, – за нее двенадцать копеек плачено и полпачкой творога. К сему Капитоныч твой дорогой и мафия наша К-12».
Он подозвал Идрисову, дал ей презентиком блестяшку от поломанного своего зонтика импортного и окурочек «Кэмла».
Идрисова поехала в направлении Кремлевского Дворца съездов.
На пропускном пункте она солдату ручку погладила и говорит:
– Ой порнушечку да чернушечку впарю я тебе, паренечек...
И показала цветную фотографию из «Огонька», подписанную так: «Н. Мордюкова и Ю. Гагарин на сочинском пляже».
Зарделся паренек от эротики, пошел красными непристойными пятнами и глубоко в карман фотографию спрятал, воровато оглядевшись при этом по сторонам.
Идрисова метнулась быстренько с письмецом дальше и видит перед собой политически грамотного офицера, который ей путь заступил: глазом щурится соколиным, ухом прядает и компьютером целится, да прямо в сердце Идрисовой.
Сунула Идрисова ему кроссвордик на военную тему, козырнул офицер, углубился в разгадку, рукой махнул: пустить.
Заметался дворец, задрожал, шарахнулся, и по всем этажам с удовлетворением пронеслось:
– К уборщице Клещук курьер прибыл!
Выкатилась уборщица Клещук заспанная, зевает, сладко щурится. По дворцу Идрисову повела, всякие штучки показывает.
– А вот тут, дорогая ты Идрисова моя, – говорит наконец Клещук, – туалет мой личный находится...
Ахнула Идрисова.
Унитаз весь сырковой массой припущен, что по пятьдесят одной копейке, да творожком весь выложен.
А с потолка сосиски свисают, да яичками по 90 копеек приправлены. А в унитазе – господи! Не вода течет, а молоко булькает: да не простое, а топленое да цельное, и жиру в нем – шесть процентов, вот! Для кремлевских небожителей!
А рядом-то!
Рядом молодой человек стоит, мускулом играет, щеки красные, словно яблочки, улыбается.
– Присядьте свежесть получить, – говорит молодой человек и руку подает, и голову почтительно наклоняет.
Подала Идрисова письмецо Клещук. Читала-читала Клещук да так и не разобрала, чего от нее Капитоныч хочет.
– Устно ты мне свою просьбу изложи, дорогая!
– Самого ты министра утренних дел для Капитоныча вышли, вот! – сказала Идрисова.
Клещук гаркнула на весь дворец так что эхо отдалось в Грановитой палате:
– Мине министра дать, ать, ать!
И как понеслось по кулуарам:
– Для Клещук! Для Клещук!
Через минуту черная «Волга» с зашторенными окнами мчалась, рассекая пополам улицы.
Вскоре она остановилась, из нее выскочил министр утренних дел, крикнув своим клевретам:
– Шашлыку вы дайте мне все!
Ему дали шашлыку в зелени и в крови, и он стал есть при полной тишине. За спиной его отчетливо блеснули багровые зарницы и золотые купола с рубиновыми звездами.
Старик Мосин жалобно завыл на помойке, услышав запах мяса кровавого, хруст челюстей услышав.
Вместо правого башмака у министра было свиное копыто с прилепившимся глазом человеческим и кусочком кишки.
Министр бросил портфель в сторону, скинул кожаный плащ и закричал, стукнув копытом семь раз оземь:
– Мать ты моя родная, а я сын твой, вот!
Он сильно поцеловал Гилявкину в губы и закричал:
– Кто ж тебя обидел тут, маманя-говняня моя ты номенклатурная-макулатурная да халтурная?
– Она! – крикнула Гилявкина, и министерские работники, давясь шашлыками, хрипя и тараща глаза, бросились бить Тихомирову.
– О, нет, не сковырнешь меня ты отседов! – закричала Тихомирова. – Потому что за правду я!
– А мы за что? – гаркнул министр. – В порошок сотру!
Он веером изрыгнул изо рта кровь и зелень шашлыка.
– Фу ты! – закричала Тихомирова, отмахивая от себя зловоние, но стала задыхаться и потеряла бдительность.
И в то же мгновение министр лягнул ее: костяное копыто глубоко вошло Тихомировой в живот, разворотив там селезенку.
А Капитоныч вскочил в черную «Волгу» и, матеро вырулив, ударил передним буфером Тихомирову в грудь ее.
– Совок ты, Тихомирова, вот ты кто! – проговорил он с ненавистью.
Гилявкина закричала:
– Слева заходи все! Веревками ее обвязывай и сволакивай, чучелу! Не видать ей Булгакова!
Тихомирову обвязали и принялись тащить, чего она не поняла толщиной своего тела: полтора метра на полтора.
Тихомирову стащили в глубокий кювет и крикнули ей сверху:
– Умрешь ты здесь, гадина вонючая!
В кювете нашлась безымянная старуха с тупым камнем в руке.
Она опустила его на голову Тихомировой.
Кровавые мозги ошметками полетели ей в лицо. Она склонилась над черепом и стала лизать дымящееся месиво, утробно повизгивая, когда в зубы попадались ей хрустящие бляшки атеросклероза.
Думать Тихомировой стало нечем, и она умерла.
Безымянная старуха засмеялась над ней, тряся седыми космами, а потом натянула австрийские сапоги, вырвала из рук помертвелых противотанковую сумку железябистую им. старого московского татарина Галяма и, харкая кровью, потащилась в квартиру Тихомировой, предварительно выведя у себя авторучкой на ладони:
ПЕРВА Я СТАЛА ЗА ВЕЩАМИ ЕЕ КАК ТОКО СДОХЛА ОНА ГАДИНА В ОДИН ЧАС ТРИДЦАТЬ МИНУТ
19. Третье зловещее явление гардеробщика Капитоныча
...Уже давненько уехала черная «Волга» с Гилявкиным.
В Кремлевском Дворце съездов уборщица Клещук читала документы и сверху каждой бумаги приписывала свои закорючки.
«Нету средств у страны нашей». «А иде тибе взять-то?» «Ишь, чего захотел! А что же люди наши несметные скажут?!»
В каждый документ она харкала и дописывала:
«Уборщица Клещук смотрела да присматривала».
Наконец, она тоже отправилась спать – важная государственная работа была завершена.
...К утру на пустыре каждая пенсионерка получила по тому Булгакова.
Утолив голод духовный, советские люди крепко задумались о хроническом голоде телесном.
Они поползли к молочному магазину и спрятались за ящиками на подступах к нему.
Вдалеке показалась утренняя машина с молочными продуктами. Свора пенсионеров с тучными авоськами и каталками наперевес бросилась к машине.
Дегтева ударила паренька-шофера поддельной жалобной книгой и стала целовать синюшный труп его, вглядываясь да приговаривая:
– Ой, молодежный какой, словно девица...
Другие пенсионеры бросились к машине, вмиг растащили ее содержимое, исковеркали и спихнули ее в ухаб.
Но не всем хватило: обездоленные огласили округу воплями и рыданиями, а также злым зубовным скрежетом, который производили их молодые челюсти. Скрежет порой перерастал в верещание, в ультразвук; изо рта многих пенсионеров валил дым, а вокруг расползался едкий запах горелой пластмассы.
...Стая поползла дальше.
Небо светлело, старухи всматривались в него стеклянными глазами и думали: «Говорят, что советские пенсионеры злей всего бывают на рассвете, когда выцветают звезды... И правильно говорят: потому что так оно и есть...»
Они остановились у магазина на улице Уссурийской в задумчивости.
В это же примерно время, тяжеловесная стая других старух, хрипя и выкатывая кровью налитые глаза, ползла по улице Уссурийской, к открытию магазина.
Вскоре они встретились перед продуктовым магазином.
И тут раздался истошный голос старика Мосина:
– Ага! Вот и мой час пришел!
Из-за контейнеров выскочила огромная розовая свинья с полыхающим комсомольским значком во лбу.
На ее спине сидел Мосин. Блестела кем-то воткнутая ему в темечко вилка. В правой руке Мосин держал дохлый магический апельсин, а в левой – кусок магтческой селедки. Он мчался на бешеной скорости и вопил:
– Вперед вы все! Чего ждать? Смерти голодной?
Он швырнул апельсин в витрину – раздался оглушительный взрыв. В образовавшуюся брешь вползли многочисленные пенсионеры, хватая ртами и руками клочья воздуха.
Прямо перед ними возник багровый от гнева, кубатуристый сторож.
Тархо-Михайловская дребезжащей когтистой рукой нацелилась на глаз сторожа.
Дегтева выхватила поддельную жалобную книгу, чтобы морально уничтожить сторожа в жалобах, а Терентьева приценилась к сторожу крючкотворством, для чего вырвала из кармана «Уголовный кодекс страны нашей несметной» и угрожающе стала махать перед его отупевшим взглядом.
– А лучше количеством задавим! – закричала хитрая Шохова. – Чтобы никто отдельно за труп его не был в ответе!
– Так и сделаем! – закричали все. – Ух и хитрая ты!
Но в это самое мгновение сторож распахнул полу пиджака, и все ахнули: грудь была совершенно золотая от медалей!
Потом сторож повернулся в профиль, и кое-кто узнал знакомый оскал гардеробщика Капитоныча.
– Идите все вы назад! – громовым и гробовым голосом сказал Капитоныч. – И людям, что идут за вами, скажите, чтобы шли назад. И те пущай другим скажут, чтобы шли назад, а те пусть тем скажут, что через тыши-затыщи лет родятся, чтобы шли назад, а те пусть в космос взлетят и на планету Марс передадут тем, которые там яблоньки посадили, чтобы шли назад... Капитоныч, мол, так велел, такова его воля подспудная!
И он замолчал, а потом для устрашения вырвал из груди медаль одну, ковырнул иголкой череп ближней старухи, прихватил оттуда упругую извилину и вздернул на ней старуху личной профессиональной рукой.
И закричал он при этом, в страшном оскале исказив рот:
– Феричита-а-а-а-а! Совки!
Шарахнулись было назад старухи, но закричала Шохова:
– Души его! Мы мафии не боимся и коррупции тоже!
Мосин бросил ему в лицо кусок магической селедки и помертвело оно.
Шохина плюнула ему в его щеки землисты; а все остальные свалили переодетого Капитоныча с ног, и вскоре он затих под ногами.
И бросились люди беспреградно топтать и растаскивать витрины, рвать в подсобках мешки с сахаром и гречкой, взламывать холодильники с колбасой «Фестивальной».
Потекокова загрузила на свою таратайку мешок сахара и двадцать батонов колбасы. А как только Тархо-Михайловская ухватила с тележки один батон, бросила ей на голову сверху десятикилограммовую голову сыра «Пошехонского».
Летописец того времени обязательно бы в этот момент перешел на стихи, уж больно была сильна и прекрасна Потекокова в гневе.
- И Тархо-Михайловская взвизгнула,
- И кровь человеческая из нее брызнула...
- И прокляла она Потекокову грузную
- И таратайку ее с грузами:
– Проклинаю тебя я, Потекокова! – в самом деле закричала сподвижница и потеряла сознание.
И культяписто покатилась лысая Потекокова по земле, ловко вскочила поверх мешка и колбас на таратайку свою, хохотнула и помчалась с визгом вперед на большой скорости один километр в час.
Вскоре все старухи покинули опустошенный, задымленный магазин, по ходу дела удушив двух появившихся продавщиц.
Капитоныч шевельнулся на полу. Не слишком сильна была магия, пущенная на него Мосиным, всего лишь первого уровня она была.
Поэтому Капитоныч не умер. Пока каблуки топтали его поскрипывающий череп, он раскидывал сети мыслей для дальнейших своих действий.
Капитоныч привстал и приказал заместителю сторожа:
– Тыщ Бушуев, заместитель сторожа! Телом своим соедини ты прерванную связь и доложи утреннюю обстановку в райисполком!
Бушуев бросился выполнять приказ – соединил собою телефонные провода.
– Молодец! – одобрил Капитоныч, а лупоглазой Алле Константиновне, сподвижнице, он приказал. – Позвони в исполком, доложи людям нашим состояние дел на улице Уссурийской в Москве в голодные годы. Запроси черную «Волгу» из гаража нам.
Лысая Алла Константиновна пожаловалась на частичную утерю женской привлекательности. Пока ее топтали напару с Капитонычем, она потеряла парик.
– Парик утерянный проведем через профком фондом соцкультбыта... – сказал твердо Капитоныч.
Вскоре появилась «Волга».
Бушуев и Капитоныч вскочили в машину и помчались. Лысая Алла Константиновна завопила:
– А меня почему не взяли?
Капитоныч сильной профессиональной рукой убийцы крутанул руль, сшиб верную сподвижницу правым буфером в кювет и цинично оскалился в направлении Бушуева:
– Нам лишние свидетели не нужны, пусть они с землей сырой шушукаются. Правда, Бушуев?
Так иногда революция пожирает своих детей.
20. Звездный час клопа Василия
Тем временем сытые (и духом, и телом) пенсионеры стекались к одному месту на пустыре, говоря:
– Устали мы, сердечные, поспать нам пора, вот...
И тут же стали они вползать под большое ватное одеяло, подтыкать под головы подушки, стали жевать антибиотики, димедрол и засыпать.
Первая ушла в сон, барахтаясь руками и ногами в объятьях богатырского сна, матерая убийца Шохова.
Чуть поодаль засыпал старик Мосин.
Рядом с ним лежала его свинья, сонно похрюкивая, дожевывая магическую селедку первого уровня.
Дальше возвышалась на подушках, пронзительно свистя костлявым носом, Тархо-Михайловская. Рука правая ее была откинута. На указательном остром пальце извивался в предсмертной агонии чей-то глаз. Словно блоха, он дернулся-дернулся и затих.
Поодаль, подложив под голову свою таратайку, храпела Потекокова, приобняв культяпкой мешок сахара и 20 батонов колбасы «Фестивальной».
К толстым губам ее прилепился подсыхающий кусок чьей-то слепой кишки.
Причмокивая и сопя ей в ухо, лежал рядом с нею ответственный пенсионер Майский. Голова его вдруг вздыбилась в темечке, лопнула, и из рваной дыры выполз толстый бочкастый конденсатор – дымясь, миролюбиво откатился прочь.
– А где ж Василий наш? – спросили некоторые люди.
– Здесь я, тех-тех, – закряхтел клоп Василий, откуда-то взявшись.
Хитиновой лапой он ловким ударом киллера рассек жилу на шее Ефремовой и припал к любимому вампирскому занятию своему, под свистящие, булькающие храпы, бушевавшие вокруг него.
...Спустя некоторое время пришел сенатор Макгроу.
Он вырвал из глаза своего вилку и воткнул ее Мосину в темя. На голове Мосина покачивалось теперь уже две вилки. Над этим нелогичным обстоятельством Мосин глубоко задумался во сне.
Потом раздался механический скрежет, – в воздухе показался гроб с привязанным лейблом.
– Англо-американский! – ахнул Макгроу. – Значит, пришел в жэк контейнер из Англии-Америки!
Гроб на всей скорости ухнул рядом с Макгроу, из него наполовину вывалилась гордая и удовлетворенная Прокофьева.
Она ткнулась головой оземь, и храп ее низко пополз по земле.
Почесывая грудь татуированной рукой, рядом с Макгроу уснул и адмирал в отставке в цветастой юбке из модного гардероба Прокофьевой.
Показался и Федор Иванович Заря, чудесным образом возродившейся из порошка в баночках; готовясь ко сну, он шел присядкой под звук гармони, угрожающе надвигаясь веселым туманным лицом на косяк двери. И когда косяк разлетелся вдребезги, уснул удовлетворенный, пробормотав: ух, сердечный, какой я...
Стали подползать Тихомирова, Чанская и тоже засыпать. Прискакала скок-поскок Говорушкина и тоже уснула.