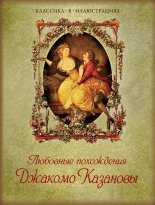Общак Лихэйн Деннис

— Я всего лишь повторяю то, что ты сам сказал.
— То, что, как тебе показалось, ты услышал, — сказал старик. — Не-а. Будет восемьдесят к двадцати. Чтобы я отправил тебя отсюда с целой партией? Не зная, увижу ли тебя снова? Тут требуется большое доверие. Охрененно большое доверие.
— Ты здесь в своем праве, — сказала Моника, поднимая глаза от журнала.
— Именно. Значит, восемьдесят к двадцати. — Счастливые глаза Паджета стали маленькими и грустными. — Понятно?
— Конечно, — сказал Эрик, чувствуя себя таким крошечным и таким белым. — Конечно, Паджет, все в порядке.
Паджет снова засиял своей стоваттной улыбкой:
— Ладно. Я мог бы сказать, девяносто к десяти, и куда бы ты делся, ниггер, я прав?
Эрик пожал плечами, отхлебнул пива, глядя на раковину.
— Я спросил: «Я прав?»
Эрик поглядел на старика:
— Ты прав, Паджет.
Паджет кивнул, чокнулся своей банкой о банку Эрика и сделал глоток.
Правило номер два, напомнил себе Эрик. Никогда не забывай о нем. Ни на секунду не забывай до конца своих дней.
В кухню вошел худощавый парень в пестром хлопчатобумажном халате и коричневых носках, он хлюпал носом, прижимая к верхней губе скомканную тряпку. Джеффри, решил Эрик, младший брат Паджета. Паджет однажды сказал ему, что Джеффри убил пять человек (и это только те, о которых он лично знает), сказал, что для Джеффри убить — все равно что высморкаться. Сказал, если бы у Джеффри была душа, за ней надо было бы посылать поисковую экспедицию.
Глаза у Джеффри были тусклые, словно у моли, он пробежался взглядом по лицу Эрика.
— Как дела? В порядке?
— Все отлично, — сказал Эрик. — А ты как?
— Я в порядке. — Джеффри утер нос тряпкой. Сделал глубокий вдох и высморкался, открыл шкафчик над раковиной и вытащил бутылочку сиропа от кашля. Большим пальцем он сковырнул крышку, запрокинул голову и осушил половину пузырька.
— А как ты на самом деле себя чувствуешь? — спросила Моника. И хотя она не отвела глаз от страницы, впервые с той минуты, как Эрик вошел в дом, она проявила интерес к кому-то и к чему-то.
— Так себе, — сказал Джеффри. — Все это дерьмо, которое во мне сидит, никуда не выходит.
— Тебе бы супу поесть, — сказала Моника. — И лечь под одеяло.
— Ага, — сказал Джеффри. — Ты права. — Он закрыл пузырек с сиропом от кашля и поставил его обратно на полку.
— Ты говорил с тем ниггером? — спросил Паджет.
— С каким ниггером?
— С тем, который вечно торчит перед «Бери и плати».
Правила номер три и номер пять, мысленно повторял Эрик, словно мантру. Три и пять.
— Я говорил с ним. — Джеффри снова с силой потянул воздух носом и утерся тряпкой.
— Ну?…
— Что «ну»? Этот ниггер каждый день торчит на одном и том же месте. Он никуда оттуда не сдвинется.
— Меня не он волнует. А его дружки.
— Дружки… — Джеффри качнул головой. — Дружки этого чувака никакая не проблема.
— Откуда знаешь?
Джеффри несколько раз кашлянул, прикрываясь тыльной стороной ладони, спазмы сухого кашля прошли по его груди, словно нож, вспарывающий покрышку. Он утер выступившие слезы и окинул взглядом Эрика, как будто только что увидел его.
Вдруг он прочитал что-то по лицу Эрика, и это ему не понравилось.
— Ты обыскал этого парня? — спросил он Паджета.
Тот отмахнулся:
— Да ты посмотри на него!
Джеффри выхаркнул в раковину комок слизи.
— Ну ты, старик, даешь. Совсем мышей не ловишь.
— Вот и я говорю, — устало проговорила Моника, переворачивая страницу.
— Слышь? — Джеффри прошел через кухню. — Я хочу обыскать тебя, парень.
Эрик поставил пиво на край плиты и поднял руки.
— Только ты от меня не заразись. — Джеффри затолкнул в карман купального халата комок туалетной бумаги. — Ты ведь не хочешь, чтоб у тебя тоже было такое дерьмо. — Его руки ощупали Эрику грудь, поясницу, промежность, похлопали по внутренней стороне бедер и по лодыжкам. — Башка будто ватой набита. А по горлу словно драная кошка сползает, а потом лезет вверх, цепляясь когтями. — Джеффри, хлюпая носом, быстро и уверенно ощупал задницу Эрика.
— Лады, чистый. — Он развернулся к Паджету. — Неужели так трудно проверить, старик?
Паджет закатил глаза.
Эрик поскреб шею сзади, размышляя о том, сколько народу укокошили в этом доме. Как это часто бывало в тюрьме, он изумлялся, насколько скучными и примитивными оказываются самые худшие люди на свете. Лампочка над головой пекла голову, и жара проникала уже до самого нутра.
— Куда ты дел средство для прочистки мозгов? — спросил Джеффри.
Паджет указал на бутылку джина «Сиграмс» на полке над плитой.
Джеффри снял ее, схватил стакан.
— Между прочим, я говорил тебе, чтоб ты поставил ее в холодильник. Теперь она такая же холодная, как мое дерьмо.
— Тебе пора проветриться, — сказал Паджет. — Сходи купи себе шаль. Джеффри, ты превратился в старую бабу.
Комната слегка качнулась, когда Эрик, потерев шею, запустил пальцы под воротник и еще ниже, к лопаткам. Ему было жарко, в голове пульсировало, во рту пересохло. Здорово пересохло. Как будто никогда ему уже не сделать ни глотка до самой смерти. Он заметил свою пивную банку на том месте, где он ее оставил, когда Джеффри принялся шмонать его. Эрик подумал, не взять ли ее, но решил, что сейчас не до этого.
— Целыми днями я только и слышу, что у тебя течет из носу. Течет как хрен знает что. Все течет и течет, — бурчал Паджет.
Он допил свое пиво, смял банку и открыл холодильник, чтобы взять следующую.
Джеффри поставил свой стакан у раковины, обернулся к Эрику и произнес:
— Ты что, ниггер, вообще охренел?
В его голосе прозвучало равнодушное удивление: Эрик вытащил руку из-за ворота, извлекая маленький пистолет двадцать второго калибра с обрывком скотча на стволе. Кожу щипало в том месте, где оружие было приклеено к телу. Эрик выстрелил Джеффри точно под кадык, и Джеффри осел на пол под раковиной, соскользнув по дверцам тумбы.
Следующую пулю он всадил в стену над ухом Моники, она сунула руку под стол, пригнулась, опустив голову к коленям, и Эрик выстрелил еще раз прямо ей в макушку. Наверное, он замешкался на целую секунду, завороженный видом маленькой дырочки, появившейся у нее в голове, темной, как и любая другая дырка, какие он видел, темнее даже ее черных-пречерных волос. Потом он развернулся.
Следующая пуля попала в Паджета, выбив пиво у него из руки и отшвырнув так, что он ударился бедром и головой о дверцу холодильника.
Весь дом сотрясался от звука выстрелов.
Оружие в руке Эрика подрагивало, но не сильно, а в голове вроде бы перестало пульсировать.
— Ты вонючий кусок дерьма… — выдавил из себя Паджет.
Голос у него был тонкий, девчачий. Посреди пропотевшей футболки у него была дырка, из которой вытекала кровь, расползаясь все шире и шире.
Эрик подумал: «Я только что застрелил троих. Черт, о черт!»
Он поднял с полу банку пива. Выдернул кольцо, и пиво брызнуло на ножку стола. Он сунул банку в руку Паджета, глядя, как пена заливает пальцы и запястье старика. Лицо у него стало словно мел, как и волосы. Из груди вырывался приглушенный свист. Когда тело Моники сползло со стула и грохнулось на линолеум, Эрик на мгновение присел на пол.
Он провел рукой по волосам Паджета — заснеженный уголь. Даже едва живой, Паджет сумел дернуться, пытаясь отстраниться. Только отстраниться было некуда, и Эрик несколько раз погладил его по голове, а потом снова сел, отодвинувшись.
Паджет уперся рукой в пол и попытался подняться. Рука подогнулась, и Паджет снова осел. Попробовал еще раз. Слепо нашаривая стул, наконец положил ладонь на сиденье, язык вывалился у него изо рта и повис над нижней губой, когда он попытался подтянуться. Он сумел приподняться, встал на полусогнутых дрожащих ногах, а потом стул скользнул по полу, и Паджет упал на пол, на этот раз гораздо тяжелее, да так и остался сидеть, уставившись на свои колени и делая резкие, короткие вдохи искривленным ртом.
— С чего ты взял, что меня можно использовать? — спросил Эрик у Паджета, с усилием двигая губами, словно они были резиновыми.
Старик отрывисто дышал, широко раскрыв рот и глаза. Он старался заговорить, но получалось только шипение.
Эрик отодвинулся назад, чтобы прицелиться. Паджет уставился в дуло, взгляд у него стал диким и затравленным. Эрик позволил ему насмотреться вдоволь. Паджет крепко зажмурился, зная, что сейчас вылетит пуля.
Эрик выжидал.
И когда Паджет открыл глаза, Эрик выстрелил ему в лицо.
— Правило номер семь. — Эрик поднялся. — Пошевеливайся, пошевеливайся.
Он прошел под лестницей, зашел в спальню в глубине дома и открыл дверцы стенного шкафа. В шкафу был сейф. Примерно три фута высотой и два шириной, но Эрик знал из бесчисленных ночных разговоров в тюремной камере, что в сейфе нет ничего, кроме телефонных справочников. Он не был даже прикручен к полу. Кряхтя от напряжения, с трудом переваливая сейф с боку на бок, Эрик стал тянуть его, пока пол под ним не открылся. Эрик сел на корточки и начал рассматривать половицы, изодранные и исцарапанные дном сейфа. Поднял поперечную доску, и та сразу же поддалась. Он швырнул ее за спину, вынул еще четыре и заглянул в дыру: пакеты, много плотно набитых пакетов с героином. Эрик вынимал пакеты один за другим, складывая их на кровать, пока тайник не опустел. Всего получилось четырнадцать пакетов.
Эрик огляделся в поисках чемодана или спортивной сумки, но ничего подходящего не увидел и вернулся в кухню. Ему пришлось перешагнуть через ноги Паджета и голову Моники, чтобы открыть дверцы тумбы под раковиной. Там он нашел коробку с мешками для мусора, и тут же его кольнуло осознание, что Джеффри, сидел, привалившись к этой самой тумбе. Джеффри в купальном халате и коричневых носках, с чертовой пулей в горле.
Эрик заметил капли и подтеки крови на ящиках слева, потом еще на полу, на дверной раме и на двери, ведущей в коридор. Кровавые следы походили на жирных красных бабочек. Эрик вышел по ним в коридор, где ожидал увидеть Джеффри, распластавшегося на животе, задыхающегося или мертвого.
Но Джеффри там не было. Кровавые бабочки заворачивали на лестницу, а потом исчезали в темноте на узких, продавленных ступеньках и вылинявшей, потертой ковровой дорожке, постеленной по центру. Голая лампочка свисала с низкого потолка.
Стоя здесь, Эрик различал прерывистое дыхание. Оно доносилось справа от лампочки, из дальнего угла комнаты где-то над ним. Он услышал, как выдвинулся ящик.
Эрик сглотнул комок в горле, его накрыло волной паники. Правило номер семь, правило номер семь. Не думай, а действуй. Он быстро вернулся на крыльцо и схватил мешок с углем, который заметил раньше. «Мэтчлайт». Не требует жидкого средства для розжига. В наши дни все предусмотрено.
Снова оказавшись в коридоре, он медленно-медленно высунул голову из-за лестницы, прислушиваясь к сипению, рвущемуся из развороченного горла. Когда он удостоверился, что Джеффри не поджидает его на темной лестнице или на верхней площадке, он поднялся на первую ступеньку и поставил мешок с углем.
Потребовалось полминуты, чтобы разорвать мешок с обеих сторон, и Эрик обжег большой палец, крутанув колесико своей зажигалки. А потом пламя сразу взметнулось. Наверное, за многие годы на лестницу пролили целую ванну спиртного, потому что огонь мгновенно набросился на края линялого ковра и рассыпал по ступенькам искры, похожие на сигнальные огни взлетной полосы. Эрику ударило в лицо угарным газом, и он отступил назад. Дым был черный, нездоровый, с керосиновым запахом. Эрик уже собирался обойти огонь, когда пуля впилась в пол прямо перед ним. Еще одна пуля прожужжала над головой и вонзилась в дверь на крыльце.
Эрик прицелился поверх пламени и выстрелил в темноту, ему ответили вспышкой, несколькими вспышками, пули втыкались в стены, осыпая его голову щепками.
Он скорчился под стеной. Пламя лизнуло ему ухо, он увидел, что плечо горит, похлопал по нему и сбил огонь, но теперь горела стена. Стена, лестница, спальня по другую сторону стены. Твою мать! Героин остался в спальне, дожидается его на кровати.
Полыхал уже весь коридор, черные клубы маслянистого дыма разъедали глаза и легкие. Эрик выстрелил в Джеффри в тот самый миг, когда тот перепрыгнул через лестничные перила. Джеффри упал в огонь, сжимая в руке бесполезный девятимиллиметровый револьвер. Эрик выстрелил в него снова, когда тот грохнулся на пол в коридоре, и Джеффри, одной рукой все еще зажимая разодранное горло, рухнул в огонь, от которого загорелся и его халат.
Эрик пытался обойти пламя, но это было невозможно. Огонь был повсюду. А там, где его не было, клубился черный дым.
Глупо, подумал Эрик. Ты болван. Болван, болван, болван!
Но не такой болван, как эти три покойника, которых ты оставил в доме.
Эрик вышел за дверь и двинулся обратно по дорожке из растрескавшихся камней, под сочащимися влагой деревьями с их «кап-кап-кап», сел в машину и выехал на грязную дорогу. Свернул на другую дорогу, покрытую покореженным асфальтом, спросил себя, какого рожна люди вообще живут в этой долбаной дыре. Найди, блин, работу, подумал он. Завяжи с коксом. Обрети хоть какое-то самоуважение, иначе ты не лучше этих дебилов. Долбаных дебилов, запертых в этой засранной клетке.
Даже если бы его план выгорел и он выбрался бы отсюда с несколькими килограммами героина, не было никаких гарантий, что он сумел бы его продать. Кому бы он его, на хрен, продал? В Бостоне он не знал никого, кто был способен толкнуть такую партию, и даже если бы его свели с подобными людьми, те попросту обобрали бы его. А то и грохнули бы, чтобы он больше к ним не совался.
Может, оно и к лучшему, что он возвращается домой без добычи и без возможности подзаработать. Впрочем, такая возможность обязательно появится, покуда он держит ухо востро и не зевает. Одно в старом Ист-Бакингеме хорошо: через него ежедневно течет столько грязных денег — куда больше, чем легальных доходов, — что человеку с головой на плечах остается просто дождаться подходящего момента.
Эрик выудил свой список правил, развернул одной рукой и разгладил на колене, чтобы прочитать еще раз по дороге. В машине было темно, но он знал этот список наизусть, на самом деле ему не было нужды читать, просто было приятно подержать его на коленях. На листе его почерком было аккуратно написано:
1.Никогда не верь заключенному.
2.Никто тебя не любит.
3.Стреляй первым.
4.Чисти зубы три раза в день.
5.Если не ты, то тебя.
6.Заставь всех платить.
7.Работай быстро.
8.Всегда выгляди вменяемым.
9.Заведи собаку.
После железнодорожных путей он свернул налево и увидел впереди огни «7–11», размшляя о том, что поездка туда кажется в два раза дольше, чем поездка обратно, и как было бы чудесно, если бы так оно и было на самом деле. А потом он подумал: Надя.
Интересно, как она теперь поживает.
Глава девятая
Затишье
Они не видели Рарди со дня ограбления. Знали, что из больницы его выпустили на следующий день, после чего о нем не было ни слуху ни духу. Однажды утром они заговорили об этом в пустом баре, когда половина перевернутых стульев еще была на столах и на барной стойке.
— Это на него не похоже, — сказал Кузен Марв.
Боб разложил на стойке перед собой газету. Появилось официальное объявление: епархия сообщила о закрытии церкви Святого Доминика в Ист-Бакингеме, закрытии, которое кардинал назвал «неизбежным».
— Он и раньше пропадал по нескольку дней, — сказал Боб.
— Но только не с сотрясением мозга, и он всегда звонил, — возразил Кузен Марв.
В газете было две фотографии церкви Святого Доминика: одна современная, другая столетней давности. Небо над церковью было одинаковым. Но никого из тех, кто жил под первым небом, не осталось в живых под вторым. И возможно, они были бы даже рады, что уже не живут в мире, который настолько отличается от того, к какому они привыкли. Когда Боб был ребенком, его приход был его страной. В нем имелось все, что требовалось, все, что ты хотел знать. Теперь, когда епархия позакрывала половину приходов, чтобы расплатиться за преступления священников-педофилов, Боб никак не мог принять тот факт, что дни расцвета приходов миновали, остались в прошлом. Боб принадлежал к определенному типу людей, определенной части поколения, почти целому поколению, и хотя таких, как он, оставалось еще много, они уже постарели, поседели, их мучил кашель курильщика, они охотно ходили на медосмотры, хотя никогда не интересовались результатами анализов.
— Ну, не знаю, — продолжил Марв. — Эта история с Рарди как-то меня тревожит, честно тебе говорю. Я на крючке у таких парней, что…
— Ни у кого ты не на крючке, — сказал Боб.
— Я же рассказывал о мужике в машине.
— Он спросил у тебя дорогу.
— Главное, — сказал Марв, — как он это сделал, каким взглядом на меня посмотрел. А как насчет того парня с зонтиком?
— Он приходил из-за собаки.
— Из-за собаки. Откуда ты знаешь?
Боб вглядывался в неосвещенную часть бара и чувствовал вокруг себя смерть — побочное следствие ограбления, решил он, и встречи с тем несчастным в фургоне. Тени превратились в больничные койки, в сгорбленных стариков, которые покупают похоронные открытки, в пустые кресла-каталки.
— Рарди просто нездоров, — сказал Боб. — Он появится.
Но пару часов спустя, оставив Марва выдерживать натиск напористых дневных пьяниц, Боб отправился к Рарди домой, в квартирку на втором этаже, зажатую между двумя другими в обшарпанном трехэтажном доме на Персеваль.
Боб сидел в гостиной с Мойрой, женой Рарди. Когда-то она была настоящей красоткой, Мойра, однако жизнь с Рарди и ребенком, у которого обнаружились какие-то проблемы со способностью к обучению, высосала из нее всю красоту, словно сладкий сок из травинки.
— Я несколько дней его не видела, — сказала Мойра.
— Несколько дней, вот как? — переспросил Боб.
Мойра кивнула:
— Он пьет гораздо больше, чем кажется.
Боб подался вперед, на его лице отразилось удивление.
— Ну, я-то точно знаю, — сказала она. — Он отлично это скрывает, но прикладывается к бутылке прямо с утра, как проснется.
— Однажды я видел, как он пьет, — сказал Боб.
— Из маленькой бутылочки, как в самолете? — уточнила Мойра. — Он носит их с собой в пальто. Так что даже не знаю, может быть, он сейчас у братьев или у кого-нибудь из старых приятелей из Татл-парка.
— Когда он был в последний раз? — спросил Боб.
— Когда я последний раз видела его? Пару дней назад. Этот паразит уже делал так раньше.
— Но ты хоть пробуешь до него дозвониться?
Мойра вздохнула:
— Он не берет трубку.
В дверях появился ребенок, в пижаме, хотя было уже три часа дня. Патрик Дуган, сейчас ему девять или десять, Боб не мог вспомнить точно. Мальчик посмотрел на Боба неузнающим взглядом, хотя видел его сотни раз, затем перевел взгляд на мать, весь ощетиненный, с вздернутыми худыми плечами.
— Ты обещала, — сказал Патрик матери. — Мне нужна помощь.
— Хорошо. Вот только договорю с Бобом.
— Ты обещала, обещала, обещала. Мне нужна помощь. Нужна помощь!
— Солнышко! — Мойра на мгновение закрыла глаза, затем снова открыла. — Я сказала, что приду, значит приду. Только докажи, как мы с тобой договаривались, что ты можешь поработать самостоятельно еще пару минут.
— Но ты же обещала. — Патрик в дверном проеме переступал с ноги на ногу. — Обещала.
— Патрик! — Теперь голос Мойры напрягся, предостерегая.
Патрик взвыл, на его лице отразилась отвратительная смесь ярости и страха. Звук, рвавшийся из него, был первобытным звериным воем, обращенным к первым богам. Лицо мальчика сделалось красным, словно обгорело на солнце, вены на шее вздулись. И этот вой все не кончался и не кончался. Боб поглядел в пол, перевел взгляд на окно, стараясь вести себя как ни в чем не бывало. Мойра просто устало глядела перед собой.
Мальчик закрыл рот и выбежал в коридор.
Мойра развернула пластинку жвачки и сунула в рот.
Она предложила пачку Бобу, он поблагодарил и взял одну пластинку. Они сидели в молчании и жевали резинку.
Мойра указала большим пальцем в сторону дверного проема, где недавно стоял сын:
— Рарди тебе не говорил, с чего он пьет? Нам сказали, что у Патрика какая-то хорея Хантингтона, что ли. Или аддисонова болезнь. Или что-то там когнитивно-диссонансное. Моя мать считает, что он просто придурок. Я не знаю. Он мой сын.
— Конечно, — сказал Боб.
— Ты сам-то как?
— Я? — Боб немного отодвинулся. — Нормально, а что?
— Ты какой-то не такой.
— Как это?
Мойра пожала плечами, поднимаясь:
— Не знаю. Как-то выше стал, что ли. Ты увидишься с Рарди? Передай ему, что нам нужно чистящее средство «409» и «Тайд».
Мойра отправилась к сыну. Боб вышел из квартиры.
Надя с Бобом сидели на качелях на пустынной детской площадке в Пен-парке. Рокко лежал у их ног в песке, зажав в пасти теннисный мячик. Боб поглядел на шрам на шее у Нади, и она заметила это, когда он отводил глаза.
— Ты ни разу меня не спросил. Единственный человек из всех, кто не задал этот вопрос в первые пять минут знакомства.
— Меня это не касается, — сказал Боб. — Это твое личное дело.
— Откуда ты такой взялся?
Боб огляделся по сторонам:
— Отсюда.
— Нет, в смысле, с какой планеты?
Боб улыбнулся и покачал головой. Наконец-то он понял, что имеют в виду люди, говоря, что кто-то «счастлив по уши». Именно так он чувствовал себя благодаря Наде: на расстоянии, когда он только мысленно был с ней, или вот как сейчас, сидя так близко, что можно прикоснуться (хотя они никогда этого не делали), — он был счастлив по уши.
— Разве раньше люди разговаривали по телефону на публике? — сказал Боб. — Они заходили в телефонную будку, закрывали дверь. Или же разговаривали как можно тише. А теперь? Люди прямо в общественном туалете рассказывают, как у них работает желудок. Я этого не понимаю.
Надя засмеялась.
— Ты что?
— Ничего. Так. — Она взмахнула рукой, извиняясь. — Просто никогда не видела, чтобы ты так волновался. И я не уверена, что уловила твою мысль. Какое отношение таксофоны имеют к моему шраму?
— Больше никто, — пояснил Боб, — не уважает права на личную жизнь. Все вокруг спешат выложить тебе о своей жизни всё, до последней, на хрен, подробности. Извини. Зря я сказал такое слово. Ты ведь женщина.
Надя улыбнулась ровной, широкой улыбкой:
— Продолжай.
Боб поднес руку к уху и заметил это только тогда, когда дотронулся до мочки. Он опустил руку.
— Все хотят рассказать тебе что-нибудь — что угодно, всё — о себе, и они говорят, говорят, говорят. Но когда доходит до дела, кем все они оказываются? У них кишка тонка. У них вообще нет кишок. И они попросту скрывают это за болтовней, объясняя вслух то, чего нельзя объяснять. А потом они принимаются городить ерунду о ком-нибудь еще. Я понятно объясняю?
Широкая улыбка девушки превратилась в тонкую, полную интереса и в то же время загадочную.
— Я не уверена.
Боб поймал себя на том, что нервно облизывает верхнюю губу, — застарелая привычка. Ему хотелось, чтобы Надя поняла. Ему нужно было, чтобы она его поняла. Он не помнил, чтобы когда-нибудь хотел чего-либо так же сильно.
— Твой шрам? — сказал он. — Это твое личное дело. Ты расскажешь мне тогда, когда расскажешь. Или не расскажешь. Как получится.
Боб посмотрел на канал. Надя тронула его за руку и тоже стала смотреть на канал, и они просидели так довольно долго.
Перед работой Боб зашел в церковь Святого Доминика и сел на пустую скамью в пустой церкви, впитывая в себя тишину.
Отец Риган перешел из ризницы в алтарь, на нем была светская одежда, только брюки остались черные. Он с минуту смотрел на Боба, сидевшего на скамье.
— Это правда? — спросил Боб.
Отец Риган вышел на середину прохода. Сел на скамью перед Бобом. Развернулся и положил руку на спинку.
— Правда. Епархия считает, что мы будем лучше исполнять свои пасторские обязанности, если сольемся с приходом Святой Цецилии.
— Но ведь эту церковь… — сказал Боб и указал на свою скамью, — они продают.
— Да, это здание и школа будут проданы.
Боб поглядел на устремленный к небесам свод. Он смотрел на него с трехлетнего возраста. Он никогда не видел сводов других церквей. Предполагалось, что и не увидит до самой своей смерти. Так было с его отцом, так было с отцом его отца. Некоторые вещи — их не так уж и много — должны оставаться такими, какими были всегда.
— А вы? — спросил Боб.
— Я еще не получил назначения.
— Они защищают педофилов, — сказал Боб, — и тех мудаков, которые их покрывали, но не знают, куда определить вас? Надо ж, какие мудрецы.
Отец Риган бросил на Боба взгляд, означавший, что он сомневается, доводилось ли ему раньше видеть такого Боба.
Скорее всего, нет.
— А в остальном у вас все в порядке? — спросил отец Риган.
— Конечно. — Боб поглядел на поперечные нефы. Уже не в первый раз он изумлялся, как люди умудрялись строить такое в 1878 году или, если уж на то пошло, в 1078-м. — Конечно, все в порядке.
— Я так понял, — сказал отец Риган, — что вы с Надей Данн подружились.
Боб поднял на него глаза.
— В прошлом у нее были кое-какие проблемы. — Отец Риган легонько похлопал по спинке скамьи и потом стал рассеянно ее гладить. — Кто-то даже сказал бы, что она сама ходячая проблема.
Молчаливая церковь высилась над ними, и казалось, что рядом бьется третье сердце.
— А у вас есть друзья? — спросил Боб.
Отец Риган удивленно поднял брови:
— Конечно.
— Я не имею в виду просто коллег, других священников, — сказал Боб. — Я говорю о по-настоящему близких друзьях. Людях, с которыми… ну, я не знаю… приятно общаться.