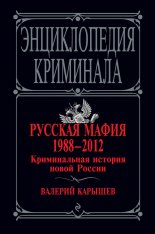Чернокнижники Бушков Александр
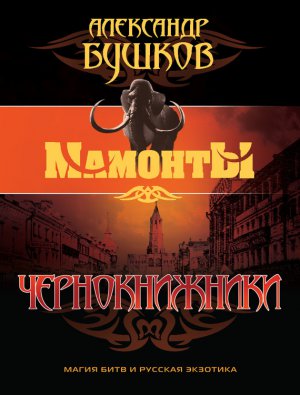
— Гос-споди… — сказал Савельев. — Так это ж куда я попал?
— Куда? А попал ты, как кур в ощип. Поскольку обратной дороги у тебя, соколик, нет. Испугался? Вздумаешь отказаться от места и сбежать — поймаю, богом клянусь. И шкуру сдеру. Таким неводом Москву накрою, что не проскочишь… — он еще больше наклонился к Савельеву, пренебрегая тем, что горячий воск капал ему на парик. — Чтобы ты крепче понял, Михайло… Это моя главная жизненная мечта: прищучить князя. И истолочь все брюсовское в пепел и прах. Мне уже семьдесят четыре годочка, боюсь не успеть…
«Ну, три года у тебя еще впереди, милый дедушка, — подумал Савельев. — Только я тебе этого, разумеется, не скажу…»
— Вот так, — сказал Кушаков, словно пребывая в некоем трансе. — И коли уж появилась возможность мечту исполнить, то благодарность моя будет велика, а кара в случае чего — жутчайшая… — капля воска с ближайшей свечи упала ему на тыльную сторону ладони, и он словно бы очнулся. — Ну ладно. Достаточно поговорили, чтобы ты, неведомый прохвост, осознал все крепенько, от и до… А теперь быстренько обсудим дела практические: как тебе весточку подадут, как ты подашь, ежели нужда возникнет…
…Когда через четверть часа Савельев наконец-то вышел из кушаковского «кабинета», торчавшие у двери трое молодчиков уставились на него с совершенно неописуемым выражением на бритых физиономиях. Широкоплечий и широколицый Павлуша покрутил головой:
— Вот это, братцы, везучий молодчик… От Алексея Иваныча на своих ногах уходит, да еще на волю…
— Да вот такие мы, германские прапорщики, — без улыбки бросил ему Савельев.
В приотворенную дверь высунулся Кушаков:
— Вы что тут лясы точите? Нашли место… А ну-ка, быстренько посадите господина прапорщика в возок и везите откуда взяли! Шевелись, дармоеды!
Глава IX
ЕГО СИЯТЕЛЬСТВО И ПРОЧИЕ ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ
Сытая, гладкая лошадка — сразу видно, не из кляч извозчиков, бежала споро. Как это сплошь и рядом случается в путешествиях по времени, сейчас никак нельзя было определить, что оказался в ином: накатанная узкая колея меж густого леса, сбросившего на зиму листву, ни строений, ни людей, одетых соответственно стоящей на дворе эпохе. Сани ничем таким особенным и не отличаются, кучер одет примерно так, как его собратья по ремеслу будут одеваться и сто с лишним лет спустя…
Глядя в его широченную, обтянутую подбитым ватой армяком спину, Савельев думал о недавнем знакомстве с крайне примечательным историческим персонажем. Пожалуй что, окажись «Михайла» настоящим здешним авантюристом, не дождаться бы ему ни особенных благодарностей, ни злата, ни уж тем более зачисления на самую жуткую в этом столетии государеву службу… Ни один начальник тайной полиции не оставит возле себя столь непонятного молодца, не попытавшись точно узнать, кто он и где его допрежь по свету носило. А расследуют здесь известно как. После всех следственных процедур ни к какой службе уже не будет пригоден подследственный…
Впрочем, и господину поручику Савельеву следовало поторапливаться — Кушаков ему много времени не даст, очень скоро начнет требовать результатов…
Полностью возвращая себе душевную бодрость, он громко замурлыкал под нос очередную балладу, доставленную неугомонным Маевским, мастером неосязаемой контрабанды:
- — Напрасно мирные забавы
- продлить пытаетесь, смеясь…
- Не раздобыть надежной славы,
- покуда кровь не пролилась…
Особенных нарушений устава тут не имелось — так, пустяки, недели на две ареста. Но ведь не узнает никто — хотя за ним, как и положено в самых серьезных делах, наблюдают круглосуточно, вряд ли в данную минуту рядом с наблюдателем сидит чтец по губам. А кучер, доживи он до ста лет, в жизни не узнает, что песенка эта неправильная, что в этом столетии ей никак не полагается быть. Именно в таких вот мелких, ничему и никому не вредящих нарушениях устава и заключался тот самый батальонный шик, который в разных воинских частях проявляется по-разному. Принято так, что тут поделать, не нами заведено, господа офицеры…
— Из офицеров будете, барин? — спросил кучер, не оборачиваясь. Должно быть, ему тоже было скучно.
— Да, — сказал Савельев.
— Тогда оно и понятно… Вашему благородию слава бывает только через кровушку… Благородные господа не то что наш брат мужик… Эх… — он тяжко вздохнул. — У меня племянничек в гренадерах… Уж не прогневайтесь, барин, но не было б подольше войны…
— А который ему год? — спросил Савельев.
Кучер помедлил:
— Считая от мясопуста… Двадцать третий пошел. А что?
— Да ничего, — сказал Савельев. — Долго ему еще служить…
— Долго… — вздохнул кучер.
Если прибавить к нынешнему году еще тринадцать, что для человека образованного сущая чепуха… Да, неведомый племянник имеет все шансы угодить в пекло Семилетней войны — очень уж многих туда бросили, а полк наверняка не гвардейский, так что в тылу не останется. Правда, и об этом мужичина не узнает — точнее, узнает сам, но не скоро, если только доживет, конечно…
— Отож! — удовлетворенно воскликнул кучер. — Считайте, барин, что уже и приехали…
Савельев огляделся. Сказал искренне:
— Зажиточно у вашего князя мужики живут…
Они как раз въезжали в небольшую деревеньку. Дома ничем не напоминали те убогие лачуги, какие Савельеву доводилось видеть и в своем году, в европейской части Российской империи. Гораздо больше это походило на сибирскую деревню: дома, как один, добротные, крыты не соломой, а дранкой, надворные постройки и хлевы выглядят столь же основательно, обширные огороды, заваленные сейчас снегом, обнесены аккуратными, ухоженными изгородями — ни единой дырки, нигде ничего не покосилось. Куда ни глянь — благолепие и процветание…
— Да это как бы сказать, барин, и не деревня будет, — проговорил ямщик, очень осторожно подбирая слова. — Его сиятельство терпеть не могут потреблять за столом ничего купленного — ну разве что лесную дичину, которая людями не разводится. Вот и велели тут устроить огороды-сады, птичники, свинарники и все такое прочее, чтобы вкушать исключительно у себя выращенное.
Савельев спросил с неподдельным любопытством:
— И как насчет той живности, что в России не водится, и тех фруктов-ягод, что у нас не произрастают?
— Ну, тут уж его сиятельство для себя допускает поблажку. Поскольку, как правильно изволили заметить, в России оно не водится и не произрастает… А бывает, люди говорили, очень даже из себя вкусно…
«Да, — сказал себе Савельев, — красиво жили в этом столетии господа дворяне, располагающие должными средствами, тут уж ничего не попишешь…»
— А вон и дом… — сказал ямщик.
Вот теперь Савельев почувствовал легкое разочарование. Учитывая княжеский титул лейб-кампанца и его немалое состояние, он ожидал увидеть нечто совсем другое. Красивое, быть может, даже помпезное здание в едином архитектурном стиле с колоннами у главного входа и портиком на манер античного — одним словом, то, что он видывал на иных гравюрах.
Ничего даже отдаленно похожего. Дело даже не в том, что ни следа портика с колоннадой. Дом был пребольшой, опять-таки добротный, без малейших признаков небрежения и упадка, в два этажа, да вдобавок с немаленькой круглой башней. Однако построен он, во-первых, крайне незатейливо, очень может быть, еще в петровские времена, а во-вторых, вид у него крайне своеобразный: за десятилетия к нему, сразу видно, приделали немало разнообразных пристроек, так что в плане, если смотреть сверху, дом представлял собой крайне сложную геометрическую фигуру, для которой, пожалуй, и термина-то не подыщешь. Совсем другой Савельев себе представлял резиденцию князя… Махина эта выглядела даже чудаковато, или, как выразились бы деликатные англичане — несколько эксцентрично. Уж наверняка у такой персоны хватило бы денег, чтобы снести все это начисто и построить что-нибудь этакое… с колоннами и портиками. Но, видимо, капризы князя лежали исключительно в области гастрономии, а на архитектуру не простирались совершенно…
Савельев во все глаза смотрел на башню — широкую, по высоте равную целому этажу, с куполообразной крышей, крытой позеленевшими листами меди. Кушаков, выйдя проводить его до возка, уже у распахнутой дверцы вдруг склонился и тихонько зашептал на ухо: «Кровь из носу, Михайла, постарайся пронырнуть в башню. Давно слухи ползут, и очень уж упорно, что в башне у князюшки оно все и помещается. На манер брюсовской Сухаревой, хе-хе, куда конь с копытом, туда и рак с клешней… Башни раньше не было, ее уже на моей памяти покойный Федькин батюшка возвел. И ни разу с тех пор не слышно было, чтобы туда лакеев пускали пыль сметать да убираться. В башню стремись, Мишка…»
Савельеву пришло в голову, что грозный начальник Тайной канцелярии абсолютно прав: самое главное любой сообразительный человек как раз и будет держать в такой вот башне, куда слугам вход настрого запрещен. Так что в этой детали его с Кушаковым планы совпадали в точности: самое интересное — наверняка башня. Вот только… Тот самый сообразительный человек уж наверняка принял меры, чтобы любопытствующему, будь он хоть слуга, хоть гость наподобие Савельева, попасть в башню было непросто. Какой-нибудь сложный замок — первое дело. Ну, и что-нибудь еще, но с маху не угадать, что именно…
Санки остановились у главного крыльца, тщательнейшим образом очищенного от снега. Нимало не колеблясь, Савельев выпрыгнул на захрустевший снег, быстрыми шагами поднялся по лестнице, потянул на себя огромную бронзовую ручку высокой двустворчатой двери — нужно отметить, начищенную до блеска. Дверь подалась неожиданно легко, Савельев шагнул в прихожую и побыстрее прикрыл дверь за собой, чтобы не напускать холоду.
Прихожая — чистая и аккуратная, но небольшая. Стенное зеркало в темной резной раме, какая-то абсолютно незнакомая ему даже по названиям здешняя мебель, к концу девятнадцатого столетия совершено вышедшая из употребления. Разве что стулья моментально опознаются как стулья…
Сразу трое молодцов в ливреях, торопливо поправляя пудреные парики, вскочили и поклонились. Вид у них был подтянутый и опрятный — должно быть, за этим князь следил строго. А если вспомнить, какие воспитательные средства в этом столетии имелись — незатейливые, но весьма эффективные…
Один из троицы окинул быстрым смышленым взглядом Савельева, его плащ, шапку, шпагу — и, должно быть, тут же сделав для себя какие-то выводы, почтительно спросил:
— Как прикажете доложить, ваше благородие?
— Савельев, Аркадий Петрович, — сказал поручик. — Его сиятельство должен знать, он меня и приглашал.
Лакей кивнул и рысцой унесся по ведущей вверх и вбок лестнице. Остальные почтительно таращились.
— А что, Василий Фаддеевич вернулся? — поинтересовался Савельев.
— Вскорости ожидается, а пока что не вернулся, — ответил один. — Позвольте епанчу, ваше благородие, и шапочку…
Савельев сбросил ему на руки подбитый мехом плащ — как он подозревал, без присущего этому веку изящества — отдал шапку, посмотрелся в зеркало. Ну, в общем, подходящий вид для княжеского особняка — который к тому же и не похож на беломраморные палацы…
Сверху той же деловитой рысцой спустился третий, отступил на шаг, поклонился:
— Его сиятельство изволят просить…
И, деликатно указывая дорогу, двинулся на полшага впереди Савельева. Поднялись на второй этаж, свернули вправо, зачем-то снова спустились на первый, снова поднялись на второй… Комнаты, коридоры, анфилады, которыми они проходили, выглядели содержащимися в идеальном порядке. Вот только внутренность дома, как оказалось, представляла собой этакое хаотическое нагромождение помещений и лестниц. Лестницы то прямые, то закручиваются винтом, полы комнат на одном и том же этаже — на разных уровнях, так что приходилось то и дело то спускаться на пару-тройку ступенек, то подниматься. То ли архитектор был большим оригиналом, то ли здешние старинные дома, что вероятнее, именно так и строились. Сущий лабиринт, прежде чем здесь всерьез шпионить, нужно денек-другой изучать дом, иначе заблудишься моментально…
Наконец они остановились перед дверью из темного дерева, лакей проворно распахнул ее перед Савельевым, склонился в поклоне, но сам внутрь не вошел. Тихонечко притворил дверь за Савельевым.
Это явно был кабинет хозяина: массивный, заваленный стол из черного дерева, такое же кресло, еще несколько кресел, но гораздо более легких и вычурных, рядочком в простенках меж окнами, высокие шкафы, дверца одного приоткрыта, там на полках аккуратными стопками лежат бумаги… Книжные шкафы, огромный глобус в углу, портрет императрицы в золоченой раме…
Сам хозяин, однако, за столом не сидел — он в крайне небрежной, ленивой позе развалился на чем-то, напоминающем диван с выгнутыми ножками. Непричесан, волосы в беспорядке, небрежно задрапировался в обширный, шитый золотом халат, который здесь именуется шлафроком. Когда Савельев вошел, он и не пошевелился, возлежал в той же позе, меланхолично взирая на гостя. Так что Савельев, поразмыслив пару секунд, подошел к дивану, поклонился — вежливо, но без излишнего подобострастия — и сказал, как он искренне полагал, светским тоном:
— Аркадий Петрович, Савельев, ваше сиятельство.
Его сиятельство если и был старше Савельева, то не больше чем на два-три года. Невыразительное, с мелкими чертами лицо, кажется, не надменное — просто-напросто вялое, скучающее. Рот какой-то мягкий, больше подошедший бы женщине, кисти рук небольшие, ухоженные, хрупковатые. Похоже, особой физической силой не отличается. Никак не похож на офицера, тем более гвардейского. Ну, ничего удивительного, Савельев читал кое-что о тех… то есть, об этих временах. Давным-давно уже гвардия в боевые походы не ходит, превратившись скорее в некое подобие придворных. Случается, и ружья за господами гвардейцами (даже не офицерами — рядовыми) слуги носят, и муштры настоящей они не знают. Трутни, увы. Много десятилетий пройдет, прежде чем русская гвардия едва ли не в полном составе отправится на настоящую войну, долгую и кровопролитную — с Наполеоном Бонапартом и его «двунадесятью языцами». Этот, конечно, даже если и доживет, будет глубоким стариком…
— Возьмите себе вон там стул и садитесь, — сказал наконец князь. И, когда Савельев уселся в паре шагов от дивана, спросил с явной укоризной: — Значит, купчествуете, любезный? А ведь вы, говорят, дворянин… Что же вы так? Это, право, как-то и не вполне прилично…
— Что поделать, ваше сиятельство, — сказал Савельев спокойно. — Будучи совершенно лишен средств и связей, хорошо представлял, что не смогу ни образования надлежащего получить, ни военной карьеры сделать. К тому же пришлось содержать матушку и двух малолетних братьев…
— Ах, вот как? — вяло приподнял бровь князь. — Ну, тогда похвально… Забота о близких — это в какой-то степени искупает… Но все же некоторое образование получили, я слышал? Фаддеич говорил, вы учились в школе девять лет…
— Да, ваше сиятельство, — кивнул Савельев.
— И историю изучали?
— Конечно.
На вялом лице князя впервые появилось некоторое оживление, он даже приподнялся, полусидел теперь, опираясь на спинку дивана. Блеклые голубые глаза вспыхнули живым интересом:
— А вот скажите мне, Аркадий Петрович… Что там в ваших учебниках исторических пишут о нас? С лейб-кампании? Помнят ли?
Савельев прекрасно помнил, что в этом столетии в ходу самая неприкрытая и грубая лесть, и потому произнес с наигранным восторгом:
— Ну как же, ваше сиятельство! Целая глава в учебнике отведена, с цветными иллюстрациями. Лейб-кампания… — он изобразил лицом еще больший восторг: — Слава России… Иначе никто и не относится… Велико ваше свершение, ваше сиятельство, я и думать не мог, что доведется воочию увидеть одного из тех славных героев, кои поименно указаны…
Князь напоминал сейчас кота-мурлыку, которого чешут за ушком, предварительно от пуза напоив сливками. Он даже прикрыл глаза, на лице играла мечтательная, гордая, глупая улыбка. Савельев мысленно хохотнул. В том-то и обстоит горькая ирония истории, что ни один из этих трехсот восьми витязей — ну буквальным образом ни один! — не оставил после себя ни малейшего полезного следа и решительно ничего для России не сделал…
Открыв глаза, князь протянул с наигранной скромностью:
— Экое преувеличение, право слово… Неловко даже… Ну, пошли, скрипя снегом, ну, возвели матушку на престол…
— Ваше сиятельство…
— Да ладно уж, будет вам меня навеличивать, — сказал князь томно. — Я вам разрешаю. Зовите уж Федором Федоровичем. Значит, намерены помогать по торговой части?
— Да, Федор Федорович. Именно в этом качестве Василий Фаддеевич меня на службу и пригласил.
Князь поморщился:
— Васька человек верный, однако невежествен в науках, аки полковая лошадь. Что вы хотите. Чего еще иного ждать — серость провинциальная армейская. Ать-два, скуси патрон, сыпь порох на полку… — он продолжал чуточку жалобно: — Беда с ним, Аркадий Петрович, сущая беда: коммерцию блюдет исправно, но вот рассказать толком о научных и иных свершениях вашего столетия решительно не способен. Мычит невразумительное: для него, дескать, все эти премудрости чересчур сложны… Велишь купить ваших книг — или перепутает и притащит совсем не то, или вообще окажется, что не нашел, забыл сложные для него названия…
Глаза у Савельева сузились на миг. Ах, вот оно как… Они успели сюда натащить из девятнадцатого столетия кое-какие книги… Крепенько же тут придется почистить… Чертовски хочется надеяться, что этот чертов сибарит ни одну книгу из дома не вынес и никому не дал почитать. И в Особом комитете, и в батальоне у многих начальствующих лиц волосы дыбом встанут, когда они узнают об этих библиофильских делишках…
— А вот вы, Аркадий Петрович, некоторое образование все же получили, значит, — продолжал князь. — Я человек достаточно просвещенный и не чужд высокой науке, а потому прекрасно понимаю: за те сто сорок лет, что нас разделяют, знание проделало огромный путь, и ваша школа в девять классов, я полагаю, иным нынешним университетам не уступит, — он мечтательно прищурился: — Сто сорок лет непрерывного развития и совершенствования наук… Механические чудеса, превосходящие те, что были доступны самому Якову Вилимовичу, господину Брюсу… Боже мой, как заманчиво и прельстительно, как мне хочется побыстрее… — он замолчал, испустив тяжкий вздох.
Пока он все это говорил, переменился разительно — исчезла вялость и меланхолия, глаза пылали этаким поэтическим восторгом, щеки порозовели. Очень похоже, этот предмет его крайне занимал. Что-то не похож он на человека, озабоченного в первую очередь тем, как бы выгрести бесхозные пока алмазные россыпи, ишь, до чего одухотворенная морда… Тут что-то другое…
Словно проснувшись, князь мотнул головой, сказал серьезно:
— Одним словом, дражайший Аркадий Петрович, я очень надеюсь, что вы помимо торговых услуг, — он брезгливо покривил губы, — не откажете быть мне своего рода наперсником в научных занятиях и беседах. Премного льщу себя такой надеждой. А уж в благодарности моей не сомневайтесь, она будет щедра…
— Почту за честь, Федор Федорович, — поклонился Савельев. — Я начинаю понимать, в какие именно подробности меня Василий Фаддеич не посвятил… Вы ведь ученый?
— Ну, сие слишком громко сказано… — с той же наигранной скромностью потупился князь. — Пытаюсь посреди скуки житейской заниматься учеными материями…
— Но ведь это вы придумали странствия во времени?
— Пожалуй, — охотно ответил князь. — Смело можно сказать. Я, конечно, опирался на труды великого предшественника, Якова Вилимовича, на батюшкины изыскания — но и мой собственный вклад ох как немал…
«Ну вот ты себе собственными руками петельку на шею и накинул, твое сиятельство, — с веселой злостью подумал Савельев. — К этакому ученому мужу и изобретателю непременно следует применить самые жесткие меры. Потому что нельзя позволить ему и далее развлекаться. Как говорит унтер Трошечкин: „Уж ежели запрещено — так напрочь запрещено, и никаких!“ И Брюс, и Барятьев-старший — „предшественники в изысканиях“. Значит, здесь просто обязан находиться немаленький архив — подобные изыскания предполагают расчеты, вычисления, чертежи, прочие рабочие записи…»
— Значит, вы согласны, Аркадий Петрович, состоять при мне еще и ученым конфидентом, если можно так выразиться?
— С величайшим удовольствием, — сказал Савельев. — В меру моих скромных знаний.
Это прекрасно отвечало его планам и инструкциям. Дело оборачивалось весьма даже неплохо: не подглядывать из-за угла, не подслушивать у дверей, а самому оказаться посреди этих изысканий. Экономия времени и сил превосходная. Конечно, вряд ли князь с маху посвятит его во все свои секреты (он ленив и жеманен, но явно неглуп) — но все равно, дело пойдет гораздо быстрее…
— Нынче же вечером я вас познакомлю кое с чем прелюбопытным, — сказал князь уже деловито. — А там, глядишь, и выйдет от вас двойная польза. Ах, если бы вы знали, как мне порой необходим ученый помощник… Здесь подходящего человека не найти — не доросли. А в вашем столетии приходится полагаться исключительно на Ваську — но он в таких делах не подмога по невежеству своему…
В дверь словно бы легонько зацарапались. Повернувшись к ней, князь крикнул недовольно:
— Ну, что там такого важного, что беспокоишь, дурак? Входи!
В кабинет бесплотным духом просочился лакей и, почтительно согнувшись, сказал:
— Барыня с братцем подъезжают, вот-вот здесь будут…
Савельев даже шарахнулся от неожиданности — князь бомбой взлетел с дивана, мгновенно преобразившись. Громко распорядился:
— Камзол мне, быстро! Шевелись!
Он не прошел — пробежал мимо Савельева к высокому окну, выглянул, тут же кинулся назад к дивану, встал, вытянув руки за спину. Лакей проворно надел на него извлеченный из высоченного шкафа синий бархатный камзол, на который не пожалели золотого шитья.
Князь суетился, стряхнув всякую меланхолию. Бросился к зеркалу, схватил гребешок и стал лихорадочно приводить в порядок волосы. Привел в порядок рубашку, выпростал из-под рукавов кружевные манжеты, поправил, застегнул камзол и уставился на себя в зеркало. Его лицо стало вновь этаким поэтически вдохновленным, судя по улыбке, гости, о которых доложили, были самые что ни на есть желанные.
— Ну как, орясина? — спросил он, отвернувшись от зеркала.
— Чистым Купидоном выглядеть изволите, ваше сиятельство! — в притворном умилении воскликнул лакей.
— Ну, что стоишь? Беги! Встреть! Проводи!
Лакей опрометью кинулся из кабинета. Князь подошел к окну, уставился вниз с тем же радостным нетерпением на лице. Савельев, решив, что не нарушает этим никаких приличий, подошел к соседнему окну, всмотрелся.
И вновь почувствовал, как глаза сузились в хищном охотничьем прищуре.
У крыльца остановились запряженные тройкой сани. Первым шустро выпрыгнул Аболин — впрочем, его теперь в полном соответствии с действительностью следовало именовать Тягуновым. Следом, гораздо более степенно, выбрался… господин революционер и бомбист Липунов, судя по богатой шубе и шапке, выступавший здесь не иначе как в роли знатного и небедного благородного господина. Протянул руку, помогая сойти спутнице. Тесен мир, тесны времена… Из саней грациозно выпорхнула красавица Издольская, Нина Юрьевна, очаровательно разрумянившаяся от морозца, в дорогих мехах.
Савельев испытал легкое волнение. Предполагалось, конечно, что он может столкнуться здесь нос к носу с этой парочкой, а как же иначе — но все произошло слишком неожиданно. Ну, в конце концов, опасаться ему нечего, роль ему досталась убедительная, главное — притворяться, что видит их впервые в жизни… Изобличить они его никак не смогут, поскольку до этой минуты и не подозревали о его существовании — а встречаться прежде им не приходилось.
Ух ты ж… Как князюшка на нее уставился… Словно напрочь голову потерял. А впрочем, нужно отдать ей должное: от такой женщины и впрямь можно потерять голову. Интересно, а как к амурным поползновениям князя (а таковые, несомненно, если не были, то будут) отнесется невенчанный супруг красотки?
Вскоре эта пара появилась в кабинете (Тягунов их не сопровождал). Для этого времени господин Кондотьер был наряжен форменным светским франтом — а уж его спутница в роскошном платье (несомненно, сшитом по последней здешней моде) и вовсе представала королевой. Савельев подобрался, придал лицу равнодушное выражение.
— Друг мой! Танюша, любезная, — воскликнул князь, целуя Издольской ручку. — Я заждался (он прямо-таки пожирал глазами красавицу, на что Липунов взирал с каменным лицом). — Вот, кстати, позвольте представить, господа, — Аркадий Петрович Савельев… ваш, так сказать, земляк, поскольку происходит из тех же времен. Госпожа Колычева, Татьяна Сергеевна, ее брат, профессор химии Сергей Сергеевич Колычев…
Лицо Липунова оставалось бесстрастным, но глаза глядели остро, изучающе. Склоняясь к ручке красавицы, Савельев мысленно усмехнулся: ну что ж, особого обмана тут нет, Липунов и в самом деле, пусть и не носит профессорского звания, учился химии в университете, познаниями в ней обладает нешуточными — вот только несколько односторонними. Во взрывчатой химии…
— Аркадий Петрович — московский дворянин, — сказал сияющий князь. — Любезно согласился быть моим помощником в некоторых делах. Вы не встречались у себя, господа мои?
— Не приходилось, — вежливо сказал Липунов, — Москва многолюдна…
Он держался естественно, доброжелательно, но Савельев не раз и не два ощутил на себе тот же острый взгляд…
Князь, полностью стряхнувший прежнюю апатию, оживившийся, энергичный, даже чуточку суетливый, непринужденно взял Издольскую за руку, отвел к окну и, склонившись к ее ушку, что-то тихонько говорил. Красавица слушала с загадочной улыбкой (от какой мужчины шалеют сплошь и рядом). Липунов к этому отнесся вроде бы с совершеннейшим безразличием — хотя все выглядело, как недвусмысленные ухаживания. Повернувшись к Савельеву, он вежливо спросил:
— Вы не ученый ли?
— Увы… — пожал плечами Савельев. — Жизненные обстоятельства не позволили. Я по коммерческой части…
— Понятно, — спокойно сказал Липунов, никак не показывая лицом, как он к услышанному относится. — Дело нужное, особенно в нашем предприятии… Значит, мы с вами словно бы теперь в одной лодке? Следовательно, стоит сойтись поближе, думается? Вы постоянно в Москве проживаете?
— Да, конечно, — сказал Савельев. — Лефортово, вверх от Госпитального моста, дом купчихи Машковцевой, второй этаж. Когда будете дома — милости прошу.
— Непременно, — кивнул Липунов.
Савельев, прочитавши все, что имелось касательно этого субъекта в Третьем отделении, не сомневался: совсем скоро, едва только Липунов вновь окажется в своих временах, возле купчихиного дома начнет отираться какой-нибудь шустрый и словоохотливый молодчик, расспрашивая о господине Савельеве. Липуновская подозрительность и звериная осторожность давно отмечены. Ну и пусть. «Купец» с квартиры не съезжал, а потому на прежнем месте и болтливый дворник, и легкомысленный слуга с душою нараспашку, всегда готовый посидеть в кабаке за чужой счет и вдоволь посплетничать о хозяине. И тылы прикрыты, и фланги…
— Не угодно ли? — Липунов раскрыл роскошный золотой портсигар с монограммой — сразу видно, изображавшей его собственные инициалы.
— Я бы охотно, сто лет не курил… — Савельев неуверенно покосился в сторону окна, где голубки, полное впечатление, прямо-таки ворковали.
— Ничего, не беспокойтесь. Наш гостеприимный хозяин давно привык, сам не прочь подымить турецкой папиросой…
Савельев взял папиросу, но спичку зажечь не успел — князь повернулся к ним, отошел от окна. Положительно, у него был сияющий вид счастливого влюбленного.
— Господа! — сказал он напористо. — А не отправиться ли нам ужинать прямо сейчас? На кухне были заранее предупреждены… Дело в том, что Мокей нашел замену Стешке, и нынче же вечером будет зрелище…
— Отличная мысль, — сказал Липунов.
Савельев ограничился почтительным наклонением головы — при его здешнем положении полагалось молчать да поддакивать…
…Они сидели вдоль стен в полумраке — князь, Липунов с пассией, Савельев и Тягунов. На столе в центре небольшой, как все здешние, комнаты горела одна-единственная свеча в высоком простом шандале, и ее огонек самым причудливым образом играл во внутренности стеклянного шара — огромного, с хороший арбуз, прозрачнейшего, установленного на невысокой подставке в виде темного кольца.
— Ну что же ты, Мокей? — нетерпеливо спросил князь.
В зыбкий круг блеклого света вышел несомненный мужик — высокий, широкоплечий, с буйной смоляной шевелюрой и длинной бородой. И одет он был по-мужицки — правда, со всей возможной роскошью, какую себе только может позволить зажиточный мужик: синяя шелковая рубаха с вышитыми золотом колосьями, бархатные черные шаровары, блестящие сапоги из тонкой, отлично выделанной кожи, пояс из крученого шелка с кистями. Взгляд из-под густых, клочковатых бровей цепкий, тяжелый, пожалуй что, неприятный даже.
Первое, что при виде этого примечательного экземпляра пришло Савельеву в голову — это то, как он в прошлом месяце возил Лизу в Петербург, в оперу. Давали «Русалку» Даргомыжского — и оперный колдун выглядел в точности так же, совершено тот же облик — хотя певец наверняка щеголял в фальшивой бороде и парике. В ушах поневоле зазвучало: «Ка-а-а-акой я ме-е-ельник? Я во-о-оррро-о-он здешних ме-е-ест…»
Обернувшись в темноту, Мокей произнес со всей возможной ласковостью (никак ему, похоже, не свойственной):
— Ну что ты упираешься, дурочка? Не съедят тебя господа, вообще никак не обидят… Ох ты ж темнота…
Он без усилий вытащил из темноты за руку светловолосую девчоночку лет двенадцати, явно крестьянскую — с аккуратно заплетенной косой, в опрятном сарафане, босую. Поставил у стола, придерживая широкими ладонями за хрупкие плечики, сказал властно:
— Ну, Катюшка, раздевайся. Да не бойся ты, дура, никто над тобой охальничать не станет, ты барину нужна как раз непорочнейшая… Знаешь ведь от Стешки, что ничего страшного тут нет?
— Знаю, — тихонечко ответила девчонка, не поднимая глаз. — Стыдно, дядя Мокей…
— Стыд не дым, глаза не выест, — Мокей сунул руку в карман шаровар, вытащив, разжал кулак и позвенел под носом у девчонки горсткой золотых. — Видишь? Барин наш щедр, и за службу платит по совести. Да и какая это служба? Пустяк один…
— Грех… — почти прошептала она.
— Грех на мне, Катюшка, как на человеке взрослом и сознательном. А на тебе, создании непорочном и принужденном, каков же грех? Эвон, золото… Приданое у тебя будет доброе — не последний раз служишь… — его голос осуровел. — А будешь и дальше строптивость тут изображать — в два счета тебя управитель возьмет от папки с мамкой и отправит в дальние деревни, и будешь ты там всю жизнь по колено в навозе за свиньями ходить…
— Да какие там свиньи, — сказал князь сердито и нетерпеливо. — Запороть велю. Вот нынче же…
— Слышала? — спросил Мокей, ухмыляясь. — Его сиятельство слов на ветер не бросает… Ну? — прикрикнул он.
Едва слышно всхлипывая, девчонка стала стягивать сарафан, потом нижнюю сорочку, оставшись обнаженной, прикрылась ладошками, как могла, густо краснея. Мокей деловито снял у нее с шеи нательный крестик, принялся умело расплетать косу, выпрастывая из нее синюю ленту, приговаривая:
— Ты ж наверняка от Стешки слышала, что на тебе и ниточки быть не должно — одно человеческое естество… — небрежно запихав крестик и ленту в карман шаровар, посмотрел вбок: — Давайте, барин…
Липатов вышел в круг света, протянул Мокею высокий прозрачный стакан. Поручик присмотрелся. Багровая, с черным отливом жидкость что-то очень уж тяжело для вина колыхнулась в стакане.
Мокей, бережно держа стакан, поднес его к губам обнаженной девчонки, стоявшей с печально-отрешенным личиком:
— Ну-ка, глотни. Никакая это не отрава, только и забот у барина тебя травить… Ну, живенько отхлебни. На вкус ведь не противно, Катюшка?
— Да нет, — ответила она тихонько. — Только странное что-то…
— А так ему и положено, — хмыкнул Мокей. — Чай, не детскими забавами развлекаемся… Ну-ка, дай руку… да что ты прикрываешься, тебе и прикрывать-то нечего, чего не видывали… Вот так, умничка. Теперь пей до дна… Ах ты, моя послушная, будет тебе награда, как обещано…
Забрав у девчонки пустой стакан, он отступил на шаг, не отводя от нее цепкого взгляда, что-то бормоча. Девочка менялась. Она безвольно опустила руки, не пытаясь уже прикрываться, лицо стало не просто отрешенным, пустым, а глаза — затуманенными. Казалось, она спит стоя, ровно дыша.
— Готово, ваше сиятельство, — сказал Мокей удовлетворенно. — Непорочная… и сильненькая, сдается мне.
— Ну так что ж ты стоишь истуканом? — воскликнул князь. — Давай! Хорошо запомнил, куда и что?
— Не сомневайтесь, ваше сиятельство, — деловито ответил Мокей.
Встал за спиной девчонки, положил ладони ей на макушку и, низко наклонив голову к распущенным светлым волосам, принялся что-то нашептывать. Катюшка вдруг медленно подняла руки, положила тонкие ладошки на бок стеклянного шара. Почти сразу же он потемнел, словно там, внутри, тяжело кружили, переплетались, вились струи черного дыма. Выпрямившись, удовлетворенно кивнув, Мокей снял руки с ее головки, тихонечко сказал:
— Удачно, ваше сиятельство. Сейчас сами убедитесь…
Дым помаленьку растаял — теперь в шаре виднелось безоблачное голубое небо, белая высокая башня, какая-то странная, остроконечная…
И тут Савельев понял. Ему показывали примерно такое же зрелище во время первых двух недель обучения. Ну, конечно же…
В грядущем это именовалось «космодром». Белая башня была ракетой, готовой взмыть в небеса и уйти в заатмосферные космические пространства — быть может, и на сей раз с человеком внутри. От ее подножия убирают толстые черные шланги, отъезжают машины, разошлись в стороны вертикальные балки, ракета оказалась в полной готовности. Сейчас заполыхает…
Он видел это не впервые и потому остался невозмутим — а вот князь не удержался от удивленного возгласа. У подножия ракеты сверкнули первые вспышки, заклубилось пламя, распространяясь, буйствуя, слепя… и, как следовало ожидать, настал момент, когда ракета вздрогнула, медленно-медленно оторвалась от земли, вертикально пошла вверх, набирая скорость… Все же величественное и жуткое было зрелище — даже для Савельева, он, как и в прошлые разы, попытался представить себя на месте офицера, сидящего сейчас в ракете — и вновь невольно передернулся от мимолетно нахлынувшего страха. Нет, это ж какую надо иметь смелость… Бравые ребята…
Ракета поднималась все выше — но некий глаз неотступно следовал за ней, держась в отдалении на том же уровне. Они увидели все до конца — как отлетают в стороны четыре малых, вспомогательных ракеты, как небо темнеет и темнеет, становясь из синего густо-фиолетовым, как со вспышкой проваливается вниз главный высоченный цилиндр, и то, что осталось, короткий цилиндр с шаром, сам корабль с бравыми офицерами внутри летит уже в угольно-черном пространстве, покрытом мириадами звезд…
— Величайшее достижение науки мы с вами видели, господа мои! — звенящим от возбуждения голосом произнес князь. — Человек с помощью ракеты улетел не просто за облака, в космическое, как это учено именуется, пространство. И будет летать вокруг нашей планеты… если только не полетит на Луну… Вот кстати, Мокей! Пусть все увидят людей на Луне!
Не выказав ни малейшего удивления, Мокей положил девчонке ладони на макушку, зашептал. Вскоре картина в шаре разительно переменилась. Теперь и Савельев, подавшись вперед, смотрел столь же любопытно и удивленно, как остальные. Он знал, что в грядущем люди летали на Луну, но сам этого не видел, недосуг было как-то…
— Х-хосподи… — громко прошептал Тягунов. — Это ж ад какой-то…
— Эх, Василь Фаддеич… — с нескрываемым превосходством произнес князь, не отрывая от шара завороженного взгляда. — Хоть и странствуешь ты по векам, прыгаешь, как зайчик по огороду, а все равно невежа, уж не посетуй… Какой же это ад? Это лунная поверхность, то есть естество природы… Вот они!
И они долго, зачарованно, удивленно рассматривали белесые фигуры в костюмах наподобие водолазных, передвигавшиеся по равнине под черным, усыпанным звездами небом как-то удивительно легко, будто балетные танцоры.
— Флаг ставят… — прошептал Тягунов. — Ну, это дело мы понимаем, я бы на их месте тоже поставил… Однако флаг-то, Аркадий Петрович, натуральнейших Северо-Американских Соединенных Штатов…
— Ах, эти… — понятливо подхватил князь. — Взбунтовавшиеся колонии… Нет уж, Мокей, ты мне покажи наших на Луне, чтобы был штандарт Российской империи…
Шар остался темным. «Увы, Феденька, увы… — подумал Савельев. — Не будет на Луне наших, да и Российской империи не будет… правда, потом она возродится на несколько десятилетий под другим названием и монархом, который, строго говоря, не монарх — но потом все же развалится… Только нельзя тебе этого знать, изобретатель ты наш чертов, чтоб тебе ни дна, ни покрышки, столько из-за тебя хлопот было и еще предстоят…»
— Что такое? — в полный голос, властно и сердито вопросил князь. — С девкой не так?
— Сейчас, ваше сиятельство… — отозвался Мокей озабоченно. — Да нет, все вроде бы в порядке с девкой… Очень похоже, ваше сиятельство, этакого, что вы просили, просто-напросто не было…
— Как это — не было? — сварливо воскликнул князь. — Чтобы Российскую империю опередила даже не Британия с Францией — чернь заморская? Это с девкой что-то пошло не так! Нашел кого попало…
— Не извольте гневаться, ваше сиятельство, а с девкой все в порядке, — спокойно, без тени униженности или страха ответил Мокей. — Говорю вам, сильненькая девка, хорошо смотрит. Вы что-нибудь другое прикажите поглядеть, сами и убедитесь, что с ней все в порядке…
— Ну ладно, ладно… А покажи-ка ты мне, Мокей, какую-нибудь хорошую, славную войну…
— Федор Федорович… — капризно протянула Издольская. — Ну что вам в голову пришло, право? Вечно у вас, мужчин, войны на уме… Хочу увидеть какой-нибудь большой, роскошный праздник… по-настоящему роскошный.
— Ваше слово, Татьяна Сергеевна, здесь закон… — моментально отозвался князь уже совершенно другим голосом. — Мокей, ты слышал? А поищи-ка в будущих столетиях какой-нибудь праздник пороскошнее. С фейерверками или что там еще…
— Как прикажете, — почти равнодушно отозвался Мокей.
Глава X
ИНТРИГИ И ЗАГОВОРЫ
Какие бы там у князя не были недостатки, в одном его никак нельзя упрекнуть: в плохом гостеприимстве. Савельеву отвели не какую-то комнатенку, а самые настоящие, как здесь выражались, покои — и спальня, и гостиная, и кабинет с книжным шкафом, столом, где наличествовала и полная чернильница, и стопа бумаги, и пучок очинённых гусиных перьев в серебряном стаканчике.
Оставшись один, он из чистого любопытства — никогда прежде этого не доводилось делать — взял перо, осторожно обмакнул его в вычурную стеклянную чернильницу с серебряной крышечкой, поднес перо к бумаге и попытался вывести хотя бы несколько букв. Ничего не получилось: сначала на бумагу шлепнулась разлапистая клякса, потом что-то все же удалось вывести, но это получились не буквы, а жуткие каракули, словно их писал какой-нибудь мужик, которого в зрелые уже годы по барской прихоти взялись обучать грамоте. Да вдобавок пальцы чернилами перепачкал.
Савельев решительно воткнул перо обратно в стаканчик — нет, для этакого занятия нужно иметь большую сноровку. Это здешний сеньор, уж несомненно, гусиным пером владеет не хуже местных…
Итак? Пора обдумать и подвергнуть анализу свои первые шаги здесь. Самое время.
Кушаков, мерзавец этакий, все же — умнейшая голова и вряд ли побеспокоит в ближайшие дни: должен же понимать, что с ходу никто больших секретов «Михайле» не откроет. С этой стороной дела все, кажется, благополучно и тревоги не внушает.
Что же до основной миссии… Тут, признаемся себе, не удалось продвинуться ни на шаг. Он пока что принят в доме без малейшего недоверия — и только. Благодаря представлению со стеклянным шаром, девчонкой-медиумом и неведомо откуда взявшимся явным колдуном удалось за три часа понаблюдать немало интересных и зрелищных картин грядущего — но для его миссии это совершенно бесполезно. Да и колдуны, собственно говоря — забота не батальона, а Особой экспедиции, так что «ворон здешних мест» Савельева, похоже, интересовать не должен. Вряд ли он имеет какое-то отношение к странствиям Тягунова по разным столетиям — все явно замыкается на князе. Где-то в доме — нужные бумаги… и, возможно, некие механизмы, уж та штука, которой пользуется Тягунов — несомненный механизм, а значит, могут быть и другие… Где? В башне, как говорил Кушаков?
В любом случае самому ему никак нельзя предпринимать каких бы то ни было действий. Сущее безумие и самоубийство — отправиться сейчас со свечой бродить по дому-лабиринту в поисках этих самых «секретных комнат». И надежные замки на дверях там наверняка имеются — в первую очередь от любопытствующей дворни, среди которой вполне может затаиться высмотрень из Тайной канцелярии. И дома с его причудливой внутренней планировкой он не знает совершенно. А главное, можно в два счета напороться на случайного лакея… или не случайного, а доверенного, как раз и приставленного к этим самым заветным дверям, и моментально встанет вопрос к Аркадию свет Петровичу, московскому негоцианту: а собственно, друг дорогой, какого рожна ты ночной порой по дому шляешься? Если нужник потребен, так тебе ж показали, где ближайший… Одолеют числом и уж попытаются порасспросить на незатейливый и жутковатый здешний манер…
И, что печально, вряд ли получится (как бывало в других местах и в другие времена) прислать сюда сильную тревожную группу, способную в два счета захватить дом со всеми обитателями и учинить расследование с допросами. Сейчас как раз пристально исследуется будущее Барятьева — чтобы не получилось вмешательства в естественный ход истории и, самое страшное, ее изменения. И результаты Савельеву пока что неизвестны. Наконец, есть чисто технические причины… Все до единой здешние комнаты, которые Савельеву удалось увидеть, были малы для того, чтобы вместить «карету» — потолки низковаты. Быть может, тут и сыщется подходящий зал, но пока что Савельев о таком не знал. Так что в дом на «карете» не попадешь. Разве что послать ее в прилегающий лес, ночной порой? Ну, об этом должно думать командование…
В общем, остается одно: не спешить, не суетиться, спокойно плыть по течению. Несколько дней погоды не сделают. В конце концов, еще неизвестно, что именно князь намерен ему поручить — уж из сути поручения что-то да будет видно, что-то да прояснится. Если, пользуясь беззастенчивой лестью (а Федя наш на нее ох как падок), попробовать его разговорить, осторожненько что-то выведать, хотя бы о…
Он встрепенулся, поднял голову. Никаких сомнений: кто-то шумно и бесцеремонно распахнул дверь, ведущую из кабинета в его покои. Савельев напрягся, пожалев о полном отсутствии оружия. А впрочем, те, кто замыслит что-то недоброе в отношении гостя, уж наверняка постараются прскользнуть к нему тихонечко, на цыпочках, чтобы застать спящего врасплох…
Подкрался к двери, прислушался. В прихожей шумно упало кресло, знакомый голос чертыхнулся. Потом Тягунов громко позвал:
— Аркаша, сокол ясный, ты где? Темнотища у тебя тут, а я свечу обронил, она, стервь, и погасла…
Взяв подсвечник, Савельев вышел в прихожую, настороженный, готовый к любым неприятным неожиданностям.
Таковых вроде бы не усматривалось. В прихожей обретался один-единственный человек, господин капитан Тягунов — сразу видно, успевший изрядно принять на грудь. В левой руке у него была пузатая темная бутылка с высоким горлышком, еще две он зажимал под мышкой.
— Ах, это вы, Василь Фаддеич… — спокойно сказал Савельев. — Не спится?
Он присмотрелся: Тягунов, конечно, был изрядно выпивши, но похоже, оставался пока что в ясном сознании.
— Я вот что подумал, Аркаша, — как ни в чем не бывало сообщил Тягунов, поднимая с пола оброненный подсвечник и зажигая свечу от савельевской. — А не посидеть ли нам ладком, да не потолковать ли по душам? И не о пустяках, а о вещах серьезных? Мы ж с тобой теперь как бы и компаньоны, два негоцианта, оба-двое, и вот, хоть ты меня живьем ешь, а я полагаю, что есть у нас с тобой свои дела…
— Интригуешь, Фаддеич, — усмехнулся Савельев, решив, что коли уж к нему новоиспеченный компаньон обращается на «ты» и по имени, то ради соблюдения достоинства следует ответить тем же.
Он рассчитал правильно: нисколечко не обидевшись на проявленное к нему амикошонство, Тягунов сказал серьезно:
— Аркаша, я уж давно убедился, что человек ты умный, с соображением. А коли так, может, уже и догадываешься, что у нас с тобою могут быть чисто свои дела… Как у неких высоких господ — чисто свои… Посидим?
— Посидим, — сказал Савельев.
Он и не пытался спровадить нежданного гостя, а наоборот. О чем бы тот ни пришел говорить, несомненно, хоть капельку нового и полезного да узнаешь. Так что наоборот, приветить надо…
— Проходи в кабинет, Фаддеич, — сказал он, посторонившись.
— Вот это ты правильно, — одобрительно сказал Тягунов. — Уж нам-то с тобой к чему церемонии? Ты — Аркаша, я — Фаддеич… но не Васька, потому как я все же постарше тебя буду… — он поставил свечку на стол, предварительно небрежно смахнув оттуда стопу бумаги прямо на пол.
Савельев торопливо убрал чернильницу, чтобы ее не постигла та же участь. Со стуком расставляя бутылки, Тягунов приговаривал: