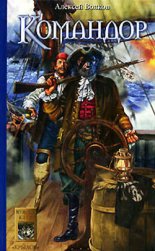Шпионский роман Акунин Борис

– Чего же вы хотите? Он и так продержался 23 минуты. Исключительно сильная воля. Надеюсь, он не пытался навязывать вам темы для разговора?
Октябрьский нахмурился.
– Неужели вам не хватило времени? – удивился Гайворонский. – Вы же говорили, вас интересует только один вопрос. На него-то он ответил?
Лицо старшего майора просветлело.
– Ответил. И это главное.
– Вот и отлично, А остальное выясните на следующем сеансе. Думаю, к послезавтрашнему утру пациент отойдет от шока, и можно будет повторить.
В ГэЗэ возвращались пешком – как говорится, усталые, но довольные. Время на прогулку было. Октябрьский еще раз позвонил в секретариат и уже не попросил, а потребовал, чтобы его немедленно связали с Наркомом, речь идет о деле чрезвычайной важности. Ответили, что генеральный комиссар вылетел из штаба Прибалтийского военного округа в штаб Западного. Прибудет туда через час. Пусть товарищ старший майор дожидается у себя в кабинете – соединят.
– Шеф, а зачем вообще применять методы физвоздействия, если можно сделать укольчик, и готово? – спросил Дорин.
– Дорогое удовольствие, – невесело улыбнулся Октябрьский. – Кости переломать дешевле.
Еще Дорина волновало вот что:
– А нашим точно хватит времени, чтобы подготовиться? Целых три группы армий!
– Теперь хватит. Достаточно трех суток, чтобы рассредоточить авиацию по резервным аэродромам, вывести артиллерию на огневые позиции, развернуть танковые части, провести минно-саперные работы. Я бы на месте нашего Генштаба потрепал фрицев в приграничных боях и постепенно отошел бы на оборонительную линию 39-го года. Если навязать немцам позиционную войну, они через три месяца мира запросят. Эх, с полководцами у нас неважно. Умных всех перестреляли, одни конники остались, им бы только шашку наголо и «Ура! Даешь!».
Егор вспомнил про генерала Петьку, рассказал.
– Вот-вот, – хмуро кивнул Октябрьский. – Я уверен: немцы этот подлый трюк с «юнкерсом» нарочно устроили, чтоб советские ВВС обезглавить. Знают наше чудесное обыкновение – из-за нескольких сорняков всё поле выкашивать. Было уже такое, в 37-ом, когда они нам дезу про заговор военных подбросили. Эх, нам бы сейчас Тухачевского с Уборевичем…
Лейтенант аж споткнулся. Оглянувшись по сторонам, шепотом спросил:
– А что, Тухачевский не был враг народа?
– Врагов народа в природе не существует, – спокойно ответил старший майор. – Как ты себе это представляешь? Живет на свете сволочь, которая скрежещет зубами и говорит себе: «Ух, народ, до чего же я тебя ненавижу»? Нет, Егорка, свой народ любят все, даже белогвардейцы и троцкисты. А «врагами народа» наша власть называет людей, которые могут оказаться для нее опасны. В 36-ом году у нас в ЦК здорово напугались путча в Японии. Если б микадо тогда не проявил жесткость, военщина захватила бы власть. Так что немецкой фальшивке про военный заговор наши поверили, очень уж вовремя подоспела. А подлецы с дураками и рады стараться. Японский император после путча для острастки 19 человек повесил. Но у нас натура широкая, гад Ежов десять тысяч лучших командиров на распыл пустил. То-то немцам радость. Между прочим, идею «Заговор красных маршалов» разрабатывал «папочка» нашего Вассера, Зепп фон Теофельс. Я тебе про этого господина как-нибудь отдельно расскажу. Помяни мое слово: наши с ним дорожки еще не раз пересекутся.
Отстаток дороги шли молча, и лица у обоих были уже не довольные, а озабоченные, хотя каждый думал о своем.
В отсеке, где располагалась спецгруппа «Затея», на доске «Они погибли при исполнении долга» Егор увидел свою фотографию в черной рамке. Карточка висела напротив окна и с середины мая успела выгореть. Вот и всё, что от меня осталось бы, подумал Егор, и эта мысль настроения не улучшила.
До связи с Наркомом оставалось еще больше получаса, поэтому сели в кабинете пить чай. Дорин разломил печенье – отложил. Повозил ложечкой, размешивая сахар, – отодвинул.
– Ты чего нос повесил? – пытливо взглянул на него старший майор. – По той же причине, что я?
– А вы, шеф, из-за чего?
– Я первый спросил. Сначала ты скажи, потом я.
Егор помолчал, подбирая слова. Не очень-то они подбирались.
– Я вот думаю… У нас самая лучшая страна на свете, так? Самое справедливое общество. Мне про это в школе говорили, в училище – везде. И я верю. Нет эксплуатации, буржуев с помещиками, и всё такое. Но ведь хорошее общество для чего существует? Чтоб человек становился лучше, правильно? Тогда объясните мне, почему наши советские люди – ну вот которые по улицам ходят, в трамвае ездят, в очередях собачатся – такие… несимпатичные, что ли. Почему с интеллигенцией и всякими старорежимными осколками и разговаривать приятней, и ведут они себя… как-то более по-человечески, а? Вы говорили, что подлецы с дураками всегда были. Но я по истории что-то не помню, чтобы при царе десять тысяч офицеров перестреляли, а еще ведь в лагерях у нас сколько народу сидит. При царе, конечно, тоже каторга была и ссылка, но Ленин вон в Шушенском на охоту ходил, невеста к нему приезжала, Надежда Константиновна. По-нашему, прямо курорт… Что же это получается? У нас в Советском Союзе подлецам с дураками больше раздолья, чем до революции, так что-ли?
Последним вывод выскочил как-то сам собой, и Егор даже испугался. Умолк.
Октябрьский присвистнул.
– Эвон ты о чем. Да, брат, паршивая у нас в стране жизнь, это точно. Правда, это смотря как считать и с чем сравнивать. Бывшим привилегированным-образованным, которые слушали Моцарта и кушали марципаны, конечно теперь живется хуже. Только их, таких высококультурных, до революции было максимум 10 процентов населения. Мы, Егорка, с тобой материалисты, в чудеса не верим, лишь в научные законы, так? Про закон сохранения массы помнишь? Если у 10 процентов отбирают богатство и делят между остальными 90 процентами, что происходит? Все становятся богатыми? Шиш. Все становятся бедными. Но зато исчезают нищие, и это главное завоевание нашей революции. Жить в тесных коммуналках и давиться в очередях унизительно, согласен. Только еще стыдней, когда одни слушают Моцарта, а вокруг вши, сифилис, голод и неграмотность. Советская власть, между прочим, дает всем детям образование, и не такое плохое. Конечно, оно хуже, чем гимназическое, но сколько было в России тех гимназий? На всю страну несколько сотен. И про детскую смертность, кстати, тоже не забудь. Раньше каждый второй ребенок до десяти лет не доживал, а теперь худо-бедно и полечат и, если надо, в санаторий за государственный счет отвезут. Ну а про расстрелы и лагеря я тебе так отвечу. Если бы у царских министров были мозги, они бы страну до гражданской войны не довели. Поделились бы богатствами – глядишь, и кровь бы не пролилась. Когда льется много крови, люди от ее запаха звереют и дуреют. Революция штука жестокая. Если уж грянула, то продолжается не год, не два, а десятилетия. И правила у революции простые, грубые – на выживание. Есть закон целесообразности: что эффективно, то и нравственно. Есть закон больших чисел: интересы миллиона человек всегда важнее интересов тысячи человек. Но про это мы с тобой уже толковали. Понятна тебе моя логика?
– Понятна. Я про это еще подумаю, – медленно произнес Дорин.
– Вот-вот, подумай. – Старший майор вздохнул. – Ты вон о философиях размышляешь, а меня другое гложет. Мелкое такое сомненьице. А что если я из Вассера самого главного все-таки не выдавил?
– Как так? Ведь он же ответил: будет воина, 22 июня.
– Да знаю, знаю… – Октябрьский сердито задвигал бровями. – Не могу объяснить… Говорю же: не сомнение, а сомненьице. Странное такое ощущение, будто обдурил он меня, обвел вокруг пальца.
– Ничего, спросите его на следующем сеансе. Соврать он не сможет.
Шеф засмеялся:
– Устами младенца. Так и сделаю. Ты прав, Егорка. Главный результат получен, остальное потом… Однако час прошел. Позвоню-ка в приемную…
По телефону шефу сказали что-то такое, от чего он залился сердитым румянцем и закричал:
– Вы передали про экстренную важность?!
Потом сник:
– Вот как? Ясно. Сделаю.
Шмякнул трубкой об аппарат и длинно, заковыристо выругался.
– Уже звонил! Говорить со мной не стал. Некогда. Велел изложить письменно и оставить у него на столе. Ночью прилетит – прочтет. Пяти минут пожалел! Как будто Октябрьский станет по пустякам дергать…
– Шеф, Нарком ведь все равно поехал лично беседовать с командующими округов. Чтоб были готовы к нападению, – стал утешать начальника Егор. – Пускай он еще не знает про 22-ое, это ничего. Завтра утром узнает. И скорректирует указания.
Старший майор засмеялся:
– Ты у меня сегодня прямо Василиса Премудрая. Не горюй, Иванушка, утро вечера мудренее. А я вот как сделаю! Не желает слушать меня, пускай Вассера послушает.
И шеф размашисто написал на листе бумаге:
«Тов. нарком, прошу срочно прослушать запись допроса Вассера.
Ст. м-р Октябрьский»
– Вот и весь рапорт, – с удовлетворением сказал он, засовывая в пакет бобину с магнитной пленкой. – Думаю, нахальство тона подействует. Разве что…
Придвинул листок и быстро приписал еще несколько строчек, но Егору уже не показал.
Потом встал, сладко потянулся, так что захрустели мышцы всего его плотно сбитого тела.
– Хоть начальство нас и не ценит, сегодня мы с тобой, Егорка, одержали большущую победу. Скажем об этом без ложной скромности. Не знаю, как тебя, а меня после победы всегда переполняет радость жизни. Которая требует выхода. – Он подмигнул Дорину синим глазом, – Ты понимаешь, о чем я? Сейчас занесу в кабинет Наркома пакет и отбуду. Пойдем-ка, проводишь меня до лифта.
Они вышли из кабинета. Октябрьский вышагивал по длинному коридору, напевая про любовь, у которой как у пташки крылья. Бодрится, подумал Егор. А самому, конечно, обидно.
– Между прочим, иду к известной тебе особе, – улыбнулся Шеф. – Привет передать? Ты ее видел. В ресторане гостиницы «Москва».
– Увели? – ахнул Егор. – У тех франтиков? Саму Любовь Серову! Вот это да!
– Замечательная, между прочим, оказалась женщина. – Шеф на ходу надел фуражку, проверил, симметрично ли сидит на голове. – Нежная, страстная. Не семи пядей во лбу, но с ней же не в шахматы играть. А ты куда? Видок у тебя – краше в гроб кладут. Неужто помчишься к своей Дульцинее? Не отъевшись, не отоспавшись?
Лейтенант насупился:
– Нету у меня больше никакой Дульцинеи.
– Куда ж ты тогда? Комнату в общежитии отдали другому сотруднику. Твое удостоверение, кстати, у меня в ящике стола лежит. Забери, а то тебе не войти, ни выйти… Слушай, Егор, нахальство, конечно, с моей стороны. После всего, что ты перенес… – Старший майор остановился, не очень старательно прикинулся, что ему совестно. – Может, подежуришь у меня в кабинете, а? На случай, если Сам вернется и станет меня разыскивать. А чего? Деваться тебе все равно некуда. Хоть поспишь по-человечески, на диване. Он мягкий, кожаный. До вечера гуляй где хочешь. В столовку сходи, к Ляхову с Григоряном загляни. Порадуй, что жив и что мы Вассера взяли. Про допрос, само собой, молчок – сам понимаешь. Можешь с ними умеренно выпить. Но к двадцати двум ноль ноль быть на месте, – плавно съехал Шеф с товарищеского тона на командирский. – Дрыхнуть можешь, отлучаться ни-ни. Если со мной захочет говорить Нарком, запомни телефон: Д-65421. Это квартира Любочкиной подруги, она уехала на съемки, а ключи, нам оставила. Недалеко, в Безбожном переулке, в случае чего за десять минут долечу. Ну, а коли я Наркому не понадоблюсь, то пошло оно всё… – Октябрьский сердито махнул рукой. – Объявлю лежачую забастовку, прямо до 22 июня.
Старший майор снова запел, теперь уже не про любовь, а про красных кавалеристов и нырнул в лифт. Дорин же поплелся назад.
Время было только половина восьмого. Зайти к Ваське Ляхову, конечно, неплохо бы, но заноза, засевшая у Егора в голове после того, как шеф сказал про Дульцинею, саднила все сильней.
Телефонный номер больницы имени Медсантруда он помнил еще с тех пор, когда звонил туда с Кузнецкого.
Походил по кабинету.
Снял трубку, набрал две первых цифры.
Передумал.
Еще походил.
Потом, как в омут головой, быстро накрутил: Ж2-23-25.
– Алё. Больница Медсантруда слушает, – откликнулся строгий мужской голос – похоже, тот самый, который в апреле обещал передать Наде про Егорову «командировку», да не исполнил.
– Надежда Сорина, санитарка из Хирургического, на работе? – спросил лейтенант с замиранием сердца.
Загадал: если у Нади вечерняя смена, это судьба. В Плющево и обратно до десяти вечера не обернешься, а на Радищевскую запросто.
– Справок про медперсонал не даем, тем более про низший. Санитарку ему, ишь чего захотел! – грубо ответил дежурный.
Пока он не положил трубку, Егор быстро сказал:
– Представьтесь! С вами говорят из наркомата государственной безопасности.
На том конце шумно запыхтели.
– Я вот сейчас про тебя, сопляка, сообщу куда следует. Они номер в два счета определят. Такой тебе наркомат пропишут.
– С вами говорит лейтенант госбезопасности Дорин, – официальным тоном объявил Егор. – А телефон мой определять не надо. Можете перезвонить мне сами. Записывайте: К4-09-60, это коммутатор, добавочный у меня…
– Не надо добавочный, товарищ лейтенант! – испуганно закудахтала трубка. – Я верю! Про сопляка это я для порядку сказал, извините. А то, знаете, бывают умники. Сам бабе звонит, сестричке или там санитарке, а сам форсу напускает. Петюрников я. Пе-тюр-ни-ков, старший вахтер ночной смены. Меня в райотделе НКВД знают. С хорошей стороны.
– Так на работе Сорина или нет? – перебил его Дорин.
– Сейчас уточню, товарищ лейтенант… Так точно, заступила с шести вечера и до шести утра.
Значит, судьба.
– Вот что, Петюрников. Я сейчас приеду. Про мой звонок ни гу-гу.
– Обижаете, товарищ лейтенант. Что я, без понятия? Вы справьтесь про меня в райотделе, у сержанта Зозули, он вам ска…
Егор повесил трубку.
Решено!
Верил бы в бога – перекрестился.
Петюрников оказался плотненьким плешастым мужчинкой, который сначала взглянул на вошедшего Дорина волком, а увидев красную книжицу, сразу заулыбался и даже закланялся, будто холуй из кино про дореволюционную жизнь.
– Пока вы ехали, собрал все данные. Не беспокойтесь, внимания не привлек. Докладываю, – зашептал он Егору на ухо. – Не зря вы заинтересовались гражданкой Сориной, особа крайне подозрительная. Не комсомолка, общественной работой не занимается, политинформации игнорирует. В субботниках, правда, участвует. Но на груди под платьем носит крестик. Сам не видал – нянечка Будькова рассказала, она старушка глазастая. Сорина эта, хоть по штатному расписанию санитарка, но ведет себя будто принцесса какая. Врачи с ней цацкаются, потому что она дочка профессора Сорина из Глазного (между нами, тоже тот еще тип). Доктор Маргулис в нарушение правил берет ее ассистенткой на операции. Говорит, что она даст сто очков вперед любой операционной сестре.
Хотел Дорин сказать противному вахтеру, чтоб заткнулся, но как услышал про доктора Маргулиса, навострил уши.
– А с этим… с Маргулисом у нее что? – спросил он, чувствуя, что краснеет. Хорошо, свет в вестюбиле был тусклый. – Только по работе или…?
– Выяснил, всё выяснил, – плотоядно улыбнулся Петюрников, и у Егора внутри всё сжалось. – Провожает ее, на концерты катает, ручку целует – не на работе, конечно, а после. Со свечкой я над ними не стоял, но отношения просматриваются невооруженным глазом. Тесные такие отношения, – и вахтер сделал похабный жест.
Гнусный был тип этот Петюрников, да и сам Егор не лучше – зачем спрашивал?
Сдвинув брови, Дорин строго сказал:
– За информацию спасибо, пригодится. Но насчет Сориной вы, гражданин, ошиблись. У нас к ней претензий нет, совсем наоборот. Это я только вам говорю, по секрету, как преданному Органам товарищу. А теперь потихоньку, чтоб никто не видел, приведите ее. К кому, не говорите. Я подожду вон там, под лестницей. И последите, чтоб никто нам с ней не мешал.
– Понял. Конспиративность обеспечу, в лучшем виде.
Дорин стоял в темноте под лестницей, среди каких-то ведер и швабр. Волновался.
Над головой процокали легкие шаги. Голос, от которого у Егора перехватило горло, произнес:
– Где он, этот человек? Кто меня спрашивал?
Взволнована. Наверное, нечасто санитарку Сорину срочно вызывают на вахту. Или, может, дурак Петюрников состроил очень уж таинственную рожу. Хорошо хоть не приперся вместе с ней. Наверное, остался на верхней площадке, «обеспечивает конспиративность».
– Это я, – глухо сказал Дорин из своего укрытия, когда увидел тонкий силуэт в белом халате.
Надя развернулась так стремительно, что Егор понял – узнала, по двум коротеньким словам!
Он сделал несколько шагов вперед, на свет, и остановился, потому что Надежда испуганно попятилась.
Еще бы. Вместо румяного молодца, кровь с молоком, перед ней стоял тощий, заросший неопрятной бородой субъект.
– Это я, – повторил Егор, что, наверно, прозвучало глупо.
Она всплеснула руками:
– Что с тобой?!
Пора было произносить слова, приготовленные по дороге. Дорин придумал хороший текст, убедительный. Но сумел проговорить только первую фразу:
– Я не могу без тебя… – И сбился – очень уж Надя была красивая, еще красивее, чем он запомнил.
– До такой степени? – потрясенно вымолвила она, глядя на его физиономию землистого цвета.
– Да, – немедленно подтвердил лейтенант, инстинктивно угадав, что такого эффекта он бы не достиг никакими словами.
И Надя бросилась к нему. Обнять не обняла, но стала гладить по впавшим щекам, по белобрысой щетине – а это было не хуже, чем объятья.
– Как же ты измучился! И меня измучил, – шептала она, всхлипывая.
Он помалкивал, лишь ловил губами ее пальцы.
– Ты ушел от них, да? – улыбнулась она сквозь слезы. – Тебе было очень трудно это сделать, но ты все-таки ушел!
Ужасно хотелось соврать, но это было бы вроде воровства или предательства. Глубоко вздохнув, Егор сказал:
– Heт, я по-прежнему служу в Органах.
Все-таки он не ожидал, что она так от него шарахнется. Будто обожглась о раскаленную плиту.
– Тогда зачем? – И лицо будто заледенело. – Уходи!
– Из-за Маргулиса? У тебя с ним любовь, да? Само сорвалось, он не хотел. И, главное, жалко так прозвучало, визгливо.
– Саша очень порядочный человек: и замечательный специалист, – отрезала Надежда. – Он мой учитель. И в профессии, и в жизни. А люблю я тебя. Только мне с тобой нельзя.
– Да кто это решил? – взорвался Егор. – Учитель жизни Маргулис? Или твой папаша, пережиток капитализма? Ты своим умом живи, собственную голову слушай! Сама говоришь, что любишь! Я без тебя вообще не могу! Чего еще-то? Остальное неважно!
Чем громче он кричал, тем тише отвечала Надя:
– Я слушаю сердце, оно не обманет. Мне нельзя с человеком, который на стороне Грязи и Зла.
– Кто на стороне зла? Я?
Егор опешил. Он думал, что такими словами только в дореволюционных книжках разговаривают. Ну и обидно, конечно, стало. Это шеф-то на стороне зла?
– Да что ты знаешь про зло? – горько сказал Дорин. – Ходишь тут в беленьком халате, четвертая симфония Танеева, а через десять, нет, уже через девять дней начнется война. Страшная. Как попрутся на нас фашисты, со своими эсэсами и гестапами, тогда ты поймешь, где настоящее зло. Я и мои товарищи жизни не жалеем, чтобы защитить тебя, Викентия Кирилловича, Маргулиса твоего и еще сто пятьдесят миллионов советских людей. А ты нос воротишь! Железный Нарком для тебя, поди, хуже Антихриста, а он себя не жалеет, носится из штаба в штаб, чтоб подготовить Родину к обороне, а ты… Мы, значит, грязные, да? Чистый человек – не тот, кто грязи боится, а кто ее вычищает!
Это и был заготовленный текст, только немножко скомканный. И произнес его Дорин резче, чем собирался, но очень уж она его «грязью и злом» оскорбила.
– Война? – потрясенно повторила Надя. – Через девять дней? Господи!
И перекрестилась.
Выходит, другие его аргументы пропустила мимо ушей.
– Это государственная тайна. Ты никому. Даже отцу. Иначе меня расстреляют. И правильно сделают…
Она зажмурилась. Губы шевелились, но звука не было. Молилась, что ли? С нее станется.
Егор ждал.
Наконец, она открыла глаза, они были печальные, но спокойные.
– Я никому не скажу, даже отцу. И я не считаю тебя грязным. Грязного я бы не полюбила. Но ты все равно уходи. Одним Злом другое не одолеть, это я точно знаю. Ничего, есть у нас Заступник и кроме твоего наркома.
Откуда-то сверху женский голос позвал:
– Сорина! Ты где? Начинаем!
– Мне на операцию, – встрепенулась Надя. – Опаздывать нельзя. Прощай, Георгий.
Это слово тоже было книжное. В жизни люди говорят: «пока», «до свидания» или «ну, бывай». От «прощай, Георгий» у Егора в груди похолодело.
– Навсегда? – употребил он еще одно страшное слово.
Теперь содрогнулась и Надя.
– Нет, не навсегда! Когда-нибудь ты ко мне вернешься, я знаю! Только не было бы поздно.
– Что, заведешь себе другого?
– Нет. Просто боюсь, что не узнаю тебя… А другого у меня никогда не будет. Я же сказала: ты мой первый и последний.
Сверху снова крикнули, уже сердито:
– Сорина! Доктор ждет!
– Иду! – отозвалась Надежда и убежала, смахивая с лица слезы.
Глава пятнадцатая.
«Далеко пойдешь»
Ровно в двадцать два ноль ноль Егор вернулся на Лубянку скорбный и с красными глазами, будто с похорон.
На столе, под салфеткой со штампом «Спецбуфет», стояла тарелка с бутербродами – наверняка шеф перед уходом распорядился. Хотя Дорин ничего не ел почти двое суток, а из-под салфетки сочился чудесный копченый запах, ни сил, ни желания принимать пищу не было.
Едва дойдя до дивана, Егор рухнул.
Мыслей в голове не было. Чувств тоже.
Все ресурсы организма – и физические, и психологические, и нравственные – были выведены в ноль. Топливные баки опустели до самого донышка.
Невероятно длинный день, начавшийся целую вечность назад в темном и тесном подвале, подошел к концу.
– 22 июня, через девять дней, – сказал Егор вслух, чтобы заставить себя думать про войну.
Только чего про нее было думать? Начнется – будем воевать. Когда человек на свете один, воевать легко.
Он повернулся на правый бок, сложил ладони под щекой (какое это было наслаждение после четырех недель сна врастяжку!) и уснул.
И привиделся лейтенанту Дорину сон. Будто трясет его кто-то за плечо, он просыпается и видит над собой железного Наркома. Вид у великого человека грозный и даже божественный: лицо искажено яростью, глаза мечут молнии, а редкие волосы на темени окружены ослепительным нимбом.
– Где он?! – закричал громовержец. – Где Октябрьский? Дома нет, на даче нет, нигде нет! Отвечай!
Схватил спящего Егора за шиворот, затряс. От тряски Дорин заморгал и увидел, что никакой это не сон. Над диваном склонился сам Нарком, лицо у него неестественно белое, а волосы подсвечены ярким солнцем – за окнами кабинета вовсю сияло утро.
Лейтенант вскочил, как ошпаренный, пытаясь заправить в галифе выбившуюся рубашку.
– Лей… До… – залепетал он, помня о том, что прежде всего нужно представиться. – Дежу…
– Плевать мне, кто ты! – застонал Нарком, и столько в этом звуке было страдания, что Егор испугался еще больше, чем в первый миг. – Октябрьский где?
У Дорина наконец-то включилась голова: Сам прочитал записку, прослушал магнитную запись, теперь хочет срочно видеть шефа.
Стоп. Ну, узнал Нарком, какого именно числа нападут немцы. Ну, не терпится ему узнать у шефа подробности. А чего так кричать-то? Зачем за ворот трясти?
И совершил лейтенант страшное должностное преступление – соврал Зампреду Совнаркома, генеральному комиссару госбезопасности:
– Не знаю. Товарищ старший майор собирался к вам, как только вы вернетесь из поездки. Наверно, скоро появится.
А сам покосился на стенные часы. Двенадцатый час. Ничего себе поспал. С Октябрьским-то понятно – ждет звонка от Егора, радуется жизни, пока есть такая возможность.
Позвонить ему, конечно, надо. Но сначала неплохо бы выяснить, из-за чего разъярился Нарком.
Что с меня, мелкой, сошки, взять, подумал Дорин и, вытянувшись в струнку, отрапортовал:
– Я – лейтенант Дорин, сотрудник спецгруппы «Затея». Вчера весь день состоял при товарище Октябрьском, участвовал в операции по задержанию агента Вассера и в допросе. Готов отвечать на любые вопросы, пока не нашелся товарищ старший майор.
Нарком нацепил нанос свалившееся пенсне, прищурился. Глаза у него были большие, красивого темно-карего оттенка.
– Дурак ты, лейтенант Дорин, – уже не гневно, а печально сказал генеральный комиссар. – Начальник твой сам по себе не найдется. Его искать нужно.
– Виноват, не понял! – еще громче рявкнул Егор. Дурак так дурак – спросу меньше. Да и потом, он в самом деле не понял. Как это «не найдется»?
– Сбежал Октябрьский. Сделал свое черное дело и сбежал, – тихо-тихо проговорил Нарком. Подбородок у него дернулся книзу, будто вдруг налился неимоверной тяжестью – потянул за собой всю голову, и она опустилась на грудь. – Погубил, вражина.
– Как сбежал? Зачем? – растерялся Дорин. – Вы ошибаетесь! Он не враг!
Нарком пытливо смотрел исподлобья. Лицо у него было хоть и свежевыбритое, но очень усталое. Еще бы! За сутки побывал в четырех округах. И надо думать, не чаи там распивал.
– Сядь, лейтенант. – Нарком положил Егору руку на плечо, надавил. – Парень ты смелый, способный, знаю. И честный, а это самое главное. Только настоящим чекистом еще не стал. У настоящего чекиста на врага должно быть чутье, как у волка. Э, да что я тебя, мальчишку, попрекаю… Сам-то тоже хорош, генеральный комиссар.
Он безнадежно махнул рукой. Сел на диван, Егора усадил рядом.
– Октябрьский в записке сообщает, что тебя четыре недели в подвале скованным держали. А ты сумел вырваться и выполнить свой долг. Это ты, конечно, молодец…
Вот что шеф вчера приписал-то, сообразил Егор. И мне показывать не стал. Хотел, чтоб меня сам Нарком наградил. Только непохоже, чтобы дело шло к наградам.
– Тебя-то я ни в чем не виню. Выложился на всю катушку. Беда только, что работал ты на врага, вот какая штука…
– Почему?! Да, я передавал и получал радиограммы, но Вассера мы все-таки взяли! И он дал показания!
Дорин хотел вскочить, но Сам удержал, не позволил.
– Я не про радиограммы говорю… Эх, не имею я права тебе всё объяснять. Это государственная тайна, наивысшая категория секретности… Но человек ты надежный, верить тебе можно… – Нарком махнул рукой. – Ладно, слушай, и сразу вычеркни из памяти. Понял?
– Так точно, товарищ генеральный комиссар, – прошептал Егор, леденея от предчувствия чего-то очень значительного, а может быть, и ужасного.
Но то, что он услышал, превзошло самые худшие его ожидания.
Глядя лейтенанту прямо в глаза бесконечно суровым, но в то же время как бы сочувственным взглядом, Нарком объявил:
– Ты стал пособником чудовищной провокации, цель которой – столкнуть Германию и СССР лбами, развязать войну.
– Так ведь решено уже! – Дорин опять рванулся с места и опять сильная рука заставила его оставаться на месте. – Немцы нападают 22-го! Разве вы не прослушали пленку?
– Ничего еще не решено! – Голос генерального комиссара сделался звонок и тверд, как закаленная сталь. – Более того – Вождь, наш великий Вождь дает стопроцентную гарантию, что войны не будет. Стопроцентную, ясно?
– Ясно, – пролепетал Егор, сраженный этим неопровержимым аргументом.
– Тогда слушай дальше. В немецком Верховном командовании и разведке есть силы, которых не устраивает подобный поворот событий. Они решили спровоцировать нас на разворачивание войск. Чтобы Фюрер подумал, будто Советский Союз в нарушение договоренности готовит вероломный удар во фланг немецкой армии едва лишь она повернет на юг. Твой Октябрьский клюнул на абверовский крючок. А может быть, и не просто клюнул… Все минувшие сутки я летал по приграничным округам. Лично, с глазу на глаз, разговаривал с командующими. Жестко. Чтоб никаких военных приготовлений и демонстраций, под страхом расстрела. Наоборот. Командиров – в очередной отпуск, технику – на профилактику. Возвращаюсь в Москву, и вижу на столе так называемый рапорт твоего начальника. Да еще магнитную ленту! И теперь я хочу понять, кто такой Октябрьский – дурак или подлец.
Егор вздрогнул – очень уж дико было слышать эти слова из уст Наркома, да еще в адрес старшего майора.
– Товарищ генеральный комиссар! Но ведь Вассер, он же корветтенкапитан фон Теофельс, на допросе показал, что война начнется 22-ого! Он был под воздействием фенамин… я забыл, ну препарата, который не дает врать! Вы можете сами допросить Вассера! Он сейчас…
– Час назад корветтенкапитан отправлен спецрейсом в Берлин, – перебил Нарком. – Ему принесены извинения. Ясно?
Нет, Дорину не было ясно!
Вассер отпущен с извинениями? Октябрьский – дурак или подлец?
Лейтенант затряс головой.
Тогда Нарком полуобнял его за плечо.
– Да пойми ты, дурья башка, мне нужно срочно потолковать с Октябрьским. Скорее всего никакой он не враг, а просто заигрался. С профессионалами это бывает. Но я должен с ним поговорить. Это вопрос жизни и смерти. Его, моей, твоей – всех нас. Помоги мне. Ты знаешь, где он. Я вижу, что знаешь.