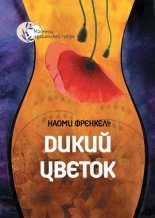Многоточие сборки Андреева Юлия

Жаль, тогда я еще не знала эту историю и не рассказала Борису Юрьевичу.
Впрочем, не будь Понизовский толстым и массивным, он не смог бы сидеть без специальных приспособлений.
Борис Юрьевич обладал мощными руками, от которых, наверное, не отказался бы ни один легендарный богатырь, и глубоким, проникновенным голосом.
Иногда, когда я танцевала, а Понизовский вещал, мне казалось, что вокруг него собирается белое облако, из которого продолжает литься завораживающий голос.
О своей трагедии Понизовский говорил легко и просто – мол, был молодым, в двадцать лет получил травму, а потом пошло-поехало, отрезали ноги по кусочку, пока их совсем не стало. При этом Борис Юрьевич порывался показывать видео, в котором он еще щеголял на протезах.
Сколько же ему тогда было?
– В девятнадцатом веке я был бы уже трупом, тогда столько не жили, – смеялся обычно Понизовский.
Борис Юрьевич делал кукол и маски, сам лепил декорации, создавал авторские брошки, писал статьи, разрабатывал и, главное, ставил спектакли.
Чего он только не делал…
Олег Григорьев[20]
Когда я задерживалась с репетициями до глубокого вечера, в мои обязанности входило в том числе и выпроваживание последних посетителей, об этом была особая договоренность. Понизовского уже раз грабили, воры зашли через вечно гостеприимно открытую дверь театра, и Борис Юрьевич на своей лежанке мог только ждать, когда же гады, сочтя его неопасным для себя, подойдут поближе. Но этого не произошло.
Иногда к Борису Юрьевичу наведывался пьяненький бомжеватый типчик, который мило и немного виновато улыбался, беседуя с Понизовским и нередко получая от него какие-то небольшие деньги.
Когда он уходил, Борис Юрьевич утирал рукавом лицо, демонстрируя, как он устал от общения. Впрочем, бомжик приходил снова, и Борис Юрьевич оставлял дела, чтобы снова беседовать с ним об искусстве.
Однажды тип заявился, когда я уже собиралась домой, и оставь я его в театре, он мог бы проболтаться там и до утра. Или, еще не легче, ушел бы, оставив дверь открытой. Сам Борис Юрьевич гостей не гнал из чистого принципа. Что делать? Доложить жене Понизовского Галине, и пусть она сама следит за дверью и бомжиком. До соседней квартиры два шага, но звонком или стуком в дверь я наверняка разбужу ребенка.
Ждать? С гарантией не успеваю на метро.
Я обвела глазами репетиционный зал, только тут обнаружив халат уборщицы и косынку. Решение пришло само собой. Напялив на себя то и другое и вооружившись шваброй, я с ворчанием начала елозить ею по полу, бурча себе под нос что-то о посетителях, которые ходят ночью и днем и грязь носят.
Понизовский улыбнулся со своего места, бомжик же съежился и устремился было вглубь сцены, откуда я выгнала его, быстро орудуя своим орудием труда.
– Ну что вы все ходите и ходите, работать мешаете? – ворчала я до тех пор, пока не оттеснила позднего гостя к дверям. – Завтра приходите, а сегодня театр закрывается. Завтра, завтра…
Я дождалась, когда за посетителем закрылась дверь, после чего переоделась и, посмеявшись вместе с Борисом Юрьевичем, уехала домой. К слову, как раз поспела на последнюю электричку.
О том, кого я выгнала в ту ночь из театра, я узнала через несколько дней, как следует получив по носу за свою импровизацию.
В тот день я, как обычно, явилась на репетицию и тут же была сражена известием о смерти поэта Олега Григорьева, стихи которого очень любила. На столе Бориса Юрьевича стоял портрет поэта. Портрет того вечно пьяненького бомжика, которого я выгнала из театра.
В итоге я репетировала под музыку голоса Бориса Юрьевича, который взял на себя организацию похорон. Наконец я не выдержала и присела рядом с не менее уставшим Понизовским. Он вручил мне список людей, которых нужно было обзвонить. Весь оставшийся день я была вынуждена сообщать людям о смерти Олега Григорьева.
– Представляете, он заходил ко мне буквально вчера, – Понизовский подпирает тяжелую голову кулаком. – Я ему говорю, давай посидим, чаю попьем или, может быть…
А он – ничего не хочу, я так устал…
Странно, вроде ничего плохого я Олегу не сделала тогда, выгоняя его из театра. Возможно, сам Понизовский ему потом рассказал о шутке, наверное, посидели, посмеялись… А вот мне до сих пор тошно, как вспомню. Комок к горлу. Один из любимых поэтов все-таки…
Маска
Для какого-то спектакля Борис Юрьевич решил сделать несколько масок. Дело хорошее. И я сразу согласилась поучаствовать в процессе. Нет, разумеется, не делать маски, я вообще руками плохо работаю. Разве что по клавишам стучу резво. Массаж еще хорошо сделать могу. Но маску!..
Борис Юрьевич сообщил заранее, что мое лицо сначала будет покрыто несколькими слоями марли, и только затем на нее наложат гипс. Ненадолго, он быстро схватится, и тогда можно будет его снять. Если я не буду шевелиться, получится замечательная посмертная маска. А чтобы я не задохнулась при этом, в нос мне будут вставлены две трубочки, через которые можно будет дышать.
В общем, на первый взгляд все нормально. В театре ОФ мы уже делали гипсовые головы, но по другой технологии – сажали на табурет человека и затем забинтовывали ему голову мокрым гипсовым бинтом; потом, когда гипс застывал, срезали по краю и все.
Но тут меня ждали сюрпризы.
Понизовский и его ассистент – мальчик-бурят (Влад Мантоев) положили меня на заранее расчищенный стол, вместо обещанных трубочек бурят предложил использовать пластмассовые авторучки, из которых вынимали стержень и свинчивали колпачок. Я вставила обе ручки себе в нос и, убедившись, что дышится нормально, дала добро на дальнейшую процедуру.
Гипс был теплой и приятной на ощупь, так что поначалу мне все нравилось. Сначала масса была положена на мой лоб, после утяжелила веки. При этом Понизовский рассказывал о фараонах и гробницах, и я радовалась, что уши мне никто не собирается закрывать и я дослушаю интересную историю до конца.
Неприятности начались, когда проклятая гипсовая масса закрыла мне переносицу и обтекла проклятые трубочки, закрыв тончайшие щелки, благодаря которым в нос поступало больше воздуха. Вот тут я по-настоящему испугалась, когда поняла, что через трубочки дышать вообще невозможно.
Когда я пробовала дышать через авторучки, я не закрывала ноздри полностью, а теперь мне было не вдохнуть и не выдохнуть. Грудь налилась свинцовой тяжестью, было невероятно больно из-за запертого внутри воздуха, я попыталась скинуть проклятую маску, но Борис Юрьевич схватил меня за руки, не давая пошевельнуться, при этом Влад держал меня за ноги.
– Заметьте, сударь, вот что я называю по-настоящему трагическим темпераментом, – ласково пояснил он. – Сейчас ей кажется, что она попала в гробницу фараона и задыхается в ней, в то время как все это чистой воды фантазия.
Я попыталась дернуться еще, и тут же два садиста придавили меня сверху, точно песком в пустыне завалило. При этом они спокойно продолжали вести надо мной свой непринужденный искусствоведческий диалог, по ходу дела комментируя мои предсмертные судороги.
Ах, если бы я могла выдохнуть через проклятые трубочки, просто выдохнуть… Грудь отчаянно болела, я уже почти не слышала, о чем вещал Понизовский.
Пытка прекратилась неожиданно, кто-то потянул на себя маску, и тут же я одновременно получила возможность дышать и обрела свободу.
Театр расплывался и вибрировал, краем глаза я заметила, как мужчины занялись полученной формой для маски. Я же безвольно стекла под стол, где на какое-то время вырубилась.
Когда реальность снова начала заползать в сознание, я огляделась, заметив рядом с собой ноги бурята и коляску Понизовского. Медленно подняла голову, ощущая чудовищную слабость.
– А, вот и Юленька проснулась! – ласково приветствовал меня Борис Юрьевич. – Не прошло и года. – А оттиск получился замечательный!
Фроленок
Свой первый роман «Феникс», девичье имя «Бездна», я отнесла в издательство «Азбука», где в дверях меня встретил охранник с автоматом, а в редакции за столом сидел человек с лицом Иисуса, мягкие волосы которого ложились по плечам, а глаза словно говорили: «Верь каждому моему слову».
Я бы и поверила, но судьба велела мне двигаться дальше, проплывая мимо божественно прекрасного Арсена Мирзаева[21], вглубь издательских недр на встречу с моим редактором Сергеем Фроленком.
Я отдала две тяжелые папки машинописного текста с тридцатилистовиком и обещала вернуться за ответом через месяц.
Но Фроленок назначил мне встречу неожиданно скоро, аж через две недели. Я снова встретилась глазами с Арсеном, жалея, что не он мой редактор, впрочем, на этот раз Фроленок умудрился произвести на меня более сильное впечатление, нежели поэт Мирзаев. Начнем с того, что, едва я переступила порог издательства и добралась до нужной мне редакции, во всем здании вырубили свет. Непроглядной тьмы не получилось, потому что был день и свет лился из окон. Но не освещенные ничем коридоры и лестницы были охвачены таинственным сумраком. По этим самым коридорам тут же забегали какие-то люди, то и дело открывались и тут же захлопывались двери. Кто-то спрашивал, куда подевался электрик, кто-то звонил в аварийку. Я стояла посреди редакции забытая всеми, когда вдруг прямо на меня откуда-то из темного коридора издательства выскочил Сергей Фроленок. Выскочил и тут же остановился напротив с выпученными глазами и моими папками в руках.
– Я не знаю, как следует оценивать ваш роман, вы написали его в настоящем времени! Во времени действия, так сказать. Кроме того, там совсем нет слов автора, только прямая речь! Не думаю, что это можно переделать. Я в шоке! – с этими словами редактор развел руками и исчез, юркнув в нору одного из коридоров.
Роман в настоящем времени? Что он хотел этим сказать?
Не помню, как я вышла из издательства, не исключено, что прошла через стену, так как вояка у дверей меня так и не тормознул.
Но самое странное началось много позже, когда я ходила с романом по издательствам и везде меня встречали одним и тем же: «Феникс». Как же, как же. Сергей Фроленок говорил, что это очень странный текст, вообще без слов автора и в настоящем времени. А так бывает?»
Получается, что Фроленок ходил по питерским, нет, тогда ленинградским издательствам, и рассказывал, с какой странной штукой его угораздило соприкоснуться.
Дивно сие.
Фрол – Сергей Фроленок, или все-таки более привычно Фрол, родился в 1965 году в Риге. Человек, переживший знаменитый бой на перевале Саланг в Афганистане, бой, о котором принято говорить, что дышали там гарью, огнем и вздымающимся песком и пылью.
Сергей закончил филфак ЛГУ. Работал переводчиком и редактором в различных издательствах Москвы и Петербурга («Северо-Запад», «Центрполиграф», «Азбука» и др.), писал стихи.
Этот сильный и выносливый человек после Афгана жил странной, мало заметной жизнью и умер так же странно и нелепо в 2009 году, совсем недавно.
Со слов Арсена Мирзаева: перед Новым годом Фроленок решил непременно ехать в лес за елкой. Через три дня, 31 декабря, он позвонил жене и сообщил, что находится в больнице с обморожением обеих ног. Его нашли в лесу где-то под Гатчиной.
В больнице Сергей оставаться не пожелал, опасаясь, что врачи захотят ему ноги отрезать. Пришлось возить пострадавшего через день в травмпункт. Делали какие-то ванночки, Сергей принимал лекарства и вроде как пошел на поправку. Во всяком случае, ноги зажили. Но потом вдруг ему сделалось резко хуже: давление, высокая температура, полное отсутствие аппетита.
Диагнозы ставились разные – от панкреатита до сепсиса, возникшего на фоне разрушения сердечного клапана.
«Еще врач сказал, что у Сергея иммунитет был просто на нуле, организм напрочь отказывался бороться» (из «Живого Журнала» Арсена Мирзаева). Все это привело к заражению крови и смерти.
Сергей Фроленок скончался 23 марта, в понедельник. Ему было 43 года.
И вот еще одна необъяснимая странность: казалось бы, не дружили мы с Сергеем, даже знакомы, можно сказать, не были. Но, когда его не стало, я с мамой и дочкой были в санатории под Санкт-Петербургом – уехали на детские каникулы отдыхать от суеты. Когда же вернулись, в моем компьютере оказалось десятка два писем с сообщением о смерти и отпевании Сергея Фроленка.
Неужели он меня, несмотря на недолгое общение, все-таки умудрился приобщить к своим друзьям?
Знать бы раньше…
Птица Сирин
– Сейчас я покажу тебе что-то такое, чего ты не видела. Птицу Сирин, она как живая! Мне друг-художник перед смертью оставил хранить. Птица Сирин – душа его золотая, хрупкая, трепетная. Я лет семь холсты не разворачивал, – смеется старый мим, клоун Коля Никитин, подталкивая меня вглубь театра «ДаНет». – Я их сюда месяц назад со старой квартиры перетащил. Ты первая увидишь.
Первая и последняя.
Когда пьяный и восторженный Коля вытащил из большого прогнившего мешка свернутые в рулоны холсты, из которых сыпалось золотое крошево, я уже поняла, что картины пропали, а душа художника…
Ни о чем еще не догадываясь, Коля разворачивает помеченный косым крестом холст, и несколько мгновений я вижу дивное женское лицо с голубыми живыми глазами, птичьим телом и золотыми крыльями. Мгновение – и глаза стекают вместе с лицом, крылья взмахивают, и я невольно подставляю руки, наивно пытаясь не дать Сирину покинуть холст, и ловлю лишь разноцветное крошево.
Птица улетела…
– Надо же… А мне никто не говорил, что холсты нельзя хранить в свернутом виде! – сокрушается Коля. – Птица Сирин – душа моего друга, большим художником был…
– Художником… – машинально повторяю я. – А как фамилия художника?
– Фамилия? – Коля смотрит на меня большими печальными глазами. – А зачем фамилия, птица Сирин все равно уже улетела…
Коля Никитин
«Лучший мим – тот, который молчит»
Ник. Ник.
Последние годы жизни Никитин жил так, словно давно умер и только по какой-то странной прихоти судьбы не был похоронен и распределен, согласно грехам и добрым деяниям, в ад или в рай.
Николай Никитин – легендарный мим. Марсель Марсо, увидев выступление Никитина, назвал его «русским Петрушкой», высоко оценив работу своего русского коллеги. Человек, которого называли своим учителем и духовным вдохновителем актеры театров «Лицедеи» и «Дерево». Он блестяще владел техникой классической пантомимы, «он мыслил зрительными образами на глазах у зрителя. Смех ли, грусть, ужас или изумление, даже ярость, – реакция следовала неизменно» [22].
С начала шестидесятых годов Николай Никитин выступал как мим. Он объездил весь Советский Союз и был первым мимом, работавшим отделение. В 1975-м сыграл главную роль в фильме «Бурный поток».
Маленький, длинноволосый, бородатый клоун Коля, вечно аскающий на чашечку кофе в «Сайгоне» или других кафешках, точно призрак, просачивающийся в репетиционные помещения знакомых театров.
Впрочем, он редко критиковал, почти никогда не хвалил, лишь иногда вспыхивал внутренним пламенем, словно вспоминая нечто прекрасное, дотрагиваясь душой до подлинного своего счастья.
– Ты знаешь, у меня ведь все шло хорошо. Даже очень хорошо. Как отлично налаженный механизм. Но потом я вдруг поймал это ощущение. Я увидел машину, управляющую всем, осознал себя в этой машине!
Я не хочу быть машиной. Не хочу быть предсказуемым. Я хочу только сорваться с ее шестеренок, перестать действовать в лад и, если получится, сбежать… Ты понимаешь меня?
Я киваю.
– Ты только думаешь, что понимаешь. Я тоже поначалу подумал, что ты сможешь понять, и ты поняла. Стало быть, снова произошло предсказуемое действие, я не вылез. Я все еще в этой чертовой машине!..
Реквием лету
Вот снег листа
На нём воспоминанья
Вы извините…
Много нам природа дарит
Словарь тех слов
А я бродяга снов —
Природа записи
Лишь молоко природы
Пролитое…
Ребёнком ставшим
И смывшим капли сна
Любовь моя
Хрусталь той люстры осветил лицо ночлега
Да осветил любовь моя
Пробелы памяти ночлега
А память к ним вернётся
А гибкость мысли
Залива гибкость обогнёт
Нечаянно погибнет робко словно птица
В опущенных глазах ресницы тают
Но обогнув зеркальное пятно движением дыханья, надежды
И растворяя влагу холод теплом земли дыханьем лёгких листьев словно дым
Мне жалко не расскажет, лишь напомнит
Кто знает тайну песни, с рассеянностью странно спорить!
Рассеянность моя и крошки памяти
Возможно всё…
Я вновь молчу
Изгнанник, изгнанник я?
Сиренью звука весна придёт
Растерянно проталины лицо
Внизу остаток дар реки постели
Убыток прошлого – прошедший день
Влекомый вниз прошедший день
Прошедший день…
Лишь то познанье
Печаль прошедшего
Нужна импровизация листа
Николай Никитин
Новая галерея
Художественно-литературная группа «Новые символисты» догадалась нарождаться как раз тогда, когда все мастерские на Пушкинской, 10, были уже разобраны. Каждый метр огромного здания распределен и перераспределен.
Что же делать? Собравшись на военный совет матери-основательницы – художницы Настя Нелюбина (Ася Голицына-Кац) и искусствовед Ольга Касьяненко (Леля Гостинцева) – ломали головы над извечным русским вопросом: «Что делать?», как выпросить у мрачного Сергея Ковальского[23] единственное свободное помещение, квартиру под роковым номером 77, из которой только что съехал бывший постоялец. Потому как, с одной стороны, есть общество, литераторы, художники, танцовщики, а с другой стороны – много нас таких, на всех помещений не наберешься! Думали, думали и вдруг вспомнили, что как-то Сергей Ковальский очень смачно рассказывал о том, как в Санкт-Петербурге и только в нем одном, исстари было принято жарить корюшку, не обваливая ее в муке, как это делают сейчас, а нежно панируя манкой, отчего корюшка становится хрустящей и потрясающе вкусной.
Говоря это, Ковальский блаженно улыбался, думая о весне и времени, когда в городе снова запахнет свежими огурчиками и можно будет вкушать традиционное блюдо. Лицо генерального директора расплывалось в довольной, почти чеширской улыбке, в глазах светилось желание…
– А не пожарить ли ему корюшки? – предложила Настя.
На следующий день рыба была куплена и пожарена в точности по старинному рецепту. Свое же послание «Новые символисты» положили на блюдо, щедро засыпанное золотистыми рыбками.
Вот оно:
«Пан Ковальский, просим дать «Новым символистам» помещение под галерею. Бьем челом к твоей милости, уповаем на положительное решение. Выдай, батюшка, нам ключи»!
План сработал, и не ожидающий подвоха Сергей Ковальский с удовольствием слямзал корюшку, лишь в последний момент обнаружив измазанное маслом и рыбьим соком роковое письмо.
Рыба была съедена, и, что называется, назад не повернешь.
«Новые символисты» получили свои ключи, и вскоре в 77-ю квартиру въехали полотна, красный диван и воцарилась атмосфера питерских салонов начала века…
Помню первый свой визит в 77-ю квартиру. Была ранняя весна, вечер, на Пушкинской в целом подъезде отключен свет, но мероприятие не отменено. Участники и зрители встречаются во дворе и затем направляются в освещенный расставленными по ступеням свечами подъезд. Куда-то вверх, по щербатым стенам с рисунками известных и неизвестных художников, перемежающимися с более новыми подонковатыми пасквилями, тянутся тени приходящих на первый вечер «Новых символистов» поэтов. Тени ползут все выше и выше, туда, где смутно угадывается потолок.
Впрочем, кто сказал, что в таких мистических местах есть потолок? Судя по холодине, отопление тоже по ходу дел отключено, над нами черное небо. Именно туда спешат наши извивающиеся по стенам и лестничным проемам тени, за которыми, точно привязанные, шествуем мы…
О том, какие идеи могут родиться от обыкновенной плесени
В один из таких нерадостно холодных дней на Пушкинскую, 10 забрел Сергей Курехин. Впрочем, он и раньше неоднократно посещал «Фонд русской поэзии», где они вместе с Николаем Якимчуком строили смелые планы, пили коньяк или просто фантазировали о том, что бы еще сотворить такого, дабы не скучно было.
Однажды, рассказывает Николай Якимчук, на Пушкинской было особенно холодно и тоскливо. По стенам текла вода, все пропахло сыростью и гнилью, а в туалете на стене образовалась роскошная, невероятной, неземной красоты плесень, которую никто не спешил убирать.
И вот прибегает в один из таких дней Сергей Курехин и сразу же с морозца – в туалет.
Влетает, и тут же Николай слышит его восторженный крик:
– Вот это картинка! Надо знакомых фотографов прислать, такое чудо заснять! В жизни не видел ничего подобного!
И вот в холодном, сыром помещении, где, казалось бы, могут ужиться лишь плесень да ревматизм, замечательный музыкант Сергей Курехин с воодушевлением рассказывает, как было бы классно снять здесь мистически-артистическое кино! И отправить его затем на Каннский фестиваль!
А действительно, где-нибудь в Голливуде нужно специально создавать декорации, мочить стены, пока обои на них не начнут подниматься разнообразными волдырями, заказывать художникам лепить плесень, а у нас ведь все натуральное! Пол проваливается, из стен кирпичи вылезают, иней на окнах, и сосульки в жилых помещениях! Красота!
Вот только красоту эту не всякий увидеть может.
Как это у Владимира Маяковского: «А вы фокстрот сыграть могли бы на флейте водосточных труб?».
Воробьиная оратория, или Привет от Курехина
О Курехине можно говорить много и интересно. Впрочем, большинство историй уже и без меня прописаны. У нас же с Сергеем общих проектов никогда не было. Работали, что называется, на параллельных площадках. Параллелили. Хотя и были друг другу представлены.
Но вот – интересное совпадение, знак или даже «привет».
А было это так. Рассказал Николай Якимчук о том, что Сергей, мол, мечтал поставить в Питере памятник воробью и искал на этот проект средства.
Покрутила я эту историю так и эдак. Ничего не получается, не вытанцовывается, не цепляет.
Ну, не получилось – и фиг с ней. Выбросила, спать легла, все равно уже светает, стало быть, с воробьем этим я часа четыре провозилась.
Просыпаюсь днем, первым делом включаю комп и что же – на моей стене неведомый мне поэт возьми и прикрепи курехинскую «Воробьиную ораторию»!
С того дня проект словно ожил, люди начали подтягиваться, из далекой дали появляться бывшие партнеры и знакомцы. Так, словно сам Сережа Курехин, светлый человек, над книгой моей добрым ангелом в небе появился.
План работы
Получить от Ковальского ключи от помещения оказалось не так уж и сложно, и «Новые символисты» на некоторое время забыли о былых страхах, обосновавшись на новом месте. Чтобы оправдать как-то номер на входной двери, новую галерею так и назвали – «77», теперь все вроде бы встало на свои места, и подружки-основательницы мирно устраивали выставки, чаевничая с время от времени заходившими на огонек гостями.
И эта идиллия могла бы длиться сколь угодно долго, если бы в декабре 1995 года, идя по двору Пушкинской, 10, Настя Нелюбина неожиданно для себя не столкнулась с мрачным более обычного Ковальским.
Оказалось, что со дня заселения прошло больше года, и «Новые символисты» просто обязаны сдать отчет о проделанной работе.
Какой отчет?
Для отчета нужно же было вести какую-то документацию, что-то записывать, фиксировать, «до того ль голубчик было»…
Что делать?
Решив не откладывать дело в долгий ящик, Настя направилась к Ольге. Все-таки одна голова хорошо, а две лучше.
– Давай, – говорит, – вместе думать.
Сели. Написали красивое заглавие: «Отчет о проделанной работе галереи 77 за 1995».
А дальше-то что?
Точно этот отчет сам с неба или с потолка, сто лет не беленого, в белые рученьки галерейщиц свалится.
– Ладно, что мы с тобой делали в январе прошлого года? – бодрится Настя, а у самой по спине выводок мурашек.
– Да чего мы только не делали… На новогодних праздниках Вовик Савельев приходил, водку пили, – нехотя вспоминает Оля.
– Вовик, – Настя на мгновение задумывается, – Вовик у нас кто? Сотрудник Русского музея, основатель галереи «Борей» [24], ее куратор. Прекрасно, пишем: «5 января – круглый стол по вопросам артбизнеса и галерейного дела в СПб».
Отлично! А теперь, что мы делали в феврале?
– Георгий Невский (скульптор) с Наташей Карс (композитор) приходили, шампанское пили.
– Понятно! – входит в раж Нелюбина, – запишем так:
«10 февраля – конференция по вопросам синтетического искусства. Синтез скульптуры и звука в современном искусстве».
А в марте? На весенних праздниках?..
– На Восьмое марта, точно помню, Анна Крутикова забегала выставку посмотреть, пили пиво с какими-то финскими дамами.
– «Международное совещание по вопросам культурных связей с Финляндией. Дальше».
– В апреле точно не помню, вроде Зинка Курбатова с тортиком забегала, чай пили… Постой! Дай я сама: «Подготовка к ток-шоу на телевидении по вопросам позиции визуального искусства в культурологическом контексте телевидения!» Курбатова же у нас на телевидении трудится.
В общем, так месяц за месяцем девушки расписали весь прошедший год. Солидно получилось, не стыдно строгому начальству на стол положить. Хотя… смех смехом, но самое забавное, что подруги все это делали на самом деле. Были и совещания с галерейщиками, и переговоры о будущих выставках и зарубежных программах. Были многочисленные выставки, перформансы, вечера и поездки, поездки, поездки… Просто начальству ведь не объяснишь, что именно так, за чашкой чая или чего покрепче, за непринужденной беседой и рассказами анекдотов и свежих сплетен, дела и делаются.
Намордники и ущелье гоблинов
Перестройка и радовала, и одновременно с тем, пугала. Радовали и удивляли появившиеся возле станций метро ряды кооперативщиков – так называли людей, взявших патент на индивидуальную трудовую деятельность и теперь вдруг начавших лепить глиняных дракончиков, изготавливать аляповатые значки, невиданные прежде серьги-ёжики и прочую ерунду.
К кооперативщикам ходили поглазеть на небывалое при совке разнообразие продаваемой продукции, прикупить что-то для хорошего настроения.
Пугало то, что все больше и больше людей от сорока лет и выше ни за что, ни про что теряли работу. Когда под сокращение попала моя мама, я узнала, что такое ужас человека, привыкшего, что работа есть всегда. Но работы не было.
Потекли унизительные визиты на биржу труда, стояние в очереди и объяснение с инспектором по поводу предоставленных биржей вакансий. Невозможно было просто отказаться от поступившего предложения, если таковые были, потенциальный наниматель должен был отказаться от вас сам.
Предложения были одно отвратнее другого, то на другом конце города, куда ни на метро, ни на трамвае не доберешься, разве что на Змее Горыныче долетишь, да и то за копеечку… А то и вовсе в заявке работодатель пишет, что ему нужен мужчина, а биржа словно нарочно присылает теток.
Самое плохое, если потенциальный работодатель дал заявку, а сам разорился или неправильно указал свой адрес. Ведь нужно было принести письменный отказ с печатью. А что ты тут будешь делать, если означенного в документе дома нет и никогда не было в природе?
Штраф, а то и вылет с пособия.
Многие тогда, не будь дураками, обзавелись в своих трудовых книжках записями о невероятно больших зарплатах, вот и получали затем полгода повышенные пособия, мастерски обходя все предложенные вакансии. Через полгода безуспешных поисков пособие сокращалось вдвое, впрочем, если изначально оно было большое, так еще можно было жить.
Первый раз на биржу труда я сама попала из конторы, в которой бедным актерам вообще не платили, бухгалтерша так честно и написала, из-за чего пособие было с гулькин нос.
Ну да ничего. Покуковав таким образом с пособием, которого хватало только на месячную карточку проезда в городском транспорте, я отыскала людей с печатью какой-то липовой фирмы и дальше уже жила как белый человек на повышенном пособии.
Отсутствие работы как таковой лично меня не пугало, потому что сразу же после училища я успела проработать на государство всего каких-нибудь два года. Регулярная зарплата, обязательный отпуск с содержанием, бесплатные путевки от профсоюза и прочие блага не успели стать обыденной реальностью, врасти в плоть и кровь.
Как раз наоборот, я привыкла, что работу нужно искать, и с успехом находила ее. Не постоянную. Постоянно я была нужна в театре, постоянно я писала, все остальное было преходящим. Оно приходило и благополучно уходило, не успев осточертеть.
Шваброй помахать – нет проблем, плевать что грязно, уберу и будет чисто. Текстик кому-нибудь набрать тоже без проблем. Что-нибудь за лодыря-писателя написать – только дайте.
Куда хуже пришлось маме, которую пугала неизвестность. Пенсия еще нескоро, мы с братом не пристроены…
Попробовала газеты по ящикам раскладывать – тяжело, да и страшно, мало ли с кем в подъездах можно встретиться. Листовки по улицам раздавала…
А меж тем то тут, то там появлялись коммерческие ларьки с невиданным иноземным товаром. Шоколадные батончики, обилие вкусных ликеров, соки не в банках, а в симпатичных пакетах – все это так хотелось попробовать хотя бы раз.
В отсутствие средств мама ходила по городу, играя сама с собой в игру «что я куплю, когда появятся деньги».
Один раз подвернулось шить ватно-марлевые намордники, шили вместе.
В мою комнату по такому случаю были вкатаны две огромные, в метр в высоту катушки с марлей, вата размещалась в пакете почти с меня ростом.
Заказчица быстро показала, как следует резать марлю, начинять ее ватой, как сворачивать и затем прошивать.
Мы менялись с мамой: один день она подготавливала повязки, а я прошивала, другой наоборот.