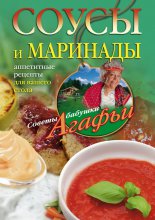Азарт Гравин Терентий
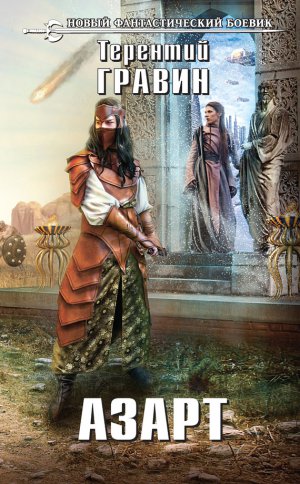
– Есть, капитан! – сказали рыбаки.
– Кого обмануть думаешь? – с издевкой сказал профессор Оксфорда. – На драных парусах пойдешь? Ты нас всех утопишь.
Англичанин (надо отдать должное его флегматичному характеру) оставался внешне спокоен. Он стоял, как прежде, на квартердеке, придерживая Сашу за талию, и флегматично глядел на усилия команды. Волна окатила его так же, как и прочих, но не сдвинула с места. Английский (или специфически оксфордский) характер научил этого человека никогда не суетиться – ни обдумывая свои злодейства, ни спасаясь от беды, профессор Андриан Грегори не выказывал волнения. Губки бантиком, полусонные глазки прикрыты.
– Думаешь, справишься? Шансов у тебя мало, капитан.
К этому времени мы уже были в открытом море, в километре от берега – за линией тяжелых волн. Море бурлило, и «Азарт» то проваливался в кипящую воду, то взмывал на волне – но мы были уже далеко от гавани.
Август не ответил профессору Адриану, он даже не глядел в его сторону.
– Полный бакштаг левого галса, – сказал капитан.
Костлявое лицо Августа ничего не выражало, серые глаза следили за волной, и так мне показалось, сам он словно слился в этот момент с морем. Бывает у людей призвание – вот и Август, судя по всему, был рожден капитаном.
– Флотоводец, – презрительно сказал британец. – Тебя ветер назад развернет.
– Мы утонем? – спросил Микеле. – О мои бамбини! Ваш бедный папочка утонет! О нет, только не это! Спасите меня ради моих бамбини! Верните меня на берег!
– Спасательные жилеты раздай, капитан, – сказал Хорхе. Испанец был хорошим моряком – цепкий, быстрый.
Верно, спасательные жилеты! Как же мы про них забыли.
– Жилетов нет, – сказал Август.
Капитан посмотрел поверх наших голов в ревущий черный простор, сказал:
– Хотел купить. И деньги были. Заглянул в коробку – пусто. Не судьба. Обойдемся.
– Как – пусто? – ахнула команда.
Можно воровать все подряд: рулевое колесо, корабельные канаты, обшивку с бортов, – но есть же святые, неприкосновенные вещи. Деньги для этих людей являлись священным символом. Символом чего? – на такой вопрос никто бы не ответил. Не символом труда – это уж точно.
Ветер не выл и не свистел, эти эпитеты уже не годились; ветер грохотал вместе с морем – но сквозь грохот донесся вопль команды:
– Деньги пропали?!
Взоры обратились к лысому актеру. Есть предвзятое мнение на нашей планете, будто русские эмигранты на руку нечисты – но скажите, а кто не ворует? Однако посмотрели именно на актера.
Он, он! У лысого актера на лице было написано, что взял он!
– Что смотрите? – воскликнул актер, и надрывная нота появилась в его голосе. Безнадежная искренность – с такой интонацией говорят герои русских пьес, когда их клеймит бездушный свет. Что можно объяснить светской черни, если хулители заранее составили мнение?..
– А… все едино! – взвыл актер. – Мучителей толпа! Крутите руки! Все гонят, все клянут… Европейцы… Да, брал. Но брал немного! Нечего возводить напраслину! Как самим брать, так пожалуйста! А русскому человеку на опохмел пять копеек взять зазорно. Всегда вы русских людей обвиняете! Русофобы вы, вот вы кто!
Переход от роли Иоанна Грозного к роли Чацкого дался актеру просто – он и двигаться стал иначе, и лицо преобразилось. Прежде актер пучил глаза и раздувал ноздри, как то делают цари и патриоты, а сейчас откинул голову назад и скорбно прищурился. Ветер помог – вздыбил воротник рубахи; актер застыл в этой скорбной позе, подставив лицо урагану.
Никто его, впрочем, не обвинял. Крали все, не он один. Разве что денег никто не присваивал.
Актер обиделся не на шутку.
– Вечно у вас, у европейцев, русский мужик виноват! Пять гульденов в день на пиво – что, разорил? Пять гульденов пожалели! Крохоборы! – Надрывная нота достигла крещендо. – Пятак в день! Что, на пятачок не наработал? Кружку пива не заслужил? – И он тянул к команде свои честные большие руки.
– А остальное где? – спросил Хорхе, быстро посчитав в уме. – Каждый день по пять гульденов… а там больше двух тысяч было.
– Остальное она взяла, – актер указал на левую активистку Присциллу. – Все подчистую выгребла – сам видел. Ну, думаю, пропал я: засудят русского мужика. Всех собак повесят на бедного Ивана… Кто ж француженку-то осудит…
Француженка, нисколько не смутившись, скрестила руки на груди.
– От меня, видимо, ждут объяснений? – сказала она. – Так вот, сообщаю: объяснений не будет.
Как отрезала.
Впрочем, и времени объясняться у нас не было. Какие тут объяснения.
Мы уже и лица друг друга различали с трудом, хотя стояли близко.
Не было уже ни моря, ни неба, ни города – только ревущая тьма, только клокочущая бездна вокруг.
Присцилла, возможно, и сказала бы что-нибудь в свое оправдание, но сейчас была слишком увлечена бурей и своей ролью в ней.
Вообще, каждый в эти страшные минуты вел себя сообразно своему подлинному характеру, доселе, может быть, не столь явно обнаруженному. Буря срывает все покровы – если кто и прятался, старался предстать не самим собой, то сегодня мы видели любого таким, каким его устроила природа. Я уже знал, что Присцилла – существо порывистое и эксцентричное, но чтобы настолько! Француженка распустила волосы, преобразившись в этакую героиню романтических полотен времен Французской революции, знаете, из тех дам, что требовали казни Капета, – и в этом романтическом обличье металась по палубе, декламируя стихи.
- Между тем как несло меня вниз по теченью,
- Краснокожие кинулись к бечевщикам! —
выкрикивала француженка, и буря завывала в такт Рембо.
– О мои бамбини! О мой Неаполь! – причитал Микеле. – Неаполь, где ты?
- В благодетельной буре, теряя рассудок,
- То как пробка скача, то танцуя волчком… —
голосила француженка.
– О горе! Горе! Зачем я уехал на север?!
- Я узнал, как гниет непомерная туша,
- Содрогается в неводе Левиафан…
Возможно, лысому актеру французская социалистка напомнила эринию или валькирию – должен же был актер по своей сценической биографии знать об этих вестницах смерти, а может быть, ему стих Рембо показался неуместным. Как бы то ни было, русский актер разъярился и заставил Присциллу замолчать.
– Умолкни, кикимора! – завопил лысый актер и отвел даже руку для удара.
Штефан, немецкий рыбак, перехватил его руку, отшвырнул актера прочь. Актер отлетел в сторону, столкнулся с Цветковичем, растерянно стоящим посреди палубы; они оба, актер и поэт, с маху сели на палубу, не удержавшись на ногах.
- Ну, а если Европа, то пусть она будет,
- Как озябшая лужа, грязна и мелка, —
продолжала завывать Присцилла.
Право же, удивительные характеры подобрались в нашей команде. Француженка оказалась подлинно поэтической натурой. Цветкович же был не похож на себя привычного; как это и следовало предполагать – его натура в действительности была значительно более прозаической, нежели тот героический образ, коим поэт щеголял в мирное время. В минуту опасности поэт не декламировал стихов, не скандировал манифестов. Цветкович был склонен к декламации лишь в безоблачные дни. Жирный эстрадный поэт понуро сидел на мокрой палубе, там, где и шлепнулся, не делая даже попытки встать. Он обхватил голову пухлыми руками и покачивался из стороны в сторону, в такт ударам волн. Усики его, закрученные на мушкетерский манер, повисли.
– Что расселся, жирдяй? – крикнул ему Хорхе. – Гузно подними, толстый! Есть работа! А ну, жирный, марш в трюм, становись на помпу! – И он пнул поэта сапогом в филейные части.
– Права не имеете…
– Я тебе покажу право! Иди, качай! – И новый пинок под зад.
И впрямь, воды было много на палубе, и вода шла снизу – не только та, что захлестывала через борт. В трюмах, наверное, совсем много воды. «У нас же пробоина старая, – подумал я, – да и обшивка ободрана. Помпа нужна, это уж точно».
– Мы тонем? О, почему, почему это случилось со мной? О, скажи! Умереть таким молодым! – даже и голос у Цветковича изменился: вместо бодрого тенора – ломкий фальцет.
– Пошел в трюм, на помпу! Катись, жирдяй! Девочки, проводите поэта! – И новый пинок.
Цветкович покатился к трюму, а волна, окатив его с головы до ног, придала поэту скорости. Женщины – моя жена и Присцилла – побежали за ним.
– Приглядите за ним. Если помпу сломает, убейте гада! Там, в ящиках, инструменты! – кричал Хорхе вдогонку. – Возьми стамеску, слышишь, Присцилла? Возьми стамеску и держи у его шеи, чтоб не рыпался!
Однако до трюма Цветкович не дошел. Новая волна сбила его с ног; поэт растекся по палубе подобно медузе, и поднять его не было никакой возможности.
– Приготовиться к повороту. Ослабить марселя! – сказал Август.
– На грот-марсель! – заревел Хорхе. – К повороту готовьсь!
Август не кричал, говорил твердо, но негромко, а Хорхе, стоявший подле капитана, – тот повторял команды во весь голос, орал бешено, как боцман на корабле.
«Вот и боцман у нас появился, – некстати подумал я. – Дожили мы и до боцмана».
Он и был настоящим боцманом, наш испанец. Он и команду держал в кулаке, и корабельному хозяйству вел учет. За долгое время, проведенное в трюме, Хорхе изучил нутро корабля, знал, что имеется в наличии и что можно с этим скарбом делать.
– Что рот открыл, итальяшка? – рявкнул он Микеле. – Закрой пасть, не ной, вода натечет – кишки промокнут. Ну-ка, бегом на бизань! Не видишь, стеньга сломалась? Бегом!
И Микеле побежал. Он спотыкался, скользил по мокрому настилу, но бежал. Глотал слезы, но работал.
– Ступай вниз, будешь помпу качать, – сказал Хорхе англичанину. – На палубе от тебя проку нет. Видишь, толстяк надорвался.
Профессор Оксфордского университета взглянул на испанца удивленно; это был такой особый оксфордский взгляд, которым доны одаривают нерадивых студентов, не умеющих показать знания. Как? Вы, оказывается, несмотря на свое ничтожество, умеете разговаривать? – вот что выражал этот презрительный профессорский взгляд сверху вниз. Хорхе встретил взгляд британца своим, не менее презрительным, взглядом. Испанец глядел надменно, как, вероятно, умели смотреть идальго и конкистадоры на слабосильных противников. Что-то древнее было в этой вражде взглядов, нечто такое, что и словами не выразить; что-то еще со времен Армады и морского соперничества.
– Не пойдешь на помпу, британская свинья, я тебе брюхо распорю, – сказал Хорхе профессору. – Имей в виду, я про тебя все знаю. Видишь нож, англичанин? Вот отсюда, – испанец показал ножом на горло англичанина, потом на его живот, – и вот досюда. Распорю, как матрас. Иди, работай.
Но оксфордский ученый не шевельнулся. Он был по-своему бесстрашным человеком.
– Пойдем, прошу тебя, пойдем в трюм, я боюсь! – Саша потянула англичанина к трапу.
Англичанин величественно проследовал за ней.
Я вцепился в фальшборт одной рукой, прижал к себе сына другой. Хотелось, конечно, спрятаться в трюм, даже если там стоит вода – все-таки стены защищают. Но когда вокруг ревет море, понимаешь сразу, что прятаться негде: снизу, сверху, со всех сторон хлещет соленая пена. Есть такое выражение «в огне брода нет»; поверьте: в море брода нет тем более.
Море вздыбилось и накрыло корабль так же внезапно и неумолимо, как война накрывает Европу, как это было в 1914-м и 1939-м. Море было везде – кипящая ледяная пена.
Уберечься от бури одному – вне команды – так же невозможно, как спрятаться от войны Латвии или Финляндии. Накрыло всех, и выбираться надо было всем сразу.
И тут стали звонко лопаться снасти, и освободившиеся концы парусов хлопали по ветру и по нашим лицам.
– Гнилые веревки! – крикнул Штефан. – Утильное собираешь, крохобор!
– Руки тебе на что даны, – ответил Август. И крикнул рыбаку: – Руками держи парус!
Капитан кричал внутрь ветра – ветер дул ему прямо в лицо и заталкивал слова обратно в открытый рот – но мы услышали.
– Сам держи, святоша! – орал в ответ Штефан.
– Приказ капитана выполнять! – проорал Хорхе.
– Командир нашелся…
Но мы видели, сквозь ветер и пену мы видели, как рыбак схватил двумя руками парус и натянул его снова, подставил парус под ураганный ветер. Парус, надувшийся пузырем, рвался из рук, но переспорить Штефана было невозможно. Силы в этом рыбаке было немерено; он стоял на мокрой палубе, натягивая руками парус, и волны и ветер не могли сдвинуть его ни на метр.
– Гнилой такелаж, все снасти ни к черту. Веревок не мог купить!
– Где я тебе другие веревки возьму, – огрызнулся Август.
– Сколько они лежали в трюме? С войны?
– Ты не разговаривай, силы береги, – сказал ему Август. – Есть еще работа на палубе.
Снасти рвались в руках, оторванные ванты вылетали из клюзов и молотили, как плети, по нашим плечам.
– Держи бизань-марсель!
Парус с бизани сорвало и накрыло им двух людей – прихлопнуло, точно мух мокрой газетой. Там, под бизань-марселем, барахтались лысый актер и Микеле – и мы бросились на корму к бизань-мачте. Хорхе успел поймать ванты, он рванул на себя всю снасть, но снасти лопнули в его руках.
– Вырвался марсель! – крикнул мне Хорхе. – Их утащит за борт! Держи конец! – Он сам пытался удержать обрывки веревок, но не поймал, поскользнулся, свалился ничком на палубу, его накрыло волной.
– Держи! – кричал он мне бешено, пока волна волокла его по палубе.
Я поймал конец веревки, но конец вырвался, хлестнул меня по лицу, я потерял равновесие. Почти упал, но успел схватить сам парус, уцепил жесткий угол, обшитый тросом.
«Азарт» накренился, завалился набок, зарылся в волны, палуба стала косо, и я сползал вниз, но парус не отпускал. Корабль был на боку, но он все-таки шел вперед, сквозь шторм, сквозь волну, и парус, который я не отпускал, был нам нужен. Пальцев я не чувствовал, их свело холодом, поэтому не сразу понял, что поверх моей руки лежит рука Хорхе – испанец тоже исхитрился ухватить парус и теперь мы держали вместе – он чуть выше, я чуть ниже.
Мокрая парусина рвалась из рук, но заиндевевшие пальцы держали мертво – и парус тащил нас по палубе, верткий, шершавый, скользкий и тяжелый одновременно, – как морское чудовище. Так мы катились по деке до фальшборта, пока не уперлись в него ногами.
– Теперь вставай, – сказал мне Хорхе. Он повернул ко мне мокрое лицо и приказал это так спокойно, словно я мог встать, словно мы с ним отдыхали на пляже.
– Я не могу встать! – крикнул я в ответ. Волна перекатывалась через меня, во рту стояла соленая морская вода, и слова выплескивались брызгами.
– Вставай! Приказываю: вставай! – И тогда мы оба встали, поднимая парус и растягивая парус против ветра. Ветер наполнил его одним рывком, раздул щеки у нашего Борея, и так мы стояли с марселем от бизани в руках, а немецкие рыбаки держали растянутый грот-марсель – и наш корабль шел.
Он шел вперед, наш полусгнивший «Азарт» с дырявыми парусами, с рваным такелажем, с пробоиной в борту, груженный порохом и динамитом. Корабль шел вперед с безумной командой, сумасшедшим капитаном, предателями в трюме – он шел вперед без мотора и без всякой навигации, но он шел!
– Так держать! – сказал Август, и мы держали паруса руками, пока ураган нес нас в открытое море.
– Поднять флаг! – крикнул Август.
Кому был отдан приказ – непонятно. Кто из нас мог сейчас заниматься флагом? – Не было таких матросов. Йохан лежал ничком на палубе; Боян Цветкович огромной медузой растекся по палубным доскам, раздавленный страхом, клокотал и булькал, обхватив полные щеки руками; актер полз на четвереньках к фальшборту, а волны упрямо сносили его в сторону. Лысая голова актера то выныривала из пелены дождя и брызг, когда он хватался за поручень и пытался встать, то пропадала вновь, когда актер откатывался вниз. Нет, они не смогли бы поднять флаг, нечего и надеяться. Остальные были заняты такелажем – парусами, мачтами. Август обращался не к нам.
– Поднять флаг! – крикнул капитан Август.
– Я боюсь! – ответил звонкий голос Полины.
– Не смей бояться!
И снова – резко, грозно:
– Поднять флаг!
Капитан отдал приказ детям – теперь я понял: детям!
И девочки бросились к флагу – наш синий дельфин жалко болтался под ветром, подвязанный к рее. Флаг «Азарта» был сшит детьми из разных разностей: в дело пошли тельняшка моряка дяди Вити, спальный мешок сквоттера Йохана, лифчик Присциллы – лоскуты были сшиты вместе, а поверх дети пришили дельфина. Все это смотрелось беспомощно: разве таким должен быть флаг корабля, идущего сквозь бурю?..
Но это был наш флаг, другого не было.
Дойти до флага-дельфина сквозь штормовой ветер и моряку было бы непросто. Дети шли, шатались, падали, вставали, скользили по доскам, а волна накрывала их с головой и мела по палубе, как метла метет мусор. Сквозь пелену дождя я видел, как девчонки взялись за руки, чтобы встретить ветер вместе.
Ветер все равно сбил их с ног. Проволок по палубе, ударил о борт, оттащил в сторону – тут их опять накрыла волна. Заряд был такой силы, что девочек буквально подбросило в воздух.
– Боюсь! – звенело сквозь ветер.
– Не бойся!
– Не могу! Мне страшно! Не могу идти!
– Танцуй! – кричал капитан Август. – Если страшно – пляши!
– Как – плясать?
– Пляши!
И бесшабашные девчонки пустились в дикий пляс под ураганным ветром.
Никогда не забуду этих безумных детей, пляшущих на корабле в бурю.
Рот мой был полон соленой пеной – иначе я бы что-то им крикнул, как-то им помешал бы. Казалось, это самоубийство – плясать под ураганной волной. Казалось, это преступление – заставить детей танцевать в шторм.
Но помешать я не мог.
Девочки кружились и прыгали, сплетались и разбегались, визжали дикую песню – детскую эпиталаму ветру и морю – и так, в танце, дошли до флага.
Капитан не боялся за детей, Август не сделал и движения, чтобы им помочь. Был уверен – думаю, теперь я знаю, почему он был уверен, – что ураган не справится с детьми.
Дети привязали флаг – пальцы не слушались, детские ручки коченеют на холоде быстро, но они все-таки привязали его к свободному концу рваного такелажа. Грот-ванты были гнилыми и рвались в любом месте – капитан Август собирал такелаж по клочкам и обрывкам на забытых складах, но чтобы удержать дельфина, и гнилые ванты сгодились. Ветер взвыл, волна вскипела, веревка взлетела вверх, и наш дельфин взмыл над кораблем. Рваные ванты вились и закручивались в урагане – и дельфин парил, кувыркался, он нырял и плыл в грозовом ветре и ураганной волне.
– Плыви, дельфин!
– Лети, дельфин!
Дети плясали на пьяной штормовой палубе, дельфин полоскался в ураганном ветре, и «Азарт» летел вперед, навстречу ревущему морю.
– Вставайте, дядя Йохан, пляшите с нами! – крикнула Алина певцу ювенильных ценностей, распластанному на палубе.
Авангардист Йохан сделал усилие, сел; выпучив глаза, музыкант взирал на пляшущих детей.
– Вставайте, дядя Йохан, здесь весело! Пляшите!
Йохан встать не смог, попытался, но не смог; куда там плясать, певец ювенильных ценностей и голос-то подать не мог. Хрипел, плевался соленой желтой пеной.
Голос подал Боян Цветкович, поэт.
– Бе-бе-бе! Бу-бу-бу! – возопил Цветкович. Клекотанье его доносилось сквозь рев шторма подобно тому, как доносятся крики чаек. Возможно, его реплика была несколько иной, но губы не слушались поэта, ветер свирепствовал и срывал слова с губ; слова были мятыми, мокрыми, невнятными. – Бе-бе-бе! Уууууу! Помогите мне! Бу-бу-бу! К берегу! Бу-бу-бу! На берег хочу! О, земля! Где ты? Отправьте меня на сушу!
– А ну, веселей! – гаркнул Хорхе. – Как там поэт сказал? Бе-бе-бе! Отлично сказано! Держи мачту, ребята, трещит, собака. Веселей, веселей! Канаты гнилые, бу-бу-бу! Сейчас все к черту развалится, братва! Бу-бу-бу! – подхватил боцман мотив Цветковича. – Хорошо сказано, жирдяй! Поэт, сука, прав! Бу-бу-бу вокруг! А ну-ка, дружно, вместе с жирдяем, за работу! Веселей, матросики!
– Кто-нибудь! – голосил поэт Цветкович. – Помогите, защитите, закройте! Бе-бе-бе! Демократия! На берег хочу!
– Веселей, веселей! – кричал Хорхе. – А ну-ка, немчура, навались! Давайте, фрицы, голубчики! Не подведите, окаянные гансы! Отлично, братва! Бу-бу-бу!
– Богородица Троеручица! Вверяю себя в руки твои, бе-бе-бе…
– Давайте, фрицы, давайте, родненькие! Давайте, псы-рыцари, давайте, убивцы!
– Уууу! Спасите! Сжалься, Пресвятая Матерь! Бе-бе-бе!..
Клаус и Штефан не издали ни звука, работали молча. Немцы сделались частью корабля, стояли тверже, чем мачты. Канаты жил – покрепче вантов и выбленок – вздулись на шее Штефана, рыбак расперся ногами на мокрой палубе, одеревеневшими – тверже реи – руками вязал грот-марсель. Такелаж рвался, рыбак начинал снова, без крика отчаяния, без протеста, без ругательства, снова и снова, а ветер рвал парус, и веревки лопались. Рыбак продолжал работать.
– Плохо сейчас беженцам, – сказал я сквозь пену Хорхе. – Додумались бедолаги плыть в Амстердам!
– Балда, – ответил мне Хорхе, – с чего ты взял, что вельбот с беженцами идет в Амстердам? Ты поверил этим клоунам на спектакле? Плывут из Африки в Амстердам? Как это они из Средиземного и Адриатики, по-твоему, придут в Северное море? Географ нашелся.
Он рассмеялся. Горько так рассмеялся.
– Их высылают из Европы, – сказал Хорхе. – Все наоборот. Беженцы плывут из Африки в Италию на плотах и гребных лодках. Потом едут сюда из Южной Европы, прячутся на складах и в товарняках. Спят в парках. Им кажется, что здесь сытно. А их отлавливают. Детей. Старух. Сажают на баркасы и выпроваживают – морем.
– Они сейчас в море на баркасе?
– Конечно. Их же выгнали. Зачем Европе лишние рты. Своих дармоедов хватает.
– Погибнут, – сказал я.
– Нет, – сказал Август.
Глава двадцатая
Закат Европы
– Так вот что ты задумал! – Лысый актер возник из пелены брызг и пены. – Беженцев теперь спасать будем? Вот зачем нас мариновал в своей консервной банке! Азарт! Утопия! Утопить всех решил?
– Почему утопить?
– Ты спасать негритосов будешь?
– И ты тоже будешь, – Август ему сказал.
– Я? – и актер зашелся в истерическом смехе.
– Ты.
– Да я с дорогой душой! – Актер даже руки распахнул в карикатурном объятии и чуть ли не вприсядку по палубе пошел. – Я свою пайку им отдам. И штаны сниму последние. Берите, милые! И жизнь за черных отдам! Да с удовольствием! – Лысый актер постепенно входил в роль обличителя и насмешника; кстати сказать, его недавняя роль Санчо Пансы пригодилась. – Как славно все устроилось! Свою жизнь собственную прозяпили, корабль свой растащили по гвоздику, мотор с корабля спилили и продали, у самих будущего – ноль! Но черномазых спасать – это мы с дорогой душой, на это у нас силы и деньги есть!
– Денег нет, – уточнил Август.
– Ах, неужели нет? – Актер продолжал юродствовать, даже глаза закатил. – Совсем ни копеечки на наших темненьких друзей? А куда же они делись, кровненькие наши? Я вот ишачил, мешки таскал в порту – это для чего? – Актер обратил недоуменные взоры к прочим морякам, призывая их в свидетели. – Денег у него нет… А ты наймись грузчиком, мешки с какао потаскай денька три, авось наберешь – своим новым друзьям на их маленький завтрак! Пти дежанер! Даешь французский пти дежанер для африканских голодранцев! С круассаном! Непременно с круассанчиком!
– Надо будет – так наймусь грузчиком. А пока людей спасти требуется, – сказал Август.
– Людей?
– Между прочим, сербов. Православных, как и ты. Я думал, все славяне – братья.
– Сербы? – Актер прищурился недоверчиво. – Ой, сочиняешь. Какие ж сербы из своей страны побегут. Это небось мусульмане боснийские.
– Черные это, из Африки, – сказал Хорхе. – Но они тоже люди.
– А я вот – не человек, по-твоему? Я – не человек? Скажи мне, скажи! – воззвал актер.
– Верно, – ответил ему капитан Август. – Ты тоже человек. Я надеюсь.
– Тогда ты мне объясни. Не торопись. Спасешь всех, успеешь. Я, может, погибну, спасая этих темненьких. Так мне хоть узнать напоследок. Ты умный, языков кучу знаешь. Ты мне растолкуй.
– Пожалуйста.
– Вот как так получается у нас в Европе? Каждый раз та же самая гангрена. Задумываешь рай на земле. Собираешь под это дело народ. Коммуну строишь! Утопию! А потом все у тебя разворуют, прямо из-под носа уведут! И те, кто хотел утопию для друзей строить, им уже все равно – раз все сперли, так они готовы жизнь отдать за черномазых. Это как понять?
– А никак, – сказал Август. – Если не можешь понять, то не старайся. Просто так надо сделать, вот и все.
– Надо?!
– Обязательно.
– Видать, Европе утопии ни к чему, – сказал актер (он же Санчо Панса). – И строить эти утопии – только свою шею в петлю совать. Не требуется нам никаких утопий! Мечтать вредно. Жить надо, как деды жили.
– Если как деды, – сказал ему Август, – то тебя вообще в Европе быть не должно. Какое ты отношение к Европе имеешь? Вот ты лично?
– Я – русский европеец, – горделиво сказал актер. – Россия, если уж на то пошло, – это часть Европы.
– Часть Европы?
– Причем большая ее часть! – заметил Хорхе и захохотал. – Россия не просто часть Европы, но – девять десятых Европы! А все остальные европейцы – это только довесок к вашей тайге и мордве.
– Не надо передергивать! – вспенился актер. – Мы, если хочешь знать, носители ваших духовных ценностей, да! У вас там давно это, как его… папизм и непотизм. Да! Упадок у вас! А у нас соборность!
– Интересно получается! Соборы у нас, а соборность у вас! – Хохот Хорхе напоминал хриплый колючий крик чайки. – Соборрры! Соборрность! – Он хрипло хохотал.
– У вас эта… политкорректность и половые извращения! А у нас соборность! – сказал актер.
– Так какого лешего ты сюда приперся? Сидел бы в своем болоте со своей соборностью!
– Так вот оно – болото! Ваше, европейское! Кругом одно болото!
Болото вокруг, море или океан – тут уже было не до точности в оценках. Кругом бушевала стихия, и корабль мотало в мутной и темной воде. Почему, почему – когда вокруг ураган и шквал, когда волны накрывают судно и когда надо собраться всем вместе, почему именно в этот момент начинаются споры?!
Мы с трудом держали равновесие на мокрой и скользкой палубе, мы стояли под ледяным дождем и колючим ветром, мы были покрыты пеной и водорослями – и мы неслись в пелене бури неведомо куда, – и, несмотря на то, что мы были окружены бедой, мы теряли время и силы в этом диком споре.
– Ну какой же ты европеец, – сказал рыбак Штефан, – если ты работать не умеешь. Проку с тебя нет. Я видел, как ты мешки носишь. Паршивый ты работник. Бездельник и дармоед.
– Я – не умею работать? Я – великий актер! Ты с кем говоришь? Нашел себе ровню! Я, если хочешь знать, сто ролей сыграл.
– Вот именно. Притворяться кем другим ты еще сумеешь. А сам по себе ты – пустое место.
– Я – пустое место?!
– Конечно. Как там у вас называется? Степь.
И Штефан плюнул на палубу. Надо сказать, в условиях шторма этот жест приобретает особый, сугубо символический характер – на палубе было и без того мокро.
– Мы Европу от татар спасли!
– Ты лично спасал?
– Да я… Да мы… Толстой и Достоевский, если уж на то пошло… Мусоргский… – Актер, как и большинство русских интеллигентов, дабы утвердить свое значение, прибег к помощи классики. – У нас, если хочешь знать, Чайковский был! «Лебединое озеро»! «Дядя Ваня»!
– Ты, что ли, дядя Ваня? Не дядя Ваня? Ну и молчи тогда.
– Где ты беженцев найдешь? – Хорхе спросил.
– Их скалы найдут раньше. Они на моторном вельботе. Сейчас от мотора толка нет, а выгребать не смогут. Они давно в Ла-Манше. Бельгийский берег прошли за час. Их принесет на дуврские скалы, – сказал Август.
– Какой еще Дувр? – сказал актер. – Это же в Англии.
– В Европе все близко, – сказал Август. – Даже слишком близко.
– Да, между Кале и Дувром им не пройти, – сказал Штефан.
– Отнесет на скалы без вариантов, – сказал Хорхе. – Да если бы и паруса у них были, что толку? Маяка они в такой погоде не увидят. Сильная погода.
– А, кстати, дядя Ваня прав. Почему я должен про чужих думать? – это Йохан от руля сказал. – И про африканцев и про разных там арабов? Почему мы их должны кормить? У них своя жизнь, у нас своя.
– Потому хотя бы, – ответил ему Август, – что ты, голландец Йохан, кормился с африканских колоний триста лет подряд.
– Когда это я с колоний кормился? Какие у нас колонии были… У Британии – это да, имелись.