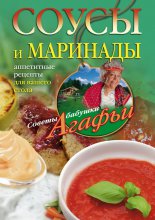Азарт Гравин Терентий
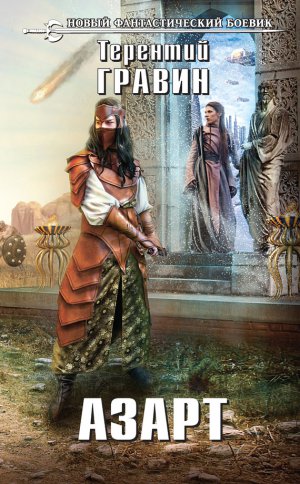
– Невольничий Берег, – сказал ему Август. – Не слышал про такой? Того, Бенин, Нигерия. Еще Анголу сюда добавь. И Гвинея еще. И про Америку не забудь. Вот плати теперь, если ты европеец.
– Почему европеец должен платить?
– Потому что европеец – это тот, кто долги платит. У нас римское право. Брал – верни.
– Не согласен я!
– Дикарем быть проще, – сказал Август. – Только ты уж тогда африканцев не брани.
– Мы даже не знаем, кто там плывет – на вельботе, – сказал Хорхе рассудительно. – Африканцы там, боснийцы или сербы.
– Есть разница, кого спасать? – спросил Август.
– Имеется разница – и большая! – Актер снова взорвался, резкий он был человек, на дядю Ваню чеховского не похож. – Нация имеет первостепенное значение! Наступает пора национальных государств! Я лично поинтересуюсь, за кого эти страны выступали, когда Америка…
– Это как понять? – спросил Август.
– А так, что нечего другим чужие рецепты подсовывать. Кому-то кто-то должен… Сами нагадили – сами разбирайтесь! У нас своя история! И демократия у нас своя!
– Особенная?
– Не вашей чета!
– Что-то я запутался, – сказал Штефан, – то говоришь, что ты европеец, то говоришь, что у тебя другая история. Как понять?
– А вот так! Своя у нас история! И суверенная демократия! А Европа у нас общая!
– Держи карман шире, – сказал Хорхе, – нужен ты, азиат, в Европе, как в бане – лыжи.
– А сам-то ты нужен? – немецкий рыбак спросил у испанца. – Мы вашу испанскую баню своими немецкими лыжами который год топим. Вам бы только апельсины кушать.
– О мой Неаполь, о мои апельсины! – это Микеле заныл, подошел к нам и заныл. – Зачем я поехал на север?! Это совсем не Италия!
– Ты только сейчас заметил?
– О, си! Си! Я заметил! Большая разница!
– А зачем ты вообще приехал? – спросил лысый актер.
– Я думал, общий бизнес намечается… Мы в Италии по-семейному бизнес делаем… А помирать не согласен.
– Знаем мы ваш семейный бизнес в Италии, – сказал немецкий рыбак, – мафиози проклятые…
– Мафиози быть лучше, чем нацистом! – завизжал Микеле.
– Ваш дуче был не лучше нашего фюрера. Просто трус и тряпка.
– А! Вашего фюрера! Вашего! Проговорился!
– Заткнитесь вы оба! Пропадать так пропадать! Достали вы меня со свой Италией и Германией! Идем черномазых спасать! – Лысый актер стукнул кулаком по фальшборту.
– Вы погубите нас, как Сербию погубили! – раздался тенорок Цветковича. – Свобода моей несчастной страны растоптана – а теперь топчут персонально меня!
Жирный поэт распрямиться под ветром не решался и стоял на скользкой палубе на четвереньках, на него было страшно смотреть. Бушующая стихия измучила поэта, исказила его благостные жовиальные черты. Мне даже померещилось (впрочем, тому виной сумерки, должно быть), что щеки у поэта ввалились.
– Мы твоим сербам хвост прищемим, и поделом! – жестко сказал немецкий рыбак. – А ты жизнь отдай за братьев-славян, спаси беженцев. Тут все сараи в порту набиты нищими. Ты нищим сербам на причале и пенса не дал.
– Я сам и есть Сербия! – Боян Цветкович сказал это с таким выстраданным чувством, что все поглядели на поэта с уважением. – Я сам – женщины и дети этой несчастной страны… Я – растоптанная свобода… я – горе матерей… я – поруганная свобода…
– Так что, идем спасть матерей?
– К берегу, умоляю, держите к берегу! – Поэт поднял полное лицо к свирепым небесам и заголосил: – Домой! В Европу! В Европу!
И все это под равномерный рев моря.
– Считаю, надо идти к Дувру, – сказал Хорхе, – тем более ветер нас туда отнесет все равно.
– При таком ветре, – сказал рыбак Штефан, – мы часов за пять дойдем, будем раньше вельбота.
– За восемь, – сказал второй рыбак, Клаус, обычно молчаливый. – Я прикинул. Восемь часов при полном ветре.
– С ума сошли, – сказал Йохан. – Но если уж решили…
– Боишься?
– А чего бояться? Раз все идут. Раз уж мы европейцы.
– Я отказываюсь! Безоговорочно отказываюсь! – крикнул Цветкович, но лысый актер схватил его за шиворот и поставил не ноги.
– Все идут, – сказал актер, – и ты, стервец, пойдешь.
Англичанин Адриан вышел из трюма и стоял, смотрел на нас, скрестив руки на груди. Губы оксфордского профессора сложились в презрительный розовый бутон.
– Любопытно. Общий энтузиазм перед кораблекрушением. Все романтично – вплоть до встречи со скалами. Интересно, а могло быть иначе? Как ты себе представлял течение событий? Вообразим, что корабль построен, что есть машина, нет пробоины – и дальше что? Как жить?
– Общей семьей, – сказал Август.
– Равное распределение, вероятно? – Профессор говорил устало, презрительно ронял слова.
– Равное распределение, – Август ответил.
– Единая Европа? – саркастически сказал англичанин.
– Именно так.
– Испанец пусть пьет, голландец пусть курит марихуану, долдон-немец пусть доски приколачивает, а француженка пусть песни поет?
– Мы все вместе – общество. Каждый трудится как умеет.
– Так ведь половина не умеет.
– Научатся. Когда научатся уважать соседа. Тогда и вина не надо.
– Но простые удовольствия должны быть, согласись.
– Удовольствие в равном труде. Других удовольствий нет.
– Например, игра в карты? Нет, нельзя? Вино? А любовные утехи? Вовсе отказаться? Это ханжество, гражданин иезуит. Вот и ваша жена так тоже считает. Вы, наверное, светскую культуру не жалуете?
– Не жалую, – сказал Август.
– А зачем тогда общая семья, если культуры нет и удовольствий нет?
– Я хочу сделать невозможными войны, – сказал Август.
– Так ведь от такой ханжеской жизни люди горло друг другу перегрызут. О, какая тоскливая намечалась перспектива. Значит, ты намерен был лишить нас человеческих радостей?
– Болезни и беды происходят от удовольствий. Потому так получается, что главное удовольствие человека – это унижение другого и власть. Рядом с этим удовольствием меркнут все прочие радости. Поглядите на тиранов – у них самые острые удовольствия на свете. Люди стремятся к богатству любой ценой, потому что золото дает власть, то есть возможность удовольствия через неравенство.
– Верно подмечено, такова природа. Мужчина не равен женщине, как это ни досадно для суфражисток. Но мы живем с этим – природу регулирует закон.
– Нет, закон не регулирует. Потому что богатые используют закон против бедных, получая от этого дополнительное удовольствие. Значит, надо научиться получать удовольствие только от труда и забыть о праздных удовольствиях.
– Полагаешь, это понравится людям? Отказаться от радости?
– Отказаться от радости власти можно. Не понравится это только жадным. Но жадных мне не жалко.
А ветер ревел. Август говорил с англичанином, мы слушали их беседу – а ветер нес корабль в темноту. То был уже не ураган, волны уже не вставали горами, но ветер был сильным; удержаться на ногах непросто.
– Не жаль богатых и властных? То есть не жаль элиту. Тех, кто стимулирует развитие, не берем в расчет. И кто же сформулирует эстетику и этику, заложит основы логики и риторики? Кто направит науку и производство? Кто создаст искусство? Давай спросим у нашего художника, – и профессор указал на меня, – интересна ли ему такая утопия? Вы, кажется, рисовать здесь собирались? Творческая командировка, не так ли? Довольны результатом поездки?
Что же я мог ответить? Что картин не нарисовал – это было очевидно. Впрочем, кто же теперь рисует картины. Картина – давно анахронизм. Красками по холсту мазать люди разучились. Теперь инсталляции делают и перформансы. Пописал в баночку – уже, считай, совершил акт творчества.
– Я принял участие в утопии общего труда, – сказал я. – это и есть цель искусства.
– Что за утопия труда без направления работ? Вот как наш корабль «Азарт» – плывет посудина никуда и ни к чему. Надобно знать, какая у рабочего процесса цель
– Цель – справедливое общежитие.
– Справедливо – это когда поровну? Или справедливо – не поровну?
– Тот, кто направляет работу, не должен быть богаче труженика.
– А как стимулировать первенство? Уравнять людей нельзя – они не равны от природы. Англичане, – тут оксфордский профессор пожал плечами, удостоверяя факт, – более развитая нация, нежели, допустим, конголезцы. Отменить неравенство никакой Томас Мор не сможет.
– Отменить неравенство может мораль. Цель искусства – нравственный урок. Значит, художник первым обязан отказаться от привилегий.
– Пустая фраза. Цель искусства – прекрасное. Если мораль построена на отсутствии удовольствий, то мораль – уродлива. Была такая секта – скопцов. Худший вид протестантизма. Кстати, свои общины скопцы называли кораблями. – И профессор засмеялся. – Корабль скопцов плывет? – И добавил совсем грубо: – Полагаете, вашей жене такая секта нравится?
– Это уже несущественно, – страстно возразил Август, – когда жадное, беременное войной общество хвастается своей свободой – это хуже.
– Свободой не надо хвастаться, – заметил англичанин, – свободой надо обладать. Как женщиной. Как капиталом. Как домом. И уже потом – если ты воспитанный человек, разумеется, – ты можешь собственной свободой поделиться с другим.
– Нет, – повторил Август, – свободой нельзя делиться и свободой нельзя обладать. Свобода – общая или ничья.
– Да, Платон так тоже думал, – заметил англичанин, – но в его республике имелись рабы. Кто-то должен на прочих работать. И большевики так думали, но построили концлагерь.
– У нас каждый будет отвечать за всех.
– Если есть больные, с ними как? Старые? Дети? Женщины? Природные идиоты? Им тоже полагается равная доля европейских благ?
– Такая же, как и всем.
– А вот мы, европейцы, между прочим, живем так неплохо потому, что есть Африка. И есть африканцы. Это необходимое в эволюции свободы звено. Прикажешь изменить порядок?
– Если у Европы и есть преимущество, – сказал Август, – то только одно: раньше других понять, что надо отдать привилегии.
Англичанин задумчиво посмотрел на капитана:
– Вот и отдай привилегии. Начнем с тебя. Отдай мне корабль.
– Он взорвет нас! – крикнула моя жена. Она появилась из-за спины английского профессора, кинулась к нам. – Они там заперлись в порохом погребе!
– Все верно, – хладнокровно сказал англичанин. – Яков и Янус сейчас в пороховом погребе.
– Они взорвут все! Взорвут!
Я смотрел на жену, слышал ее слова, понимал смысл сказанного – и ничего не мог ни сказать, ни сделать. Что можно сделать против взрыва? Силы и воля вышли разом. Спасать, строить, мечтать – все это может свободный человек. Но превратить человека в раба и слугу так легко – даже проще, чем лишить его жизни. Достаточно пригрозить. И уже нет человека.
– Все правильно – взрыв предотвратить можно лишь одним путем, – англичанин говорил совершенно спокойно, – корабль нам нужен. Существует ряд причин, по которым я хочу обладать «Принцем Савойским», вам эти причины не интересны.
Верно, мы забыли про Якова и Януса… Я отчего-то решил, что они остались в толпе на берегу. А они пробрались в трюм.
– Тебе придется совершить простой выбор, – сказал профессор Августу, – либо ты уйдешь с корабля – и мы готовы высадить тебя и всех прочих на берег в удобном месте – либо корабль будет взорван вместе с женщинами и детьми.
– Ты сам погибнешь, – сказал рыбак Штефан.
– Что ж, в игре имеются ставки. Таковы правила игры. Я их принимаю. Я выступаю за неравенство и за рынок. Имеются риски, но перспективы интересны.
– Ты шутишь, – сказал бледный Цветкович, – ты не можешь взорвать корабль.
– Отчего же. Отлично могу.
– Дети… – простонала моя жена.
– Согласен, трагедия. Уговорите капитана. Зачем вы ко мне обращаетесь?
– Бандиты… Яков с Янусом… они же евреи… чадолюбие должно быть.
– Вот пример того, как мало люди знают об окружающем их мире и о себе подобных. А туда же – общую семью народов желаете организовать. Яков и Янус – действительно семиты, но почему обязательно евреи? Организация освобождения Палестины. Средств не выбирают, хотя чадолюбие свойственно им тоже. Советую принять верное решение.
«Азарт» несся в темной воде, и все на палубе молчали.
Глава двадцать первая
Летучий голландец
– Я обдумал ваше предложение, – сказал Август, помолчав, – и готов передать корабль «Азарт» в полное ваше распоряжение. Приключение подошло к концу. Понимаю, что все утопии имеют конец.
– Лучше б не начинались, – заметил профессор истории.
– Надеюсь, для участников экспедиции вы предоставите шлюпки.
– Наконец слышу разумную речь, – сказал английский ученый. – Вы социалист, иезуит и фанатик, но все-таки не дурак. На случай эвакуации команды мы запаслись надувными шлюпками.
– Благодарю, – сказал капитан Август, – похоже, вы давно обдумывали взрыв.
– Рассматривал этот вариант, – подтвердил профессор. – Но как самый нежелательный.
– Мы воспользуемся шлюпками, когда уляжется волна. Я не рискну предлагать детям и женщинам шлюпку в штормовом море.
– В мои планы не входит благотворительность, – сказал англичанин вежливо, – но потерплю вас на своем борту еще пару часов. Как видите, цивилизация и рынок избегают неоправданной жестокости.
Как церемонно, как изысканно они говорили. И разговор происходил под аккомпанемент бури.
– Кстати, мы не меняем курс, – заметил оксфордский профессор, – направление на Английский канал вполне устраивает. За ночь погода, надеюсь, уляжется. В любом случае у Дувра я с вами прощусь.
– Благодарю, – сказал Август столь же церемонно. – Если море останется бурным, узость канала в районе Дувра облегчит высадку.
– Пока вы на борту, уладим формальности, – сказал оксфордский профессор. – Мне нужны бумаги, удостоверяющие передачу корабля в мою собственность.
– В отсутствие юриста затруднительно… – начал Август.
– Пусть это вас не тревожит. Янус имеет диплом юриста. Необходимые бумаги готовы. Ваша подпись – простая формальность.
– Буду рад помочь, – ответил на это Август. Они просто соревновались в любезности. Наступила та фаза отношений, когда угрозы уже не требуются, в ход идет дипломатия. – Вы со своей стороны, конечно же, понимаете, что подпись на дарственной я поставлю тогда, когда команда пересядет в шлюпки. В противном случае акт дарения не имеет смысла.
– Разумно, – согласился оксфордский профессор. – Отложим процедуру до утра. Впереди ночь, мы скоротаем ее за беседой. Одного я вас по понятным причинам не оставлю, а обсудить несколько вопросов мне как ученому хотелось бы. Чистая теория, сугубо социальные науки.
– Извольте, – сказал Август, – не пройти ли в кают-компанию?
– А, в ту самую каюту, где стояла злополучная машина – в бывшее машинное отделение? Отчего же. Оставим немецких рыбаков и испанского анархиста на парусных работах, они отлично справляются.
– Вы позволите дать указания команде?
– Помилуйте, вы – капитан, как я могу препятствовать? Надеюсь, указания касаются навигации, а не чего-либо еще.
– Исключительно навигации. Хорхе, – сказал Август боцману, – в течение ночи ветер не уляжется?
– Нет, – ответил Хорхе и указал на барометр. Оказалось, он со склада в трюме притащил барометр. – Будет сильная погода.
– В таком случае пройдем бельгийский берег к вечеру и ночью выйдем к Дувру. Держи на скалы и не пропусти вельбот.
– Есть, капитан, – сказал Хорхе. – Мы их нагоним до скал.
Оксфордский профессор слушал диалог с легкой улыбкой.
– Уточню на всякий случай: спасение беженцев не входит в мои планы.
– Я бы удивился, будь иначе, – заметил Август. – На борт никого взять не сможем, это очевидно. Да и не пришвартуешься к другому кораблю при такой волне. Встреча будет носить символический характер, уж поверьте. А сейчас прошу в кают-компанию. – Август жестом пропустил англичанина вперед, к трапу, но тот твердо сказал:
– Только после вас.
И Август прошел первым. Оксфордский профессор двинулся за ним, а следом и я – шел, повинуясь безотчетному желанию знать все до конца. Развязка близилась, а какая, угадать было невозможно. В церемонной вежливости капитана и профессора было нечто зловещее.
Но как все смотрели нам вслед! Как моряки глядели на капитана Августа! Цветкович, лысый актер, музыкант Йохан, немецкие рыбаки, а также Хорхе и Микеле – они все смотрели на Августа как на предателя. Прежде посмеивались над Августом, бранились с ним, поэт Цветкович – тот вообще вел себя беспардонно, но, видимо, все на что-то надеялись… А может быть, просто привыкли к нашей – нелепой, согласен – семье. И вот история кончилась. Вот так бесславно кончилась. Занавес.
Август не оглянулся, никому не кивнул, никакого знака команде не подал – он просто повернулся спиной и ушел. И все смотрели вслед – и кривили губы.
Мы в молчании спустились на одну палубу ниже и расположились в кают-компании. В каюте оказалась и социалистка Присцилла – я-то думал, что француженка трудится, откачивая воду, не тут-то было. Присцилла пребывала в задумчивости, в легком опьянении. Впрочем, опьянение не помешало француженке принять участие в беседе, которую я перескажу ниже. Саша, жена Августа, подала нам чаю. Август вовсе не обращал на нее внимания – странная деталь.
– Саша, милая, – сказал оксфордский ученый, – полагаю, мы должны поставить капитана Августа в известность…
– Не надо, – сказал Август. – Саша взрослый человек, поступает, как хочет. Когда мы вступили в брак, я сказал Саше, что хочу посвятить себя делу спасения Европы и это не сулит богатства.
А ведь он умалишенный, подумал я. Мне нравился Август, я сочувствовал его горю и краху надежд, но он вел себя как совершенный безумец – куда до него Дон Кихоту. Спасение Европы! Это же надо такое брякнуть!
– Вы на корабле «Азарт» собирались построить общество, которое спасет Европу?.. – осторожно спросил профессор.
Август кивнул.
– Итак, вы утопист, а я – ученый. Вы сторонник теорий общего характера, а я предпочитаю сухой факт, – сказал англичанин. – Сорбонна против Оксфорда, реалисты против номиналистов.
– Спор давний, – подтвердил капитан Август. – Уточним для наших слушателей, что под реалистами имеются в виду те, кто верит в реальность Бога, то есть единого замысла бытия.
– А вы верите в единый замысел?
– Безусловно, – сказал Август.
– Удивлен. Обобщению ваши взгляды не поддаются. Социализм и католицизм – страннейшее сочетание.
– Глупейшее сочетание, – встряла в разговор Присцилла. – Не утопия, а комедия.
– Вот вам и оценка, – заметил профессор. – Присцилла не удивится, узнав, что капитан передал корабль мне.
– Так вот чем все кончилось, – сказала Присцилла. – Зачем я только приехала?!
– Да, – сказал Август. – Плохо старались.
– Продал? – криво улыбнулась Присцилла. – Много взял? А ты, – и смерила меня взглядом, – тоже отхватил свою часть? Погрел ручки?
Капитан Август ничего на это обвинение не ответил.
– Проблема, встающая перед автором утопии, – сказал англичанин, – та же самая, какая встает перед повелителем империи. Требуется склеить целое из фрагментов. – При этих словах я невольно вспомнил велосипед Августа, собранный из пестрых деталей. Но та кривая и косая машина все же ехала! – Объединить разных людей общей целью. Заметьте, империя справляется с задачей, а утопия – нет.
– Разве так? – спросил Август. – Разве христианство, ислам и марксизм – не утопии?
– Религии никогда бы не объединили толпу, если бы не стали империями. В качестве утопий – религии бессильны. В качестве имперского проекта – перестали быть утопиями.
– Поэтому нужен корабль, – сказал капитан Август, – или такой остров, как Утопия. Чтобы не было соблазна империи. Чтобы ограничить пространство семьей.
– Однако не помогло. Вы не понимаете, что людям надо. Даже друзьям. Вот, русский актер. Он не нашел привлекательного в социализме, а империю желает вернуть. Почему? А он в большой империи станет значительнее… а на маленьком корабле он – никто. А вот Микеле на общественный договор плевать… Итальянец к воровству склонен: деточек кормить любой ценой. А вы ему – социализм… Вот очаровательная Присцилла, – легкий поклон в сторону Присциллы, – детей иметь не хочет, ответственности не имеет, но считает себя социалисткой. Почему? А потому что жаждет приключений… Вы приключения обеспечить не смогли. Голландец Йохан любит барабанить по консервным банкам… почему? Выражает нехитрый внутренний мир, где царит хаос – в его понимании это свобода. А вам такая свобода неинтересна. Рыбак Штефан любит, чтобы все по полкам: так немец видит гармонию. Но порядок обеспечит только империя. Художник, сидящий с нами за столом, хочет славы. А испанский анархист ищет, где спрятаться, лишь бы не трогали. Чем их объединить? Что предложите?
– Принцип милосердного общежития.
– Какой? Зачем? Кому нужно? Социализм и католицизм не уживаются вместе.
– Если не брать в расчет Томаса Мора и Кампанеллу, – сказал Август.
– Фантазии Мора не жизненны, – спокойно возразил англичанин. – Социокультурное развитие мира протестует.
– Зато для воровства условия созданы, – не удержался я. Самоуверенность румяного оксфордского борова сводила с ума. Понимаете, как это выглядело? Мы выдержали шторм, мы построили корабль из обломков и обрывков – а он взял и все отобрал. А теперь он сидел и наслаждался беседой.
– Условия для воровства? – Английский профессор посмотрел на меня удивленно. – Вы про мои негоции? Это не воровство – просто использование слабых сторон конкурента. Оправдано эволюцией. Соревнованием. Вы сами хотели попасть на рынок, не так ли?
Я растерялся. Оксфордский профессор снисходительно скривил бутон розовых губ.
– Смутился молодой человек. Принял ваш «Азарт» – то есть мой «Азарт» – за прогулочную яхту миллиардера… приехал… ошибся! Мечтает попасть в модные галереи, продавать картины задорого. Оплата мазни будет превышать зарплату рыбака в тысячи раз. Юноша желает торжествовать над тружениками. Объединить вора, карьериста, люмпена, рыбака и мытаря – чем?
Август слушал, не перебивая. Потом ответил:
– Простым трудом, распределенным между членами семьи, – надо, чтобы увидели, что так можно. Вы скажете, что один – плотник, другой поэт. Верно. Но пусть плотник работает на поэта, а поэт – на плотника. Когда трудимся на государство, мы не знаем, кому достается продукт труда. Возможно, нашим любимым не будет лучше от того, что мы работаем на государство, воюем за него, обслуживаем начальство. Возможно, нашим детям и женам от этого будет лишь хуже. Чаще всего наш труд внутри государства обслуживает принцип неравенства. Государство – это всегда заговор богатых против бедняков. Надо было показать, что простая коммуна может выжить и сохранить ответственность каждого перед каждым.
– Не напомните, – любезно сказал англичанин, – как долго просуществовали фаланстеры Фурье? Десять лет или двенадцать? Запамятовал… Может быть, три года? Присцилла, вы – французская социалистка, знакомы с вопросом; напомните нам про опыт Фурье.
– Двенадцать лет, – сказала Присцилла и стала скручивать папироску с марихуаной. – Причем только один из фаланстеров уцелел; прочие не прожили и года. Ни к чему опыт не привел, только усугубил бедность.
– Верно, – профессор снисходительно покивал; он говорил с нами как со студентами, – фаланстеры не производили того, что пригодилось бы всему обществу, а создавали ненужный обменный фонд. В чем слабое место в теории нашего капитана? В том, что поэту труд плотника пригодится, а вот плотнику – труд поэта ни к чему. – Англичанин развел руками. – Вы, Присцилла, зачем стали социалисткой? Вам от кого-то простой продукт нужен? Можно узнать, какой именно? – и англичанин хихикнул.
Тем временем наступила ночь – серый свет в окошке иллюминатора померк. Буря продолжалась, ее прерывистое хриплое дыхание доносилось в нашу каюту.
– Кстати, милая Присцилла, мы с вами встречались и прежде. Когда вы на палубе давеча читали Рембо, я вспомнил дивный вечер в особняке ваших родителей на рю де Гренель. Вы были ребенком и тоже читали Рембо, помните? Ваш папа здоров? Все еще торгует лесом? Он ведь в совете директоров «Креди Лионне»? Французские социалисты, как правило, связаны с банками, и это разумно. Так уж повелось во Франции – республика перетекает в империю, а империя в республику; помните Луи-Наполеона, императора-президента? Социализм сам собой вытекает из банковской маржи, n’est-ce pas?
Присцилла вспыхнула; вот уж не думал, что она чего-то может стесняться. Профессор Адриан, посмеиваясь, смотрел на нее.
– Вот видите, как просто доискаться до подлинной природы социализма. Чтобы влиться в утопические ряды, капитан, Присцилле потребовалось скрыть богатство, а мне – образование; Якову и Янусу – криминальное прошлое… А все это – история, ее не отменишь.
Присцилла закрыла лицо руками. И вообразить не мог, что она способна на такой жест отчаяния.
– Не стесняйтесь богатства, Присцилла, прошу вас, – тихо сказал Август. – Все мы имеем какое-то преимущество перед соседом, не будем стесняться этого преимущества. Важно понять его относительность. Деньги, здоровье и даже знания – это относительное преимущество, которое мало что значит: всегда найдется субъект более ученый, более богатый и более здоровый – а смерть равняет всех. Единственное, что остается, – милосердие. Первое, что должен сделать социалист и христианин, – отказаться от гордости. Не стесняйтесь же денег, потому что это стеснение – разновидность гордыни.
– И криминальные наклонности не препятствуют социализму? – поинтересовался англичанин. – В семью принимаете преступников? Взрывать вас будут люди с криминальным прошлым. Как их собираетесь перевоспитать? Если есть тюрьмы – то должен быть закон. А если есть закон, то кто будет прокурором? А когда выберут прокурора – то ведь потребуется и судья.
– Я разделяю мысль блаженного Августина, – сказал Август терпеливо. – Семья – прообраз государства, но отнюдь не всякого. Государство земное – это всегда насилие. И законы в таком злом государстве обслуживают интересы злых. Семья – прообраз града Божьего, то есть христианского государства.
– Стало быть, мы град Божий строили? – неожиданно громко рассмеялась Саша. – Вот чем мы, оказывается, занимались! А я, дура, голову сломала. Мы град Божий строили! Проклятая посудина, без мотора и с дырявыми парусами, которую ты нам купил вместо дома, это – град Божий? Пьяная свора бродяг, которую мне дали вместо семьи, это все – град Божий?
– Может таковым стать, – сказал Август, а Саша с профессором смеялись. Насмеявшись вволю, английский ученый поднял указательный палец и назидательно сказал:
– Как всякий пират, – тут он сделал примирительный жест, долженствующий показать относительность слов: мол, не пират, конечно, а просто мечтатель на корабле, но все же беззаконный, все же бунтарь… – вы игнорируете то, что государственная идея воплощается в самые разные формы, в зависимости от характера исторической общности людей. Ссылаетесь на абстракции Августина, а я вам предложу конкретику Аристотеля и Цицерона, напомню о естественной неизбежности организации. Вы не с абстракциями имеете дело, а с судьбами определенных людей.
– Человек – это не абстракция – сказал Камю! – Присцилла оживилась. Как большинство французских левых, она читала литературу выборочно и радовалась, когда в разговоре встречался знакомый предмет.
– Именно так, – сказал Август. – Не абстракция. И вот сейчас я боюсь за африканских беженцев.
– Воображаю картину, – сказал англичанин. – Вы подходите на своей дырявой посудине с боеприпасами к баркасу с африканцами. Вы берете голодранцев на борт, организуете общими усилиями коммуну и скитаетесь по волнам Мирового океана. Команда нищих африканцев с голландским капитаном. Вот утопия! Только это не град Божий, это по-другому называется.
– Как же?
– Летучий голландец.
– Я часто думал над этим названием, – сказал Август, – хорошее название. Предполагаю, что капитан того судна хотел построить нечто вроде коммуны в Европе и вечно скитаться по морям.
– Сколь заманчиво жить рыбной ловлей и молитвами; у команды одна жена на всех – маленький корабельный рай! – Тут профессор неожиданно подмигнул Саше, игривое выражение появилось на его пухлом лице. – Считаю своим долгом положить раю конец.
В этот самый момент в кают-компанию вплыл Боян Цветкович. Поэт уже совершенно успокоился и вернул себе воинственный вид. Поразительно, как легко этот человек восстанавливал силы и самоуважение. Еще недавно ползал по палубе, и усики его висели крысиными хвостиками. Сейчас он вплыл в кают-компанию победительно, живот вперед, усики топорщатся, как у мушкетера.
– Природа свирепствует, – бодро сообщил Цветкович. – Шуми, стихия! Бушуй, ураган! Люди втянулись в работу. Поэтическая атмосфера!
Поэт прошелся по кают-компании, подкрутил усики и заявил профессору Адриану:
– Наверху говорят о передаче корабля в ваши руки. Считаю решение разумным. И намерен участвовать.
– Как это? – Англичанин поднял брови.
– Креативная разработка контактов с прессой, публичные выступления, брифинги. Надо показать право преемственности, доказать людям, что ваша выручка имеет моральное основание. И что же поможет, кроме поэзии?
– Поэзии? – Даже у оксфордского профессора воображение было не столь развито.
– Поймите, реклама может быть направлена и в другую сторону. Могу ославить вас как человека, связавшегося с террористами.
Англичанин ошалел от наглости, сразу не нашелся что возразить. А тут еще и лысый актер появился.
– Наверху рук хватает, – сказал актер. – Немцы – упрямый народец, любят боши вкалывать, иначе им жить скучно. А у меня интерес другой. Вместе планы вынашивали, а сейчас меня побоку? Россия – одна шестая часть суши, между прочим. С нами считаться надо. Достоевский и Мусоргский. «Лебединое озеро»! Делиться надо, мистер.
Английский профессор аж рот открыл.
– С кем делиться?