Последний идол (сборник) Звягинцев Александр
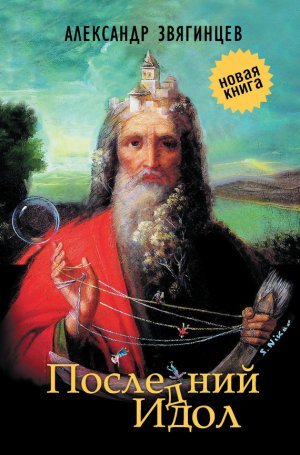
— Думаю, что ненадолго. В крайнем случае, до пятницы.
— А можно я вам позвоню? Мне бы так хотелось с вами про свои замыслы о романе поговорить. Может, посоветовали бы что… Мне толчок нужен, Алексей Георгиевич. Я от одного сюжета к другому бросаюсь и никак не могу остановиться. Если бы вы мне сказали — пиши вот про это, я бы вам сразу поверил.
— Виталий, давайте мы так поступим, — чуть устало сказал Ольгин. — Диктуйте мне свой телефон, я позвоню вам сам, когда выясню, как у меня тут дела складываются…
Карагодин поначалу, судя по насупившемуся лицу, решил обидеться, но потом справился с собой и продиктовал номер мобильного.
Скутер выскочил из тьмы улочки прямо в тыл обороняющейся от погромщиков полицейской группы. И водитель, и седок за его спиной были в шлемах с затемненным стеклом. Скутер резко затормозил и развернулся к полицейским боком. Полицейские его не заметили — все их внимание было приковано к беснующейся среди горящих автомобилей толпе, из которой летели камни и бутылки с зажигательной смесью…
Человек, сидевший за спиной водителя скутера, поднял двуствольное ружье, лежавшее у него на коленях, и дважды пальнул прямо в стражей порядка, которые, судя по всему, даже не расслышали звука выстрелов в невообразимом шуме, царившем на площади. Но один из них схватился за плечо, а потом ничком свалился на старинную булыжную мостовую.
Стрелок без всякой спешки перезарядил ружье и снова разрядил оба ствола в полицейских. После этого скутер круто развернулся и пропал в темноте, которая казалась непроглядной рядом с площадью, где адским пламенем вспыхивали все новые и новые машины… Темнокожие подростки, захлебываясь от ненависти и подстегиваемые ощущением безнаказанности, забрасывали полицейских камнями, громили железными прутьями все, что попадало под руку.
Ольгин смотрел на битву, которую демонстрировали на экране участникам антиэкстремистской встречи, как профессионал. Все его симпатии были, конечно, на стороне полицейских. Он слишком хорошо знал, каково это — стоять против обезумевшей от злобы толпы, которая ненавидит тебя до умопомрачения и, будь ее воля, разорвала бы тебя на кровавые куски… И еще он видел, что полицейские тут заложники политики — они связаны приказом быть максимально осторожными, чтобы их нельзя было обвинить в неоправданной жестокости или неоправданном применении силы. Они вообще выглядели пришельцами иных миров и времен в своих черных рыцарских доспехах и шлемах с прозрачными забралами. То ли космонавты из будущего, то ли крестоносцы из сумрачного Средневековья. Кому что нравится, подумал Ольгин. Либо так будет выглядеть надвигающееся будущее, либо все стремительно и неумолимо возвращается в прошлое. И попробуй отыскать между ними много различий…
Площадь на экране теперь была освещена ярко, как сцена. И уже на другой улице, выходящей на нее, появился еще один скутер с двумя седоками в масках. Маневр был все тот же — скутер выскочил за спинами полицейских и на секунду остановился. Правда теперь, эти партизаны были без дробовика, но зато в руках у сидящего сзади были две бутылки. Он тут же швырнул их в полицейских. На сей раз им повезло — бутылки не долетели и разбились об автобус, который тут же вспыхнул, как спичечный коробок. Если бы зажигательная смесь попала на полицейских, никакие доспехи не помогли бы…
Потом красивая дикторша строгим голосом доложила, что большинство участников беспорядков — подростки из неблагополучных районов, в основном дети иммигрантов из Африки и арабских стран. Но проблему нельзя назвать этнической и расовой. «Эти подростки выходят протестовать не против других национальностей, а против государства вообще! Они не признают его власть, разрушают все, что символизирует государство. Они нападают даже на пожарных!.. Но главный объект их ненависти — полиция. Власти недооценивают непонимание, существующее между национальными меньшинствами и полицией…» Затем министр юстиции, заявил, что «беспорядки носят организованный характер. В происходящем видна организованность, присутствует стратегия и гибкая тактика. Если бы я был в состоянии ответить на вопрос, кем они организуются, то эти люди уже сидели бы в тюрьме. Способы действия этих организованных банд неоспоримо указывают на наличие координации между ними…»
Во время обсуждения увиденного Ольгин несколько раз вспомнил Карагодина. Отчаявшийся спецназовец, униженный и оскорбленный, вполне мог оказаться среди организаторов таких банд. Несколько раз он набирал номер Карагодина, но телефон не отвечал.
Окраина Парижа в этот послеобеденный час была пустынна. Карагодин и Тарас остановились у обычной многоэтажки, достали из багажника машины тяжелый баул и вошли в обшарпанный, разгромленный подъезд. Поднялись в ободранном лифте на пятый этаж. У Тараса был с собой ключ от нужной квартиры.
Они вошли в запущенное помещение, больше всего похожее на притон, и Тарас тут же ринулся в туалет. Пока оттуда доносились какие-то мерзкие звуки, словно его там застукала парочка геев, Карагодин обследовал баул. Как он и ожидал, в нем было несколько помповых ружей, пара пистолетов и патроны.
Выбравшись из туалета, Тарас бросился к телефону договариваться о встрече с теми, кому предназначались «подарки». Через полчаса появилось потное, липкое, жирное чудовище, именуемое, как сообщил Тарас, Вепрем и явно гордящееся своей кликухой. Громила был явно обдолбанный, под кайфом. Огромный, толстый, с глазами, подернутыми наркотической поволокой и мокрой нижней губой, отвисшей до самого подбородка. Слава богу, он притащился один.
Вепрь рухнул в кресло, достал из баула, который ему услужливо пододвинул Тарас, ружье и удовлетворенно хмыкнул.
— Сегодня мы им покажем, — зловеще сказал он. — Сегодня эти французские придурки у нас узнают, что к чему. Зажравшиеся кретины!
— Кто? — не выдержал Карагодин.
Вепрь лениво посмотрел на него полуприкрытыми глазами.
— Полицейские. А кто же еще! И этот их вонючий президент. Он назвал нас мерзостью, швалью. Теперь он ответит за свои слова. Он будет ползать перед нами на коленях, а я буду ссать ему в лицо!
Морда Вепря расплылась в гнусной ухмылке.
— И эта шлюха, его жена, она тоже свое получит.
Он схватил своей волосатой пятерней собственные вонючие причиндалы между ног и, несколько раз мерзко дернувшись, показал, как именно получит жена президента.
Тарас, явно обделавшийся от страха перед этим обдолбанным злобным животным, попытался понимающе улыбнуться.
А Вепрь схватил ружье, прицелился в окно и сладостно сказал:
— Бах, и нет полицейского!
А потом пропел: «Настоящий парень должен убить полицейского! Убей его — и тогда ты крутой!» Эту песню в исполнении очень популярной группы Карагодин слышал уже не раз, ее даже как-то крутили по радио.
Вепрь вдруг уставился на Карагодина.
— А ты не француз? Хотя смахиваешь на французскую собаку.
— Нет, мы не французы, — подобострастно проблеял Тарас.
— Но — враги, — тупо сообщил Вепрь. И наставил на Тараса ружье.
Этот придурок вполне мог пальнуть, понял Карагодин. Ему все по барабану.
Пока Вепрь, высунув слюнявый язык, откровенно наслаждался ужасом Тараса, Карагодин шагнул в сторону и оказался сбоку от него. В следующую секунду он одним прыжком очутился рядом и рубящим ударом ладони врезал ему по шее. И тут же толкнул кресло ногой.
Враз обмякший Вепрь, моментально обратившийся в аморфный мешок, свалился на пол. Ружье отлетело в сторону.
— Ты чего? — оторопело прохрипел Тарас. — Зачем?
— А ты думал, я ему дам стрелять в людей? В полицейских… Я сам полицейский, понял? И таких скотов я всегда делал и буду делать.
— Чего теперь будет? — бормотал Тарас. — Нас убьют. Ты понимаешь это? Все — кранты нам.
Он подошел к неподвижной туше Вепря и склонился над ним, пытаясь понять, в каком тот состоянии. И тут чудовище вдруг ожило. Издав какое-то утробное мычание, Вепрь схватил Тараса обеими руками за горло, повалил и подмял под себя. Тарас завизжал, беспомощно дергаясь. И тогда Вепрь, все так же мыча, вдруг вцепился ему в горло зубами и стал рвать его на куски. Он рычал как дикий зверь. Сразу стало ясно, откуда у него такая кличка.
Карагодин, хорошо знавший, что в таких ситуациях все человеческое в тебе должно отключиться, схватил валявшийся на полу помповик и принялся изо всех сил молотить им по мерзкой башке страшного животного, грызущего насмерть человека.
Он перестал только тогда, когда Вепрь замолк и перестал дергаться.
Карагодин ногой отпихнул его тяжеленное тело в сторону. На Тараса было лучше не смотреть. Надо было родиться и жить, чтобы тебя в Париже загрыз бешеный обкуренный кретин.
«Пора сматываться, — одернул себя Карагодин. — Пока не появились дружки этого обдолбанного. А они наверняка где-то рядом. Эти суки по одиночке не ходят, они всегда стаями».
Поначалу он решил баул не трогать, а потом подумал, что если оставить оружие здесь, его найдут другие бандиты и начнут убивать — полицейских и просто всех, кто окажется на пути. Он содрал с окна пыльную штору и тщательно стерев отпечатки пальцев с помповика, которым долбил по башке Вепря, сунул его в баул. Выглянул в окно. Машина Тараса стояла на месте.
Чуть приоткрыв дверь, Карагодин прислушался — из коридора не доносилось ни звука. С баулом он вышел в коридор и опять прислушался. Посмотрел на распахнутую дверь, аккуратно прикрыл ее и запер торчавшим в замке ключом. Чем позже найдут трупы, тем лучше. Ключ он выкинул в стоявший в коридоре ящик с каким-то мусором. Пусть копаются, если сильно надо.
К лифту он не пошел, решил спуститься по узкой лестнице, заваленной мусором и дерьмом.
Добравшись до первого этажа, он увидел их. Двое молодых парней в спущенных на задницах широких штанах и надвинутых на глаза капюшонах толклись у входной двери. Видимо, поджидали Веп ря. Карагодин опустил баул на пол и размял затекшие пальцы. Вот такие молодые злобные хорьки опаснее всех — у них ни жалости, ни мозгов нет. Договориться с ними о чем-то невозможно. Зверье, которое забьет, загрызет без всякой жалости, если ты им поддашься. У них наверняка ножи или еще чего похуже.
До парней было несколько шагов. И надо было как-то подобраться к ним поближе… Карагодин взял баул двумя руками, как официант поднос, засвистел ту самую песню «Настоящий парень должен убить полицейского!» и пошел прямо на них. За баулом, который он поднял до самых глаз, они не могли видеть его лица. А свистел он, чтобы показать — я, мол, тут вещи переношу, ничего опасного во мне нет.
Ничего не понимая, приятели Вепря смотрели на надвигавшийся на них громадный красно-белый баул с залихватской надписью «Bon voyage», из-за которого доносился веселый свист.
Когда до них оставался один шаг, Карагодин что есть сил швырнул тяжеленный баул прямо в их тупые рожи. Один от удара свалился на пол, другой отлетел к стене. Первому Карагодин въехал ногой прямо под подбородок, а второму резко хлопнул ладонями по ушам. Первый лег сразу, а второй заныл и схватившись за уши стал трясти головой. Вполне возможно, что у него лопнули барабанные перепонки.
Подхватив баул, Карагодин выскочил на улицу. Она была пустынна. Можно было ехать.
По дороге в центр города он притормозил у первого попавшегося пруда и зашвырнул баул как можно дальше от берега. Глядя, как он исчезает под водой, пуская пузыри, подумал, что опять пришла ему пора начинать новую жизнь. Он глубоко вздохнул, и в это мгновение за его спиной раздался шум мотора. Карагодин обернулся. В нескольких шагах от него стоял скутер. Оба седока были в черных шлемах. Человек, сидевший за спиной водителя, поднял помповое ружье, лежавшее у него на коленях, и дважды выстрелил. «Ну вот, боец Карагодин, ты и отстрелялся!» — только и успел подумать он и рухнул как подкошенный.
Через два месяца при рассмотрении очередной входящей корреспонденции Ольгин обратил внимание на международное следственное поручение поступившее от французских коллег. В нем сообщалось, что в одном из парижских районов обнаружено тело застреленного двумя выстрелами мужчины, в кармане у него нашли просроченное удостоверение на имя капитана спецназа ГУИН Министерства внутренних дел Российской Федерации Виталия Петровича Карагодина… По данному факту прокуратурой возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело. Французы просили оказать содействие в установлении личности погибшего. Выяснить принадлежит ли удостоверение убитому, либо оно попало к нему каким-то образом и проживает ли настоящий капитан Карагодин в России?.. Копия документа прилагалась.
Ольгин открыл удостоверение и долго смотрел на молодое, еще безбородое лицо Карагодина. В те времена, когда делался снимок, разве мог он представить, что готовит ему судьба? «Вот и еще один русский воин, — подумал Ольгин, — сгинул в чужих краях, не найдя счастья на родной земле…»
2008
Другие ценности
Повесть, основанная на реальных событиях и судьбах
Дар приносящий
— Алексей Георгиевич, звонили с проходной — там какой-то Коваленко просится к вам на прием. Говорит, что вы его знаете… Помощник Генерального прокурора Ольгин, моложавый мужчина лет сорока в модных слегка затемненных очках в большой оправе, оторвался от кипы бумаг и недовольно посмотрел на заглянувшую в дверь секретаршу:
— Коваленко? А это еще кто?
Секретарша пожала плечами.
— Не знаю. Сказать, что вы заняты?
— Как видите не гуляю… Но спросите, по какому вопросу, — рассеянно сказал Ольгин и снова уткнулся в бумаги.
Он уже второй день дорабатывал материалы для Генерального, которому предстояло выступать на пленуме ЦК партии с информацией о перестройке в работе органов прокуратуры в условиях все расширяющейся гласности. Генеральный нервничал, пытался вложить в строго регламентируемое по времени сообщение массу информации, а это не очень-то удавалось. Его можно было понять — этот самый процесс расширения и углубления, который, как выражался сам недавно избранный президентом Горбачев, «пошел» и набрал такую силу, что в прессе, на телевидении и митингах, везде, где только можно было, стали открыто костить правоохранительные органы. Серьезно доставалось и прокуратуре. А тем временем уже тянулись через границу караваны с гуманитарной помощью из-за рубежа, к которой в обнищавшей до потери гордости стране не знали, как относиться. Иногда под видом подарков присылали и просроченные лекарства, продукты. Однажды даже обнаружилось, что на адрес сумасшедшего дома в одном из городов России из Германии прислали теплую одежду — зимнюю форму армии уже бывшей ГДР. Именно на адрес сумасшедшего дома. Чтобы душевнобольные люди вырядились как на потеху. Издевательство, конечно, открытое, но ведь сами себя до такого состояния довели.
Секретарша молча кивнула, потом вдруг добавила:
— Он коллекционер…
— Кто?
— Этот Коваленко из Ленинграда.
Ольгин потер лоб, что-то вспомнив.
— Ну так бы сразу и сказали… Пусть пропустят.
Секретарша несколько удивленно посмотрела на него, а потом молча закрыла дверь.
Ольгин отодвинул кипу документов, присланных со всех концов страны, из которых можно было сделать лишь один вывод: власть теряет авторитет, произвол набирает обороты. А ведь еще год назад, когда он только столкнулся с делом этого самого ленинградского коллекционера, подобные мысли его еще не посещали, потому что преступность снижалась и оставались надежды, что все еще выправится, люди поймут, что можно, а чего нельзя, и страна пойдет на подъем.
О судьбе Коваленко ему тогда поведал напросившийся на прием главный редактор юридического журнала «Человек и закон». Он рассказал, что некий потомственный коллекционер, человек порядочный, ни в чем дурном ранее не замешанный, вдруг очутился в центре странных, даже загадочных событий. В результате оказался в тюрьме. Провел там больше года, находясь под следствием. Перенес два инфаркта. Коллекции его экспонировались на многих международных выставках. Кстати, во время одной из них гражданин США Митчел изъявил желание купить одну лишь коллекцию из янтаря за полтора миллиона долларов. Коваленко тогда от этого предложения отказался, сказав, что не считает возможным торговать национальным достоянием…
Прошли два суда. Первый вернул дело на доследование. Второй назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 2 года с удержанием 20 процентов заработка в доход государства. Такой приговор — наказание мягче даже минимального по статье о спекуляции в крупных размерах, к тому же не связанное с лишением свободы, то есть ниже низшего предела, — сразу наводило на мысль, что и прокурор, и судьи сами в глубине души не верили в виновность коллекционера…
А потом главред еще и намекнул, что дело это, похоже, связано с мафией, которая имеет своих людей в правоохранительных органах, они вели себя в деле Коваленко весьма сомнительным образом. Да и вообще темные истории, связанные с собирателями ценных коллекций в «колыбели революции», как тогда любили называть Ленинград, происходят регулярно.
Нельзя сказать, что Ольгин не был поражен рассказом журналиста, он и сам мог рассказать ему немало историй из жизни коллекционеров, этих весьма специфических представителей советского общества. Например, о внезапной кончине коллекционера Душевина, о попытке его жены скрыться в больнице от преследований со стороны каких-то темных личностей и ее загадочной смерти там спустя неделю после ухода мужа, о таинственном исчезновении завещаний коллекционера, о взломе квартиры работниками милиции совместно с сотрудниками одного музея и составленных ими описях, в десятки раз занижающих реальное количество предметов миниатюрной живописи, картин, медалей… Коллекция, в общем, была попросту разграблена в присутствии каких-то странных понятых.
А нашумевшая смерть отставного полковника, известного одесского коллекционера — почти столетнего человека? Под видом санитаров «Скорой помощи» к нему в квартиру проникли какие-то мерзавцы, вынесли все картины, а полковника-фронтовика оставили на полу с кляпом во рту… Сердце старика, собиравшего картины всю жизнь, естественно, не выдержало.
В последние годы началась самая настоящая охота на коллекционеров. Многие из пострадавших были просто одержимы своими собраниями. Не имея особого достатка, они порой, собирая их, экономили на всем, даже на еде и одежде. Отчасти это происходило потому, что уже стали видны плоды принятого пару лет назад закона о кооперации. Среди «кооператоров» быстро появились богатые люди, искавшие, куда выгодно вложить свалившиеся на них деньги. Произведения искусства, стремительно дорожавшие, подходили для этого лучше всего. Однако в музеи соваться было еще опасно — всетаки там ценности, принадлежащие государству, а вот коллекционеры, многие из которых хранили свои картины либо в «хрущобах» с их картонными дверями, либо и вовсе в коммуналках, оказались весьма удобным объектом охоты. Их не любили граждане — откуда у нашего человека ценностей на миллионы? Их не жаловали журналисты, для которых образ подпольного миллионера оставался еще желанным объектом разоблачений. Их терпеть не могли милиционеры, судьи и прокуроры, которые тоже подсознательно были уверены, что богатства эти не от трудов праведных…
Так что сама по себе история злоключений коллекционера не могла поразить Ольгина, насторожило его другое — то, что активными участниками дела были правоохранительные органы. Устойчивая преступная группа, работающая по коллекционерам, в рядах служителей закона — это уже серьезно. Именно с этим Ольгин и пришел к Генеральному, который, выслушав его, распорядился провести проверку дела Коваленко.
Спустя какое-то время специально командированная в Ленинград по указанию Генерального прокурора СССР группа прокуроров из Москвы, покопавшись в деле, пришла к выводу, что состоявшиеся по делу все судебные решения являются незаконными. В президиум Ленгорсуда был направлен протест, в котором поставлен вопрос о прекращении данного уголовного дела по реабилитирующим обстоятельствам. Однако Президиум Ленгорсуда сознаваться в ошибке не захотел и протест отклонил. В качестве одного из оснований он, в частности, указал, что отдельные нарушения при расследовании «не влияют на юридическую квалификацию содеянного осужденным».
Узнав об этом, Ольгин снова отправился к Генеральному. Тот приказал внести протест на судебные решения по делу Коваленко прокуратуре РСФСР. И через какое-то время Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР признала Коваленко невиновным.
В общем история тянулась долго, а ситуация в стране и государстве все это время стремительно менялась, на прокуратуру наваливались все новые и новые проблемы, к тому же началась война законов между Союзом и республиками… Словом, Ольгину было не до мытарств Коваленко. Тем более он мог считать, что сделал все, что было в его силах — коллекционера признали невиновным, коллекцию должны были ему вернуть. Мало того, была создана следственная группа во главе со следователем по особо важным делам Владимировым, которая занялась расследованием нарушений законности, допущенных в деле Коваленко и фактами противоправных действий работников органов внутренних дел…
Что и говорить, на «подпольного миллионера» Коваленко был совсем не похож — так называемая «водолазка» серенького цвета, немодный кримпленовый пиджачок. Худой, интеллигентного вида, с седыми пышными волосами, зачесанными назад, заметными уже залысинами, больше всего он походил на рядового сотрудника какого-нибудь НИИ. Но держался он спокойно и с достоинством, о мытарствах в заключении рассказывал без особой охоты и надрыва. Торопливо поведал, как и когда увлекся коллекционированием.
Как говорится, это было ему на роду написано — родился в семье коллекционеров, где собирательством занимался еще при царе дед, горный инженер, некогда управлявший серебряными рудниками под Тифлисом. Коллекции деда в течение всей своей жизни пополнял по возможности и отец, инженер-гидротехник. Мать коллекционированием не увлекалась, даже поругивала отца, когда тот тратил на собирательство слишком много денег, но в годы войны, когда муж был на фронте, она в блокадном Ленинграде распродала все, что только можно, а вот коллекции сохранила в неприкосновенности…
Но гораздо больше занимали Коваленко обстоятельства его ареста. К ним он возвращался постоянно.
— Насколько я вас понял, Олег Александрович, вы считаете, что вас сознательно заманили в ловушку? — решил уточнить Ольгин.
— Да, теперь это мое твердое убеждение. Знаете, сколько раз я в заключении проигрывал в уме все, что случилось в тот злополучный день? Беспрерывно! И днем, и ночью.
— Хорошо, давайте проследим события шаг за шагом. Итак…
— Ну, смотрите, — сразу оживился Коваленко. — Я собираю китайские нефритовые фигурки XVII–XVIII веков. Два года назад в марте зашел в комиссионный магазин «Фарфор-хрусталь», где меня хорошо знают, потому что бываю там часто, и познакомился с коллекционером из Клайпеды по фамилии Томулис. Естественно, заговорили, кто что ищет. Оказалось, Томулис хочет поменять свои скульптуры из нефрита на юбилейные рубли царской чеканки или на эмаль. Статуэтки из нефрита, фотографии которых он мне показал, были редкостные по красоте!.. Я буквально загорелся. И предложил Томулису поехать ко мне домой, чтобы он выбрал себе в обмен что-то из моей коллекции китайских перегородчатых эмалей. Поехали ко мне, он внимательно посмотрел мою коллекцию, но меняться не стал. Потому что ему нужны были не китайские, а русские эмали, причем старинные и в хорошем состоянии. Но я русские эмали не собирал. Тогда я сказал Томулису, что найду нужную ему ростовскую финифть…
— А финифть и эмаль это…
— Финифть — старинное название эмали. От греческого слова финифтис, что означает блестящий, — торопливо пояснил Коваленко.
— А где вы ее собирались приобретать?
— Ну, общаясь много лет среди коллекционеров, я знал, что внушительная коллекция финифти есть у Ядринцева, и что он не прочь кое-что из нее продать. Договорился с ним, поехал и купил 10 икон на эмали за 1140 рублей. А недели две спустя — еще 12 икон за 1400 рублей… Потом позвонил Томулису, привез ему эмали, а он вдруг заявил, что обстоятельства изменились, меняться ему совершенно не с руки, но он готов уступить дюжину фигурок из нефрита за 3 тысячи рублей… То есть нужны живые деньги. Я опять бросился к Ядринцеву и предложил вернуть ему его эмали за ту же цену, даже дешевле, но он наотрез отказался.
— Вас это не насторожило?
— Ах, Алексей Георгиевич, вы не знаете, что такое азарт коллекционера! Когда ты уже видишь эту вещь на своей полке! Когда она снится тебе по ночам! Конечно, я знал, что Ядринцев человек со специфической репутацией…
— В смысле?
— Ну, в свое время он был осужден, — замялся Коваленко. — Но это было давно… Я тогда об этом и не вспомнил — не до того было.
— Итак, вы истратили весьма приличные для простого человека деньги и оказались с ненужной вам финифтью на руках… Я правильно понял?
— Да, совершенно верно. Но мне нужно было срочно найти еще деньги, чтобы выкупить нефрит!.. Томулис согласился подождать несколько дней. Я бросился на поиски, обзванивал знакомых, потом мне стали звонить люди, которые узнали, что я продаю финифть. Так я вышел на Петровского, который сначала сказал, что ему нужна крупная партия, что тех эмалей которые у меня есть, ему недостаточно. А потом вдруг позвонил сам и, не торгуясь и даже не взглянув на эмали, согласился купить мою финифть за 2500 рублей…
— И это вас тоже не насторожило?
— Я же говорю — я весь пылал. Азарт! Я боялся, что Томулис найдет другого покупателя и нефрит уплывет от меня. В общем, Петровский приехал вечером, и я продал ему финифть. А на следующий день меня вызвали в УБХСС и прямо там задержали, предъявив обвинение в спекуляции в особо крупных размерах… И той же ночью в моей квартире провели обыск и изъяли всю коллекцию…
— А на чем были основаны обвинения?
— На заявлениях каких-то анонимных граждан, что я занимаюсь спекуляцией. А потом Петровский опознал во мне человека, который продал ему финифть в количестве 22 штук за 2510 рублей, а вслед за ним Ядринцев удостоверил, что недавно продал мне те же 22 иконы на эмали за 1140 рублей, хотя я купил у него за эти деньги только 10 икон…
— Таким образом, круг замкнулся, — подвел итог Ольгин. — Спекуляция налицо.
— Да, по показателям этих «свидетелей» я заработал только на данной операции больше тысячи рублей… К тому же следователь объявил, что никакого Томулиса не было вообще.
— Вот как.
— Да. Оказывается, я его придумал. А из этого следует, что я изначально приобретал финифть не для обмена, а для спекуляции… Но он-то, этот самый Томулис, был!.. Приезжал ко мне домой, его соседи видели. Я у него и паспорт смотрел.
— Похоже на провокацию, — согласился Ольгин. — Видимо, он приезжал к вам, чтобы оценить коллекцию. Вы кого-нибудь подозреваете?
— Конкретно — нет. Но… Я ведь работал старшим экспертом Ленинградской лаборатории судебной экспертизы, специализировался в геммологии — то есть изучал драгоценные камни. От моих заключений зависело, признают ту или иную вещь подделкой или оригиналом. А разница в цене между ними, сами понимаете, на порядки… Так что я мешал людям, которые занимались подделками ценных вещей. А это серьезные люди. За ними самые настоящие организации с большими возможностями.
— Не преувеличиваете?
— Несколько лет назад ко мне в комиссионном магазине подошел человек. Сказал, что знает, кто я такой, и спросил, не хочу ли я зарабатывать хорошие деньги. Я поинтересовался, а что надо делать — давать ложные экспертные заключения? Оказалось — нет. Все гораздо невиннее, так сказать. Мне будут показывать готовые вещи, а я должен буду определять, где болевые точки вещей — те самые, по которым эксперты могут определить подделку… Эти болевые точки потом убираются, а вещь выдается за оригинал. Я отказался. Он сказал: вы еще пожалеете.
Коваленко помолчал, словно снова переживая испытанные тогда чувства.
— Потом было еще одно подобное предложение. Причем мне сказали, что мое участие в деле ничем не грозит, я буду под защитой серьезных людей, адвокатов, более того — меня будут охранять. Представляете? Предлагали десять тысяч в месяц каждое первое число, а моя зарплата тогда была двести сорок рублей… Хорошая разница, правда? А когда я отказался, опять последовали угрозы — смотри, еще пожалеешь.
Ольгин смотрел на человека, по которому безжалостно проехались судьба и правоохранительная машина, между шестеренками которой лучше не оказываться. За время работы в прокуратуре он видел множество людей с переломанными судьбами, искалеченными жизнями, многим по-человечески сочувствовал, но точно знал, что слишком часто очень трудно отделить беду от вины, что спешить с выводами просто нельзя, потому как закон и справедливость зачастую разные вещи. Ведь закон для всех один, а понятия о справедливости у каждого свои…
— Олег Александрович, — успокаивающе сказал он, — сейчас вашим делом занимается опытный следователь по особо важным делам. С ним работает целая группа. Они во всем разберутся. И в частности установят роль сотрудников ОБХСС в этом деле. То ли они добросовестно заблуждались, то ли просто хотели состряпать дело для улучшения отчетности, то ли имели другой злой умысел…
— Да, надеюсь, — как-то рассеянно кивнул Коваленко.
Ольгин видел, что он хочет сказать что-то еще, но то ли не решается, то ли не знает, как начать.
— Вам уже сказали, когда вернут коллекцию?
— Да, обещали, но все тянут. Впрочем, я понимаю, почему…
— И почему же?
— Боюсь, что от коллекции остались рожки да ножки. К тому же во время изъятия пропала моя картотека, где была полная опись коллекции.
В этот момент позвонил телефон приемной Генерального. Секретарь сообщила Ольгину, что через полчаса его ждут с вариантом доклада.
— Ну, вот, Олег Александрович, извините, но меня ждут дела.
— Ну что вы, это вам спасибо за все, что вы для меня сделали. Если бы не вы…
— А с коллекцией, уверен, следствие разберется.
— Вот только…
— Что «только»? — уже поторапливая, спросил Ольгин.
Коваленко выдохнул и решительно произнес:
— Алексей Георгиевич, я хотел бы, когда мне вернут коллекцию, подарить часть ее вам. Я имею в виду всю коллекцию янтаря…
Ольгин недоуменно посмотрел на него:
— Не понял…
— Я хочу, когда мне вернут коллекцию, подарить ее вам, — повторил Коваленко. — Я еще в тюрьме решил: если меня в конце концов оправдают, то все ценное, что останется, я немедленно передам государству. Не хочу, чтобы мои дети подвергались опасности, пережили то, что пережил я.
— Ну, тогда подарите государству! Я-то тут при чем? Есть музеи, обратитесь туда.
— В музеи я уже обращался. Два раза предлагал безвозмездно передать коллекцию, но с гарантией, что она будет выставлена. Отказали. Потом я решил продать другому музею за небольшие деньги. Мне сказали, что будут принимать янтарь без описи, указав только общий вес и количество штук… Их эксперты оценили мои янтарные скульптуры в среднем по 3 рубля за штуку, всего набежало — 670 рублей… Это те самые работы, за которые американцы десять лет назад предлагали полтора миллиона долларов! Вы же понимаете, зачем это делается. Если скульптуры вдруг исчезнут кто-то с готовностью внесет 670 рублей в погашение ущерба, якобы по небрежности нанесенного государству! Вот и все. А если будут исчезать штуками, то возместят по три рубля за штуку.
Коваленко скривил губы.
— Мы с отцом собирали эти вещи сорок лет. Начали еще тогда, когда янтарь стоил гроши, его перерабатывали в янтарную кислоту, а в основном он шел на изготовление янтарного лака. Кстати, им покрывали железнодорожные вагоны. Художники, работавшие тогда с янтарем, бедствовали, получали гроши, были рады, что хоть кто-то покупает их работы, пусть и за гроши… Это сейчас их работы есть в Лувре!
— Олег Александрович, я понимаю, как заключение действует на людей, но все-таки не стоит подозревать теперь всех и каждого. Так вам будет тяжело жить.
— Я понимаю, вам кажется, что я озлобился. Нет, дело в другом. Понимаете, я провел под стражей больше года… Я, конечно, следил за тем, что происходит на воле. В камере постоянно спорили о том, куда мы идем. Но вернулся я в другой мир. Я это почувствовал сразу. Это будет мир, где все решают деньги. И я сразу понял, что в этом мире мне со своей коллекцией делать нечего. Либо продавать, либо «уходить в подполье», распустив слух, что у тебя теперь ничего нет… Либо заводить охрану из бандитов или милиционеров, платить им. Ни один выход меня не устраивает. Поэтому я и предлагаю коллекцию вам.
— Но это невозможно. Я думаю, вы сами это понимаете.
— И что же мне делать. Просто раздать все бандитам и настоящим спекулянтам?
— Давайте поступим так. Мы подумаем, как передать вашу коллекцию государству таким образом, дабы ее сохранность была гарантирована, — решительно отсекая все возражения, сказал Ольгин и протянул Коваленко руку.
Коваленко, вздохнул:
— Извините, если что не так.
Когда Коваленко ушел, Ольгин снова погрузился в материалы к докладу. Вспомнив вдруг через пару минут о диком предложении, усмехнулся, живо представив себе, как отреагировало бы прокурорское сообщество на известие, что помощник Генерального получил от проходившего по уголовному делу коллекционера в подарок его коллекцию стоимостью в полтора миллиона долларов. Даже для наступивших новых времен с их потрясением основ и воцарением новых правил жизни это было чересчур.
Пациент
Он вышел из проходной прокуратуры, поднял воротник своего старенького, продуваемого насквозь уже студеным октябрьским ветром пальто и побрел вверх по Пушкинской к кинотеатру «Россия».
Дойдя до кинотеатра, свернул налево. Весь тротуар у стендов с газетой «Московские новости» был заполнен ожесточенно о чем-то спорящими людьми. Было ясно, что многие стоят тут давно, часами, слушают, кричат, что-то доказывают, объясняют и не имеют сил уйти, хотя ничего нового и действительно важного не услышат.
Подобные же бесконечные и безнадежные споры он часами слушал, когда сидел в переполненных камерах следственного изолятора. Там, в «Крестах» тоже все клубилось, цеплялось одно к другому, мгновенно забывалось, чтобы вспениваться вновь с прежним ожесточением и результатом.
Коллекционирование способствовало увлечению историей. И все происходящее в стране теперь прямо напоминало ему то, что творилось в России накануне февральского переворота, закончившегося отречением царя. Тогда тоже все непрерывно и бесконечно говорили и говорили, митинги буйствовали на каждом углу, и у людей не было сил не слушать. Потому что всеми овладевал описанный французскими историками революционный невроз. Впрочем, его еще Достоевский описал в знаменитом сне Раскольникова…
«Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров… все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем одном заключается истина… Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали…»
Он шел среди что-то доказывающих друг другу людей и все вспоминал и вспоминал великого пророка. «…Люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, но тотчас же начинали что-то совершенно другое, чем сейчас же сами предлагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались…».
Пробившись сквозь толпу по длинному и узкому подземному переходу, Коваленко добрался до памятника Пушкину, заметил освободившуюся скамейку, сел спиной к возбужденной толпе. Подумал, что у Достоевского весь этот мор кончается куда как печально. Начался голод, все и все погибало. И спастись во всем мире должны были только несколько человек… Чистые и нравственные, они должны были начать новый род людской и новую жизнь. Вот только никто и нигде этих людей не видел, никто не слышал их слова и голоса…
Философские прозрения гения перевел на современный практический язык авторитетный сокамерник Юрий Арнольдович Блом. Это был аккуратный мужчина лет уже за пятьдесят, о котором говорили, что за ним большие люди стоят как на воле, так и в тюрьме. Так что в камере Блома никто не трогал, он считался чуть ли не на особом положении. Проходил он, как и Олег Александрович, по делу о спекуляции. Только занимался более прозаическими вещами — уже много лет скупал и перепродавал меха. Среди его клиенток было немало жен высокопоставленных чиновников, поэтому он мог судить о том, что творится наверху.
— Скоро уже все переиграют, дорогой мой, — негромко, но совершенно уверенно говорил Блом, сразу выделивший Олега Александровича из остальных обитателей камеры. — Нам надо только перетерпеть и дожить до новых времен, когда наши с вами грехи, именуемые сейчас спекуляцией, объявят почтенным занятием и этим будет заниматься полстраны.
— Вы что считаете, что они откажутся от социализма?
— А куда они денутся? Все идет к возврату к частной собственности, кооперативы только начало. Когда они начнут зарабатывать большие деньги, за ними побегут остальные. Зарабатывать захотят все. Государственные предприятия обрастут кооперативами, через которые будут сбывать все, что попадет под руку. А там частные предприятия, заводы, магазины…
— Неужели вы думаете…
— Да нечего думать, — усмехался Блом, — готовиться надо. Потому что впереди веселые времена. Вы себе представляете, что такое делить эту махину — государство российское? Тут такое начнется!.. Увидите, это будет новая гражданская война. Может быть, обойдется без фронтов и боевых действий, но воевать будут все. Все против всех.
— А кто не захочет воевать? Есть же такие люди…
— Есть. И их громадное большинство. Вот как раз их первыми обдерут как липку. Без всякой жалости. А они даже сопротивляться не будут, потому как не приучены и более законопослушны. Будут терпеть, просить о помощи, но кто на них обратит внимание, когда пойдет такая свалка! Погодите, еще чуть — и вы не узнаете эту страну. Потому что все будут решать деньги. Когда социализм отомрет, окажется, что у нас ничего нет — ни традиций, ни религии, ни нравов… Ничего! И останутся только деньги. И верить будут только в них. Причем как верить!
— Не может быть! Наши люди воспитаны совсем иначе, уже несколько поколений, — упрямился Олег Александрович. Верить в речи Блома ему не хотелось, но он чувствовал в них жуткую правду. — И потом исторически…
— Да бросьте вы, — отмахивался Блом. — Вот именно исторически! Вспомните, как Россия отмахнулась от царя, веры, отечества, и поперлась с восторгом за химерой какого-то там коммунизма и интернационала! А знаете почему? Потому что там мерещилась воля от всего — от государства, от долга, от необходимости служить! А тут соблазн еще страшнее — схвати свои деньги и делай, что хочешь. Схвати любой ценой! Ведь тут обращение к самым диким, самым низменным и самым примитивным чувствам. Они живут в каждом. Только государство, идеология не давали им вырваться наружу. А теперь придется выпустить все, весь пар, даже самый зловонный и ядовитый… Вам о себе надо думать, дорогой мой. Потому как в этих новых временах тяжко вам придется, если, конечно, вам удастся свои бесценные фигурки сохранить. Придут к вам…
— Кто?
— Ну, во-первых, те, кто вас сюда упек. Видимо, люди серьезные, с большими возможностями. Так просто они вас не оставят. Сейчас еще какой-то закон работает, а скоро такое начнется… Там закон будет один: видишь деньги — забери их любой ценой. А вы драться за свое добро не очень приспособлены, потому, как я вижу, человек вы глубоко советский, несмотря на свои миллионы.
Блом покровительственно улыбался, глаза его под кустистыми седыми бровями остро поблескивали.
Ночью уже, когда камера угомонилась, Олегу Александровичу пришла в голову мысль, что Блом затеял с ним разговор по душам не просто так. Человек он был тертый, много повидавший и никак не бескорыстный. А может, Блому поручено кем-то довести его, Олега Александровича, до понимания, что с коллекцией все равно придется расстаться? Сначала в изоляторе ему просто угрожали: будешь жаловаться на пропажи во время обыска, «пришьют» в тот же день, когда окажешься «на зоне». Его шесть раз переводили из камеры в камеру, и всякий раз в числе сокамерников оказывались люди, убеждавшие его, что надо признать свою вину и получить по минимуму, а иначе — хана… Да что там убеждавшие, несколько раз его довольно жестоко избили, приговаривая: «Сам знаешь за что, сука!» А теперь вот добрый дяденька Блом оказался рядом, и таскания из камеры в камеру прекратились, и угрозы тоже.
Олег Александрович незаметно для себя превращался в опытного заключенного, уже усвоившего тюремный закон: не верь — ибо все лгут, у всех свой отдельный интерес, не проси — все равно не дадут, а если дадут, то заломят такую цену, что потом костей не соберешь. Вот только насчет «не бойся» ничего не выходило. Олегу Александровичу было страшно, да что страшно — жутко. Особенно, после показательных избиений. Ему часто казалось, что он уже не выйдет из камеры никогда. Когда с тошнотворным страхом удавалось справиться и рассуждать более или менее трезво, он приходил к выводу, что об изъятии коллекции, которую провели с нарушением всех правил, пока лучше всего молчать, перестать упоминать их в жалобах и ходатайствах. Прежде всего, надо выбраться на волю, а там уже видно будет, как действовать, чтобы спасать изъятое. О том, как изымали коллекцию, что сохранилось, а что пропало, он и задуматься боялся — сразу ломило сердце.
Ничего не получалось придумать, и когда он начинал размышлять о том, кто же его мог так подставить. Все началось с этого вдруг сгинувшего Томулиса. Но ведь он встретился с ним совершенно случайно! В магазин он заглянул просто по пути, не мог же тот его ждать там специально? Что касается милиции и следователя, то в них он чувствовал скорее откровенную неприязнь к богатому человеку, каковым они его, судя по всему, считали… В общем, какие-то смутные подозрения были, но и только — на него вдруг словно надвинулась какая-то бесформенная темная масса, которая давила его, как каток, укладывающий асфальт. А как бороться с катком, с его громыхающими, медленно ворочающимися колесами? Можно только увернуться, выскочить, убраться с его пути и бежать как можно дальше.
Так он и пропадал, иногда ясно чувствуя, что сердце не выдержит, из тюрьмы ему уже не выбраться. Наверное, так и загнулся, сгинул бы там, все-таки два инфаркта не шутка, говорят, больше трех не бывает, если бы не Тамара…
Имя это ей удивительно шло. Иногда он даже называл ее про себя царица Тамара. Несмотря на молодость (младше него на девятнадцать лет), она была, пользуясь старинным выражением, степенна и всегда невозмутима. Все у нее было несколько крупновато — ладони, ноги, нос, тяжелые темные волосы, падающие на лоб. Крупновато, но не чрезмерно. И выражение лица — такое несколько отрешенное, будто то, что у нее внутри, гораздо интереснее и важнее того, что творится вокруг.
Впервые он увидел ее на той самой выставке, после которой американец предложил ему за коллекцию полтора миллиона долларов. Она была в черном, сидела в углу на низком диванчике, погруженная в свои мысли, не вступая ни с кем в разговоры, ради которых по большому счету все такие мероприятия и проводятся. Олег Александрович прошел несколько раз, подумав что-то вроде: любопытная женщина, но, похоже, что-то у нее случилось… Надо сказать, женщины его никогда особенно не интересовали. Не то, чтобы он их побаивался или стеснялся, просто не было сил заводить какие-то серьезные отношения. Так, были какие-то встречи, служебный романчик, ничем не закончившийся. Всегда останавливала чеховская едкая фраза: как представишь себе, что вот это лицо будет мелькать перед тобой с утра до вечера… И потом мысль, что надо привести в свою небольшую квартирку, где царила коллекция, постороннего человека, сразу действовала охлаждающе.
А тогда… Через пару дней после всех волнений с выставкой — привези, отвези, да так, чтобы ничего не повредить, да еще постоянные терзания, не случится ли чего ночью, когда в помещении никого нет, — у него подскочило давление, и он отправился в поликлинику. Дежурным терапевтом оказалась эта запомнившаяся женщина в черном, звали ее Тамара Сергеевна Левашова. И когда она слушала сердце, оно вдруг заколотилось не столько от недуга, сколько от непонятного волнения…
Все это время Олег Александрович сидел и думал, как сказать ей, что он видел ее на выставке, что она показалась ему грустной и печальной… Но она его опередила. И как бы ненароком заметила, что была на выставке, что никогда не думала, что инклюзы такое любопытное зрелище. Олег Александрович неожиданно для себя вдруг стал пылко — именно пылко — рассказывать, что инклюзы, образцы янтаря, внутри которых лепестки цветов, веточки деревьев, насекомые и пауки, некогда попавшие в жидкую клейкую смолу и навеки оставшиеся в ней, имеют большую ценность для науки. По ним можно воссоздать облик того таинственного леса, который рос миллионы лет назад, во времена динозавров!.. Инклюзы насекомых всегда стоили очень дорого. Известно, что еще в начале нашей эры финикийские купцы платили за такой экспонат 120 мечей и 60 кинжалов, а это была самая большая ценность в те времена… Сегодня такой янтарь стоит десятки тысяч долларов.
Тамара Сергеевна слушала с улыбкой, быстро заполняя медицинскую карту. Путь из поликлиники домой прошел в терзаниях. Олега Александровича мучили мысли, что он нес чепуху, бахвалился и вообще выглядел идиотом. Из чего можно было сделать вывод, что женщина если не поразила, то задела. Следующего визита в поликлинику он ждал с нетерпением и страхом одновременно. Она встретила его как доброго знакомого, была приветлива, мила. А он уже думал о новой встрече. И когда она сказала, что пора и выписываться, хотя ходить к кардиологу теперь придется регулярно, он вдруг выпалил:
— Можно я к вам лучше буду ходить?
Она чуть заметно улыбнулась:
— Ну, ко мне вам все равно заходить придется. Но к кардиологу запишитесь обязательно.
Олег Александрович встал, потоптался у стола и вдруг бухнул, замирая:
— А давайте увидимся… вечером! Я вам свою коллекцию покажу, там есть удивительные вещи… Я живу тут рядом, буквально через дорогу.
Она внимательно посмотрела на него. Даже чуть прищурившись:
— Хорошо. Я заканчиваю в семь.
В дверь заглянула какая-то сварливая старуха. Злобно проскрипела:
— Доктор, уже мое время.
Олег Александрович, боясь, что она может передумать, попрощался до вечера и выскочил на улицу. Шел, ничего не видя перед собой, и вдруг с ужасом вспомнил, что они так и не договорились, где встретиться. Потом сообразил, что можно подойти к концу смены. И тут же удивился сам себе — перепугался, что не увидит ее, всерьез.
Вечером, в начале восьмого, он встретил Левашову на ступенях перед входом в поликлинику и протянул цветы. Сказал — боялся, что не встретит ее, ведь о конкретном месте свидания они не договорились. Тамара улыбнулась: «А у меня ваш адрес есть — взяла в регистратуре. Так что не потерялись бы».
Дома показывал ей фигурки из нефрита. Рассказывал про этот удивительный камень. Нефрит — горная порода, его очень сложно расколоть на куски, он тверже стали и не поддается истиранию. Свое название получил от греческого слова «нефрос» — почка. Китайцы называют его «камнем жизни» и вечности. Считается, что нефритовые талисманы отражают жизненные неудачи и несчастья. А вот древние ацтеки использовали нефритовые ножи для человеческих жертвоприношений…
Кто же знал тогда, что с нефритом будут связаны все обрушившиеся потом на него несчастья!
А тогда понравилось, как Тамара его слушала — без неискренних восторгов и глупых вопросов. Потом пили шампанское, лакомились тортом «Птичье молоко», она рассказывала про работу в поликлинике, оказалось она еще комсомолка, хотя уже через полгода перестанет быть по возрасту, он удивился про себя — такая молодая? А ведь все повадки взрослой женщины.
Позже опять перешли на коллекцию нефрита. Он чуть не стал рассказывать, что китайское выражение «нефритовый дракон» служит как обозначением мужского полового члена, так и мужчиныпартнера священной Тигрицы. В даосизме это тот, кому она доверяет, на чью защиту, поддержку и выдержку полагается. Нефритовый дракон вступает в сексуальную связь с Тигрицей. Дракон и Тигрица вовлечены в вечную битву друг с другом. Гармония же достигается только тогда, когда оба индивидуума проникаются друг другом и помогают друг другу достичь просветления. И вообще в древности китайцы полагали, что нефрит — это семя дракона, павшее на землю… Но Олег Александрович вовремя остановился — еще подумает, что он пытается совратить ее своими восточными легендами.
Уже ближе к одиннадцати она сказала, что ей пора — ехать далеко, практически за город, там она снимает комнату… Он радостно сообразил — значит, семьи нет. И опять вдруг, ни на что не надеясь, сказал: «А может, останетесь?» И, признаться, глуповато добавил: «Отсюда на работу близко». У нее заискрились глаза: «А я завтра выходная». Он сокрушенно вздохнул, а она сказала: «Ну, если оставаться, то можно еще чая…»
Ночь — а Олег Александрович очень волновался, его донжуанский список и без того весьма скромный, очень давно уже не пополнялся — неожиданно прошла спокойно, будто это между ними происходило уже не в первый раз, Тамара вела себя согласно заповеди врача «Не навреди», и утром Олег Александрович был совершенно счастлив. Он предложил Тамаре перебраться к нему, но она все с той же врачебной мудростью, сказала, что спешить не надо: «Давай присмотримся друг к другу…». У нее уже был малоудачный опыт супружеской жизни, так что поживем — увидим. Она не спешила со свадьбой, не торопилась даже тогда, когда выяснилось, что она беременна. Беременность протекала сложно, ей приходилось ложиться в больницу на сохранение, Олега Александровича арестовали как раз в один из таких моментов. Мысли о том, как там Тамара и ребенок, постоянно терзали его в камере.
Ей тоже досталось — вышла из больницы, а квартира опечатана. Где жить?…На пятом месяце беременности? Приходила к следователю и слышала только один вопрос — кто вы такая? Мало ли что вы беременны? Мало ли от кого? Выход был один — добиваться разрешения на брак с заключенным. Она добилась. Когда Олег Александрович увидел заявление гражданки Левашовой о желании вступить в брак с заключенным Коваленко, удостоверенное органом ЗАГСа, он расплакался. Так и заполнял ту часть заявления, которая относится к нему, вытирая слезы. Потом была процедура бракосочетания в «Крестах», которую он не мог бы себе раньше представить даже в горячечном бреду. Тамара была удивительно спокойна, не обращала ни малейшего внимания на все глупости и нелепости, которые были неизбежны при церемонии в таком месте, а он просто не мог поверить, что это происходит с ним и что это вообще не сон. Она в какой-то момент рассказала, что все ее отговаривали. На работе сказали, что не надо мнить из себя декабристку — там была любовь, а тут моральное разложение. Были и такие, кто считал, что она это делает из-за денег, потому что в газетах появились статьи, рассказывающие о миллионах Коваленко…
Спустя неделю ее исключили из комсомола, хотя она и так должна была выбыть оттуда через месяц по возрасту. В общем, начальство устроило такой показательный процесс, чтобы отчитаться перед райкомом партии. Тамара на собрание не пошла, чтобы не дай бог, не разродиться прямо там. Потом подруги ей рассказывали, что все сидели и молчали. Секретарь парткома сказал, что, выходя замуж за преступника, Левашова тем самым демонстрирует, что разделяет его взгляды и, по сути, становится сообщницей. Кто-то возразил и заявил, что до суда человека объявлять преступником нельзя, на что ему отрезали: наши органы не ошибаются, это раз, а два — откуда у обычного советского человека, живущего на зарплату, коллекция стоимостью в миллионы, как это пишут газеты? Или, по-вашему, газеты тоже лгут?.. Собственно на этом обсуждение и закончилось, потому что возразить было нечего.
Но все это Олег Александрович узнал уже потом, когда вышел на свободу. Тогда и пришла ему в голову мысль, что в жизни нам часто не понять, к чему ведут те или иные повороты судьбы, их смысл становится ясен лишь потом, годы спустя. И если бы не обрушившиеся на него несчастья, приведшие его в тюремную камеру, может быть, они с Тамарой так и не поняли бы окончательно и бесповоротно, что не могут друг без друга…
Волки и лисы
На людей, мало его знавших, следователь по особо важным делам Виталий Алексеевич Владимиров производил впечатление несколько сонного, погруженного в себя тяжелодума. Но впечатление это было обманчиво. Несмотря на внешнюю округлость форм — невысок, круглоголов, полноват, нетороплив и скуп в движениях, — Владимиров мыслил остро и быстро, мог соединять в единое полотно разрозненные факты, а главное — был вполне бесстрашен в выводах, какими бы опасными они ни выглядели.
Занявшись с подачи самого Генерального делом коллекционера Коваленко, он для себя сразу сделал вывод, что тут вероятна — политика. Уголовщина само собой, но история коллекции Коваленко должна была продемонстрировать согласно указаниям, идущим с самого верха, что в стране действительно происходят перемены и богатый человек теперь не является классово чуждым элементом, пребывающим под постоянным подозрением, а наоборот — полезный гражданин, которого государство будет защищать и оберегать от посягательств уголовного мира. Вот так — просто и понятно.
В Ленинграде, куда прибыли небольшой следственной группой, быстро нашли первую серьезную зацепку. Просматривая дело Коваленко, Владимиров сразу заметил, что анонимное заявление, в котором коллекционер обвинялся во всех смертных грехах — от спекуляции до торговли валютой и незаконном хранении оружия, после которого приступили к разработке Коваленко, отпечатано на машинке с серьезными дефектами, причем дефектами весьма характерными, запоминающимися. Дефекты эти Владимиров сразу вспомнил — он их видел, просматривая документы, представленные работниками того самого отдела ОБХСС, который и возбуждал дело против Коваленко. То есть получалось — анонимка была просто-напросто изготовлена там — в отделе…
Кстати, Указ Президиума Верховного Совета от 2 февраля 1988 года гласил: «Письменное обращение гражданина должно быть им подписано с указанием фамилии, имени, отчества и содержать помимо изложения существа предложения, заявления либо жалобы также данные о месте его жительства, работы или учебы. Обращение, не содержащее этих сведений, признается анонимным и рассмотрению не подлежит».
Сам Владимиров, как и другие его коллеги, с одной стороны был доволен этим Указом — наконец-то прекратится стукачество и очернение порядочных людей; с другой — считал, что это решение, мягко говоря, не совсем продуманно.
Ни одна правоохранительная служба мира не может себе позволить не реагировать, пусть даже и на анонимный сигнал о террористической угрозе или убийстве! Вот и наши многие работники правоохранительных органов все равно анонимную информацию фильтровали — серьезные сообщения брали на заметку, официально ими не оперировали, но негласно все же проверяли. Правда, на анонимке о злодействах Коваленко предусмотрительно была поставлена нужная дата — до выхода Указа, хотя в ней речь ни об убийствах, ни о терактах не шла…
Чем больше следственная группа копала, тем очевиднее становилось — тут даже не грубая, а наглая, вызывающе хамская работа. Люди были абсолютно уверены в своей безнаказанности. Например, изымать коллекцию прибыли на частных автомобилях, неизвестно кому принадлежавших. Коллекции как положено не описали. Все сгрузили в картонные ящики. Сохранность ее не обеспечили, картотека пропала. В общем, сразу было ясно, что возврат коллекции владельцу заранее исключался. Следователя и оперов ничуть не озаботило, что люди, на чьих показаниях строилось обвинение, хорошо известны с вполне определенной стороны — Ядринцев в прошлом был судим за скупку краденого, а Петровский был известен как наводчик и вымогатель, обиравший в основном стариков, у которых оставались какие-то старинные вещи. Следователь, приняв к своему производству уголовное дело, проводить расследование особо не торопился. Через некоторое время он продлил срок следствия и содержания обвиняемого под стражей, тем самым показывая, что он намерен держать Коваленко как можно больше, соответствующим образом его обрабатывая…
Картина окончательно сложилась, когда в материалах по другим делам обнаружился… тот самый Томулис, существование которого опера из ОБХСС со смехом отрицали, говоря, что Коваленко его сам придумал. Несуществующий Томулис из Клайпеды в самых разных делах проходил то понятым, то свидетелем, то даже пострадавшим… В общем, на все руки мастер, всегда выручит. На самом деле это был не человек, а… паспорт. Сей документ в отделе пускали в ход при всякой надобности, изготовлен он был специально для таких ситуаций и хранился у одного из сотрудников.






