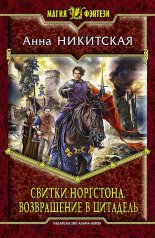История Древнего мира. От истоков Цивилизации до падения Рима Бауэр Сьюзен
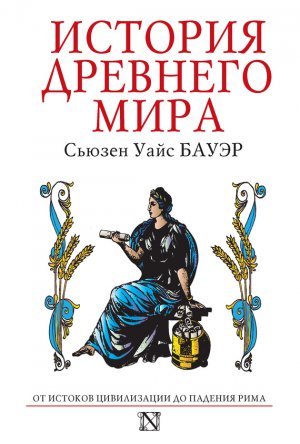
Вероятно, одновременно с печатями в обиход вошел еще один тип знака. Как и пещерные художники, шумеры использовали отметины и зарубки, чтобы зафиксировать расчет количестве коров (или мешков зерна), которыми они владели. Зарубки, ведущие подсчет их достоянию, наносились на маленькие глиняные пластинки — счетные таблички. Информация на них сохранялась до тех пор, пока земледельцы владели коровами, и на многие века спустя. Нередко самые богатые шумеры, имевшие много табличек, хранивших сведения об их богатствах, укладывали их на тонкий пласт мягкой глины, оборачивали пласт вокруг таблички и прикладывали печать к образовавшейся упаковке. Когда глина высыхала, получалось что-то вроде конверта.
К несчастью, единственным способом открыть этот конверт было разбить глину — но в таком случае, в отличие от бумажного пакета, он становился непригоден к использованию. Более удобным способом хранения сведений, стало нанесение снаружи на «упаковку» меток, информирующих о том, сколько табличек находится внутри нее, и с их кратким содержанием.
Теперь отметки на «конверте» рассказывали о табличках внутри — а те, в свою очередь, несли на себе отметки, символизирующие коров. Другими словами, наружные метки стали знаками с двойным абстрагированием от представленных ими объектов. Взаимоотношения между предметом и меткой начали перерастать в абстрактные.‹33›
Следующим шагом в развитии письма стал окончательный отказ от простых меток. По мере того как росли шумерские города, собственность принимала все более сложную форму. Можно было владеть большим количеством типов предметов, которые могли передаваться кому-либо другому. Теперь наследники нуждались в чем-то ином, нежели просто отметка о единице собственности. Им требовались пиктограммы — изображения подсчитываемых предметов.
Использовавшиеся первоначально пиктограммы со временем упрощались. Во-первых, их обычно рисовали на глине, которая неудобна для нанесения мелких деталей. Вдобавок было бы пустой тратой времени рисовать реальную корову каждый раз, когда требовалась ее отметка, если все, смотрящие на пластину, и так прекрасно знали, что квадрат со слегка обозначенными головой и хвостом означает корову; так палка-палка-огуречик в исполнении малыша обязательно изображает маму (хотя ее и трудно опознать в этом намеке на человека) — просто потому, что здесь должна быть изображена именно мама.
Все это — система обозначений. Ее еще нельзя назвать письмом. С другой стороны, — это система отметок, которые становятся все более и более сложными.
Затем снова появляется печать — на этот раз передающая совсем новое содержание. Илшу, который когда-то использовал свою печать только для того, чтобы обозначить собственность зерна и масла, мог теперь поставить ее на обороте таблички, пиктографически при сделке. На обороте таблички рисунок Илшу н изображающей продажу коров соседа слева его соседу справа. Не доверяя друг другу, они оба просили его присутствовать при продаже, и он ставил свою печать на табличке как свидетель е говорит больше «Тут был Илшу» или даже «Это принадлежит Илшу». Он говорит: «Илшу, который был тут, наблюдал за этой сделкой и может дать пояснения, если у вас возникнут вопросы».
Это больше не обычная метка. Это развернутое заявление, сделанное читателю.
До определенного момента шумерское «письмо» зависело от хорошей памяти всех участников; оно больше было похоже на нитку, завязанную на пальце, чем на развитую систему символов. Но города торговали, экономика развивалась, и глиняные таблички должны были начать вмещать в себя больше информации, нежели простое указание на количество и вид товаров. Земледельцам и купцам требовалось записывать, когда засеяны поля и каким зерном; какие слуги с какими поручениями и куда посланы; сколько коров было отослано в храм Энлиля в уплату за данные предсказания (на случай, если жрецы просчитаются); сколько податей было отослано царю (на случай его просчета и требований новой дани). Чтобы зафиксировать столько информации, шумерам потребовались знаки, означающие слова, а не просто товары. Им нужна была пиктограмма для обозначения «коровы» — но также знаки для обозначения «послан» или «куплен»; пиктограмма для обозначения «пшеницы» — и знак для указания «посажена» или «погибла».
Нужда в знаках возросла, и развитие «кодов» могло принять одно из двух направлений. Знаки могли множиться, и каждый бы соответствовал отдельному индивидуальному слову — либо же пиктограммы могли преобразоваться в фонетическую систему таким образом, чтобы знаки означали звуки, части слов, а не сами слова; таким путем можно было построить из ограниченного числа знаков любое количество слов. В конце концов, стоило человеку увидеть пиктограмму «корова» и сложить губы в шумерское слово «корова» — тут же возникал звук. Затруднительно было бы употреблять длинное обозначение понятия «корова», и со временем знак стал представлять собой лишь первый звук в слове «корова». Затем его стало возможным использовать в качестве начального знака во всех сериях слов, которые начинались с того же звука, что и «корова».
В течение как минимум шестисот лет шумерские пиктограммы шли по этому второму пути развития фонетических символов.[31] Символы, нанесенные на мокрую глину палочкой с клинообразным концом, имели четкую форму — расширяясь сверху и сужаясь книзу. Что шумеры называли своим письмом, мы никогда не узнаем. Почти невозможно узнать, как выглядела постоянно эволюционировавшая технология на своей самой ранней стадии, а сами шумеры никак не отметили введенную ими новацию. Только в 1700 году изучавший Древнюю Персию ученый по имени Томас Хайд дал шумерскому письму название «клинопись», которым мы пользуемся до сих пор. Правда, это название ничем не помогало понять суть шумерского письма. Более того, сам Хайд считал, что аккуратные значки на глине были всего лишь некой декоративной каймой.
В Египте пиктограммами начали пользоваться несколько позже, чем в Шумере. Однако ко времени образования единого государства эти значки стали уже привычными. На плите Нармера справа от головы царя помещена пиктограмма, обозначающая каракатицу — что также означает и его имя.
Не похоже, что египетские пиктограммы, которые мы теперь называем иероглифами, развились из системы счета. Скорее всего, египтяне научились технике пиктограмм от своих соседей на северо-востоке. Но в отличие от шумерских клинописных знаков, которые потеряли свое сходство с оригинальными пиктограммами, египетские иероглифы сохраняли узнаваемую форму очень долгое время. Даже после того, как иероглифы стали фонетическими знаками, обозначая звуки, а не предметы, они все еще узнавались как предметы: мужчина с поднятыми руками, пастуший посох, корона, сокол. Иероглифическое письмо представляло собою смесь знаков — некоторые из них оставались пиктограммами, в то время как другие уже превратились в фонетические символы. Иногда знак сокола стоял как звук, а иногда это был именно сокол. Поэтому египтяне создали символ, названный определителем: это был знак, ставящийся возле иероглифа, чтобы показать, чем тот выступает — фонетическим символом или пиктограммой.
Но ни пиктографическое, ни клинописное письмо так и не развились в полноценную фонетическую форму — в алфавит.
Шумерская письменность не завершила своей эволюции, так как была заменена аккадской (язык захватчиков Шумера). В то же время египетские иероглифы просуществовали тысячи лет, не потеряв своего значения в качестве картинок. Вероятно, загадка кроется в особом отношении египтян к письму: у египтян письменность была ключом к бессмертию. Это была магическая форма, в которой сами линии означали жизнь, могущество. Некоторые иероглифы были настолько сильны, что воспрещалось наносить их в магическом месте; их можно было рисовать или вырезать с учетом особых условий, дабы не привести в действие нежелательные силы. Имя царя, вырезанное иероглифом на монументе или статуе, обеспечивало ему присутствие на земле и после его смерти. Стереть такое имя царя означало убить его окончательно.
Шумеры, более практичный народ, не вкладывали столько смысла в свою письменность. Как и египтяне, у них было божество, покровительствующее письму — богиня Нисаба, которая также была (насколько мы можем судить) богиней зерна. А египтяне верили, что письменность изобретена богом Тотом, божественным писцом, создавшим самого себя силой собственного слова. Тот был богом письменности, но также и богом мудрости и магии. Он измерял землю, считал звезды и записывал деяния каждого человека, приводимого в Зал Мертвых на суд. Он не суетился, считая мешки с зерном.
Такое отношение к письму стало причиной сохранности иллюстративной формы иероглифов, так как сами картинки считались наделенными силой. В действительности далекие от фонетики иероглифы были удобны в том смысле, что не поддавались расшифровке, если у вас не было ключа к их значению. Египетские священнослужители, владеющие информацией, охраняли границы своих знаний, держа этот инструмент в своих руках. Именно тогда умение читать и писать стало признаком силы.
На деле иероглифы были так далеки от ясности, что способность понимать их значение начала пропадать еще тогда, когда Египет существовал как единая нация, мы находим сведения о говорящих по-гречески египтянах. Еще в 500 году н. э., писавших длинные пояснения связей между знаком и его значением. Например, Гораполло в своей «Иероглифике» объясняет различные значения иероглифа, имеющего вид грифа, отчаянно смело (и неверно) пытаясь выразить связь между знаком и его значением:
«Когда они подразумевали мать, зрение, границы или предвидение, они рисовали грифа. Мать — так как у этого вида животных нет самцов… гриф отвечает за зрение, так как из всех животных у него самое острое зрение… Знак означает границы, потому что, когда вот-вот разразится война, он ограничивает пространство, на котором произошла битва, зависая над ним на семь дней. [И] предвидение — потому что… он ожидает много трупов, которыми обеспечит его это кровопролитие»?‹34›
Со временем значение иероглифов полностью стерлось, и письменность египтян оставалась непонятной до тех пор, пока однажды отряд наполеоновских солдат, копая землю для закладки фундамента форта, который Наполеон задумал построить в дельте Нила, не наткнулся на 700-фунтовый кусок базальта с тройной надписью, сделанной иероглифами, позднеегипетским письмом, а также по-гречески. Эта скала, теперь известная под названием «Розеттский камень», дала лингвистам ключ, необходимый для начала работы по расшифровке египетской иероглифической азбуки. Таким образом, военные, которые уже и ранее в течение многих веков поставляли ученым материалы, приводившие к открытиям, помогли вернуть возможность прочесть древнейшие поэмы и эпические произведения египтян. Впрочем, великая литература никогда не была независимой от войны — как не может она стряхнуть с себя коммерческую зависимость.
Иероглифы смогли сохранить свою магическую и мистическую природу только потому, что египтяне изобрели для ежедневного пользования новый и более простой алфавит. Иератическое письмо стало упрощенной версией иероглифического написания с редукцией знаков до нескольких быстро наносимых линий (по У. В. Дэвису — «скорописная версия» иероглифического письма). Иератическому письму отдавали предпочтение при ведении деловых записей бюрократы и административные служащие. Его изобретение предварило появление бумаги. Неважно, насколько просты линии — их все равно невозможно быстро писать на глине.
В течение многих веков глина была традиционным материалом для письма и у шумеров, и у египтян. Ее было много, ее можно было использовать снова и снова. Письмо на гладкой поверхности глиняной пластинки, которую сушили на солнце, могло храниться многие годы — но простым намачиванием поверхности можно было стереть запись или изменить ее, исправляя и искажая значение написанного. Записи, которые следовало защитить от подделок, можно было обжечь в огне, превращая отметки в прочный, не допускающий изменений архивный материал.
Но глиняные пластинки были тяжелыми, неудобными для хранения и трудными для переноски с места на место, они сильно ограничивали количество написанного в любом послании (на досуге можно поразмыслить об этом как о способе противостояния многословию, поощряемом появлением компьютеров). Примерно около 3000 года до н. э. египетские писцы осознали, что папирус, использовавшийся в качестве строительного материала в египетских домах (тростник, уложенный крест-накрест, размягченный и размятый в бесформенную массу, а затем тонкими листами высушенный на солнце), также может служить поверхностью для письма. При наличии кисточки и чернил иератическое письмо можно было очень быстро наносить на папирус.
В Шумере, где подобного материала не было, глиняными табличками продолжали пользоваться еще долгие века. Через пятнадцать сотен лет, когда Моисей привел семитских потомков скитальца Авраама из Египта на сухие просторы Ближнего Востока, Господь вырезал скрижали для них на каменных таблицах, а не на бумаге. Израильтянам пришлось изготовить специальный короб для таких таблиц, чтобы их можно было таскать с собой.
С бумагой же было много проще. Послание можно было скатать в трубку, спрятать под одеждой или положить в карман. Широко расселившиеся по долине реки Нил бюрократы нуждались в простом способе связи между севером и югом; посланец же, который передвигался вверх по Нилу с сорока фунтами глиняных табличек, безусловно, испытывал неудобства.
Египтяне воспользовались новой удобной технологией. Иероглифы продолжали вырезать на стенах гробниц, на памятниках и статуях. Но письма и прошения, инструкции и угрозы писались на папирусе, который сминался, намокая, и ломался, постепенно старея, а через какое-то время превращался в горсть пыли.
Мы можем проследить историю семейных затруднений шумерского царя Зимри-Лима по громоздким глиняным таблицам, которые кочевали взад-вперед между опаленными солнцем городами Месопотамии — но мы очень мало знаем о каждодневной жизни фараонов и официальных лиц страны после начала массового использования папируса. Их печали и срочные послания потеряны; написанные ими или для них истории — все это исчезло без следа, как стертый электронный файл. Таким образом, тысячи лет назад человечество впервые обрело не только возможность писать, но и достигло первого технологического успеха, который со временем обернулся в недостаток, отомстив человеку недолговечностью.
Шумерская клинопись умерла, но иероглифы дожили до наших дней. Более поздняя форма, которую мы называем протосинайской, появилась в регионах Синайского полуострова[32], позаимствовала у египетских иероглифов почти половину своих знаков. Потом протосинайское письмо, в свою очередь, отмерла и была похоронена. Но иероглифы дожили до наших дней. Более поздняя форма письма, которое мы называем протосинайским из-за того, что оно появилось в различно несколько букв финикийцам, включивших их в свой алфавит. Затем греки переняли финикийский алфавит, переделали его и передали дальше римлянам — а затем уже и нам. Так что магические знаки египтян на самом деле подошли к бессмертию настолько близко, как никакое любое другое известное нам изобретение.
Алфавитная таблица. Трансформация трех литер из египетских к латинским. Предоставлено Ричи Ганном
Глава восьмая
Первые военные хроники
С тех пор как шумеры начали использовать клинопись, они перешли от «жил-был» к обозначению конкретных событий, привязанных к конкретному времени: начали записывать сведения о выигранных битвах, об установлении торговых отношений, о возведении храмов. Царский список мог теперь тщательно фиксироваться на официальных табличках и в надписях.
Эпические повествования, часто передающие суть исторических событий посредством сказочных существ и сверхъестественных сил, остаются полезными для историка Мы и сегодня можем опознать новую информацию, вчитываясь в наиболее правдоподобные из таких рассказов. Это не означает, что данные истории правдивы и удивительно объективны; в конце концов, они создавались писцами, которым платили цари, чьи достижения записывались — а это, естественно, располагало к подаче событий в определенном свете. К примеру, согласно ассирийским надписям, очень мало ассирийских царей проигрывало битвы… И только сравнивая надписи, сделанные двумя царями, победившими в одной и той же войне друг против друга, мы часто можем определить, какой царь победил в действительности.
В Шумере, где цивилизация развивалась по принципу отделения имущих от неимущих, битвы между городами спорадически вспыхивали начиная с 4000 года до н. э. Из храмовых записей, Царского списка и набора легенд мы можем сложить историю одной из самых древних в серии битв: первую хронику войны.
В год 2800 до н. э. (относительно точно) шумерский царь Мескиаггашер правил в городе Урук. Урук, известный сегодня как город Варка на юго-востоке Ирака, был одним из древнейших мегаполисов Шумера, заселенным по крайней мере с 3500 года до н. э.[33] При правлении Мескиаггашера он уже являлся (насколько мы можем судить) самым крупным городом на этих территориях. Внутри и вокруг огражденного его стенами пространства диаметром в шесть миль проживало 50 тысяч человек. Два огромных храмовых комплекса располагались за городскими воротами. В храме под названием Куллаб шумеры собирались, чтобы славить далекого и невидимого бога неба Ан; в комплексе Эанна они гораздо более энергично поклонялись Инанне, весьма доступной богине любви и войны.[34]
Мескиаггашера, вероятно, раздражало, что его огромный и богатый город на деле не является самой большой драгоценностью в короне Шумера[35]. Эта честь все еще принадлежала Кишу — городу, чей царь мог заявить формальные права на доминирование в Месопотамии. К этому времени Киш распространил свою защиту (и контроль) на священный город Ниппур, где стояла гробница верховного бога Энлиля, и куда цари всех шумерских городов ездили, чтобы принести жертвы и получить признание. Хотя и не самый крупный из городов Шумера, Киш, похоже, имел непропорционально большое влияние в регионе. Как Нью-Йорк, он не был ни политической, ни военной столицей, но тем не менее символизировал центр цивилизации — в особенности для своего окружения.
Похоже, Мескиаггашер не был тем человеком, который удовольствуется местом во втором ряду. Вероятно, он захватил трон Урука у законного правителя; в шумерском Царском списке он записан как сын бога-солнца Уту — такое происхождение узурпаторы часто использовали, чтобы узаконить свои притязания. И, как сообщает нам Царский список, во время своего правления он «ходил в моря и поднимался в горы». Это кажется более простым делом, чем подъемы Этаны на небо. Завладев Уруком, Мескиаггашер распространил свое влияние вокруг — не на другие шумерские города (Урук не был достаточно силен, чтобы прямо идти войной на Лагаш или Киш), а на торговые пути, которые вели к морю и через окружающие горы.
Торговля Мескиаггашера
Контроль над этими коммуникациями нужно было установить до войны. Мескиаггашер нуждался в мечах, топорах, шлемах и щитах — но на равнине между реками не было металла. Кузнецы Киша могли доставать сырье с севера, выше по течению от Киша; Уруку необходимо было найти на юге источники сырья, которое отсутствовало на равнине Междуречья.
Такие источники были. Легендарные Медные горы находились в Магане — в юго-восточной Аравии, то есть, в современном Омане. Медные горы (хребет Аль-Хаджар) упоминаются в клинописных табличках из Лагаша и других городов; здесь с очень давних времен рыли шахты глубиной до шестидесяти пяти футов и строили печи для плавки металла.
В Маган не существовало легкой дороги через Аравийскую пустыню. Зато в портах Магана шумеры на тростниковых лодках — обмазанных битумом и способных поднимать до двадцати тонн груза — могли торговать зерном, шерстью и маслом в обмен на медь. Первым логическим шагом Мескиаггашера при подготовке к войне было бы обеспечение купцам Урука (или через переговоры, или путем военной экспедиции) свободного доступа через Оманский залив к Магану.
Но шумерские кузнецы нуждались не только в чистой меди. Примерно за триста лет до Мескиаггашера они начали добавлять в медь десять процентов олова или мышьяка. Благодаря этому они получали бронзу более прочную, чем медь, более ковкую и позволяющую острее заточить край после отвердевания.[36]
Поэтому царь Урука отправил царю Аратты послание, заявляя, что Инанна — верховное божество Аратты — предпочитает Итак, для получения бронзы Мескиаггашеру было необходимо олово. При содержании в сплаве мышьяка бронза становится мягче и дает худшую заточку; кроме того, ядовитый мышьяк через какое-то время убивал мастеров, что мешало эффективному пополнению арсенала. Поэтому, скорее всего, поход Мескиаггашера в горы проводился в поисках того олова, которое добывалось у скалистых склонов гор Загрос. Возможно, что он проник еще дальше на север, добравшись до ледяных круч хребта Эльбурс у Каспийского моря. Мескиаггашер завел своих солдат глубоко в горы по перевалам и заставил горные племена поставлять ему металл, необходимый для превращения меди в бронзу.
Теперь Урук был вооружен, но Мескиаггашер не дожил до того, чтобы увидеть победу. После его смерти трон унаследовал его сын Энмеркар.
Энмеркару досталась незавидная участь — жить под гнетом репутации своего отца; трудно превзойти человека, который ходил в моря и поднимался в горы. Мы можем узнать о его потугах ухватить свою долю славы из длинного эпического повествования, написанного много позже и названного «Энмеркар и владыка Аратты».
Аратта не была шумерским городом. Она была расположена в горах немного южнее Каспийского моря. Население города составляли эламиты — люди, говорившие на языке, абсолютно отличном от шумерского, который до настоящего времени еще не расшифрован. У эламитов не было олова или меди, зато у них были драгоценные металлы и камни — серебро, золото и ляпис-лазурь. В течение многих лет они поставляли Шумеру полудрагоценные камни в обмен на зерно.
Энмеркар, будучи в тени славы человека, который ходил в моря и поднимался в горы, решил устроить ссору со своим торговым партнером. У него не имелось подходящей политической причины для этого — но Аратта был слишком лакомой добычей. Если бы Энмеркар смог подчинить город своей власти, он бы поднялся выше властителей Урука, признающих славу Аратты за ее богатства, мастеров по металлу и опытных резчиков камня. Благодаря этому завоеванию возросла бы личная слава Энмеркара.
Урук Аратте, и население Аратты должно признать это безвозмездно, прислав Энмеркару золото, серебро и ляпис-лазурь.
По сути, это было объявление войны. К несчастью, Энмеркар переоценил свои силы. В эпическом повествовании после серии пробных обменов письмами между двумя царями богиня Инанна отправляет послание, в котором заверяет Энмеркара, что хотя она любит Урук больше, но также любит и Аратту, и хотела бы, чтобы он не разрушал город. И в конце повествования эламиты Аратты все еще свободны от правления Энмеркара.‹35›
Так как эта история дошла до нас от шумеров, а не от эламитов, подобный двусмысленный конец, вероятно, говорит о полном поражении шумеров. Энмеркар умер бездетным, не расширив империю отца и став последним в династии Мескиаггашера.
Энмеркару наследовал один из военачальников, человек по имени Лугулбанда, в свою очередь ставший героем нескольких эпических сказаний. После Лугулбанды городом стал править другой военачальник — и снова не родственник царя. Похоже, система наследования сыновей отцам была прервана, а в самом Уруке больше не предпринимались попытки подчинения других городов.
Затем, быть может, сотней лет позже, была еще одна попытка установления гегемонии Урука над шумерами, с воцарением на троне юноши по имени Гильгамеш.
Согласно Царскому списку, отец Гильгамеша тоже не был царем. Вероятнее всего, он был жрецом высокого ранга в храмовом комплексе Куллаба, посвященном богу Ану, причем обладающим весьма специфической репутацией. Царский список называет его лиллу — словом, обозначающим демонические силы. Хотя цари Шумера когда-то тоже были жрецами, но те времена давно прошли. Задолго до упоминаемых событий церковная и политическая власть в шумерских городах разделились; Гильгамеш мог унаследовать власть священника, но он захватил также и царский трон, на который не имел права.
В эпическом повествовании немного рассказывается о его правлении — мы видим Гильгамеша, объявляющего Лугулбанду, военачальника и товарища Энмеркара, своим отцом. Противоречие на поверхности: Лугулбанда занимал трон за несколько десятилетий до рождения Гильгамеша. Но с точки зрения человека, переписывающего личную биографию политика, Лугулбанда являлся прекрасным выбором в качестве родителя. Он добился блестящих успехов и был великолепным воином-царем, человеком с талантом выживания в долгих жестоких кампаниях, готовым сражаться в дальних краях. Ко времени правления Гильгамеша Лугулбанда — вероятно, умерший лет тридцать назад, если не больше — был на пути к достижению статуса легендарного героя. Спустя сотни лет он будет считаться богом. Именно ему и следовало наделить Гильгамеша блеском мирской власти.
Как только первое рискованное предприятие Гильгамеша — захват трона Урука — успешно завершилось, он был готов к новым свершениям. Ведь Киш все еще лежал не завоеванный, его царь защищал священный Ниппур и постоянно раздражал вероятностью превосходства своего статуса.
Когда мы отделим историю молодого царя Гильгамеша от эпического повествования, написаного задолго до него и лишь позднее связанного с его личностью, мы сможем представить себе реального человека. Гильгамеш хотел того, чего хотел бы на его месте любой шумерский политик: лояльности соратников, трона, царского титула, титула «владыка Киша» — и в конце концов бессмертия.
Первой задачей Гильгамеша при подготовке к войне с соседями было возведение собственных укреплений. «В Уруке [Гильгамеш] построил стены, мощную защиту… — сообщает нам пролог сказания о Гильгамеше. — Взгляните на них даже сегодня: внешняя стена… она сверкает от сияния меди; а внутренняя стена не имеет себе равных».‹36›
Медь — это более позднее преувеличение. Стены Урука в то время не были каменными, а уж тем более медными; они были сделаны из дерева, привезенного с севера. Про экспедицию за материалом для укреплений мы узнаем из эпической поэмы. В ней повествуется о том, как Гильгамеш рискнул отправиться в кедровые леса севера, чтобы установить монумент богам — но прежде он должен был сразиться с великаном лесов[37] «гигантским воином, боевым тараном», известным как Хугенесс (по-шумерски Хумбаба или Хувава).‹37› Вероятнее всего, на самом деле Гильгамеш встретил не великана, а племена эламитов, живущих в кедровом лесу и не желающих добровольно отдавать свои самые ценные ресурсы.
Когда же стены были возведены, Гильгамеш был готов найти причину и для личной ссоры с царем Киша.
Царя Киша звали Энмебарагеси, и его правление началось за много лет до того, как выскочка Гильгамеш пришел к власти в Уруке.[38] Он был не только царем Киша, но также защитником святого Ниппура. Найденная в городе надпись говорит нам, что Энмебарагеси построил в Ниппуре «Дом Энлиля» — храм главного шумерского бога, покровителя воздуха, ветров и штормов, хранителя Табличек Судьбы — держащего в своих руках власть над судьбами всех людей.
Энлиль, которому приписывалась способность в дурном настроении насылать наводнения, был не тем богом, с которым стоило портить отношения. И так как храм, построенный Энмебарагеси, был почитаем в качестве главного храма Энлиля, царь Киша считался любимцем бога.
Тем временем Гильгамеш мобилизовал силы Урука. Вся урук-ская военная машина была приведена в действие: пешие солдаты с кожаными щитами, копьями и топорами; осадные машины, сделанные из древесины северного леса, влекомые быками и обливающимися потом людьми; огромные стволы кедра, поднятые вверх по Евфрату для использования в качестве таранов при штурме ворот Киша. Война в древнем мире требовала множества различных умений. Еще в 4000 году до н. э. люди высекали на камнях сцены, изображающие копьеносцев и пленников (и живых, и казнимых), разбитые ворота и осажденные города.
Итак, атака началась — и провалилась. Мы знаем об этом, потому что Царский список зафиксировал смерть Энмебарагеси от старости, а также мирное воцарение на троне Киша его сына Агги.‹38›
Почему Гильгамеш отступил?
Во всех легендах, которые повествуют о Гильгамеше, центральным местом явно остается одно и то же: это был молодой, агрессивный и импульсивный лидер, обладавший почти сверхчеловеческой активностью. Человек такого типа спит три часа в сутки и выскакивает из постели, чтобы немедленно вновь вернуться к работе. К двадцати пяти годам он открывает новые авиалинии, к двадцати восьми — основывает и продает четыре компании, пишет свою автобиографию до тридцати. В преданиях также постоянно присутствует указание на то, что такая работоспособность доводит окружение Гильгамеша до изнеможения. В эпических поэмах они настолько измотаны постоянными заданиями, что обращаются к богам, прося избавления. В действительности люди, вероятнее всего, просто выдохлись, и, не сумев поднять свое войско на решительный штурм, Гильгамеш вынужден был отступить.
В конце концов, царь шумерского города не был абсолютным правителем. В рассказе об экспедиции Гильгамеша на север упоминается, что перед отправлением он вынужден был искать одобрения совета старейшин. Шумеры, сформировавшиеся как нация в стране, где каждый человек обязан был прижимать локти, чтоб не нарушить права соседа (если хотел выжить), обладали обостренным чувством собственных прав. Они первыми из людей записали свой свод законов, жестко сформулировав границы свободы личности. Не похоже, чтобы они могли долго и без возражений терпеть покушения царя на их права — а в таком случае вполне были способны отказаться снова идти куда-то воевать.
Но Гильгамеш все еще был полон решимости завоевать Киш. С другой стороны, Агга, царь Киша, стремился сохранить мир. Поэтическое сказание, озаглавленное «Гильгамеш и Агга из Киша» говорит, что царь Киша отправил к Гильгамешу послов — очевидно, чтобы установить дружеские отношения.
Видимо, Гильгамеш воспринял послание скорее как признак слабости, чем искреннего желания мира. Согласно сказанию, он сначала собирает старейшин города и сообщает им о послании Агги. Но, не принимая мира, он предлагает начать еще одну атаку: «Там много богатств, которые можно захватить. Неужели мы подчинимся Кишу? Лучше ударить по нему оружием!»
Совет старейшин отклоняет идею атаковать Киш, посоветовав Гильгамешу лучше управлять собственными богатствами, чем бегать за чужими. Но вместо этого Гильгамеш обращается к другому собранию — собранию молодых («крепких телом») людей. «Никогда прежде вы не подчинялись Кишу!» — заявляет он им. После некоторого обсуждения молодые люди изъявляют готовность поддержать его. «Выполняющий свои обязанности, находящийся на собрании, сопровождающий сына царя [Киша] — кто еще обладает такой энергией? — закричали они ему. — Ты любимец богов, ты одарен с избытком!»
- Не подчинимся Кишу никогда!
- Мы молоды, с оружием в руках.
- Великими богами создан наш Урук,
- чьи стены достигают облаков.
- Немногочисленна там армия, а люди
- не смеют прямо нам смотреть в лицо.‹39›
Поддержанный таким образом, Гильгамеш решил атаковать Киш еще раз.
Такой двухпалатный парламент — сбор старейшин (мудрых, но чья боевая молодость осталась в прошлом) и молодых (крепких телом, но с горячими головами) был обычным явлением в шумерских городах. Оно веками практиковалось на древнем Ближнем Востоке; много позже сын великого иудейского царя Соломона, взойдя на трон, расколол свою страну пополам, проигнорировав мирные рекомендации совета старейшин в пользу опрометчивых предложений совета молодых.
Гильгамеш следует тем же курсом — и тоже приносит лишь горе. Опять нападение на Киш захлебывается; снова население Урука протестует, и снова Гильгамеш отступает. Мы знаем это, потому что не Гильгамеш в конце концов покорил Киш и получил титул царя Киша и защитника Ниппура, а совершенно другой властитель — царь Ура.