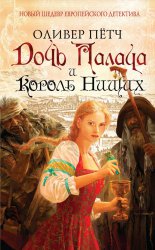Дальше – шум. Слушая ХХ век Росс Алекс

У Шостаковича, как у Малера, была исключительная способность к драматизации внутреннего жизни – его судьба была для него судьбой страны и мира. Прокофьев и Штраус, наоборот, были “эгоистами”, старавшимися сохранить собственную стабильность, покуда мир вертелся вихрем вокруг них. У них был куда более практический, прагматический взгляд на ремесло композитора, и в результате они оба недооценены.
Прокофьев был высок и импозантен. Один американский критик, впервые увидев композитора, описал его как белокурого русского футбольного защитника, другой сказал, что он сделан из стали. Родившийся в 1891 году на Украине, Прокофьев был вундеркиндом, enfant terrible Петербургской консерватории. 18 декабря 1908 года, за три дня до премьеры Второго квартета Шенберга в Вене, его сольный фортепианный концерт на петербургских Вечерах современной музыки стал сенсацией. Кульминацией программы стала короткая, ярко-диссонансная пьеса “Наваждение”. Он также показал ловкий, по-рахманиновски чувственный лиризм (опера “Маддалена”), задумчивые хроматические фантазии на грани тональности (фортепианная пьеса “Отчаяние”) и новаторское эссе в неоклассицистском, моцартианском стиле (“Симфониетта”). В целом у Прокофьева был дар к тому, что русский теоретик литературы Михаил Бахтин назвал “карнавальностью”, – к фарсу, пародии, смешному и безответственному передразниванию всего серьезного.
Десять дней, которые потрясли мир, не потрясли Прокофьева. В феврале 1917-го он ждал премьеры “Игрока” – невероятно эффектной адаптации повести Достоевского о молодом человеке, который пытается уехать к счастью на колесе рулетки, – и его переписка в следующие месяцы в основном посвящена бесплодным попыткам перенести исполнение. Весной он поехал на Каму. Летом он вносил последние штрихи в партитуру двух сочинений, полных спокойного лиризма, – Первого скрипичного концерта и Первой “Классической” симфонии. Рихтер сравнил Концерт с “тем, как первый раз весной открывают окно, и первый раз с улицы в него врываются неугомонные звуки”.
Во время большевистского переворота Прокофьев был в горном походе на Кавказе (эта аристократическая экскурсия, как замечает в биографии Прокофьева Дэвид Найс, была вычеркнута из советских книг). Позже той осенью Прокофьев написал апокалиптически шумную кантату “Семеро их” по аккадским песнопениям в переложении Константина Бальмонта. Композитор снова кажется странно сбивчивым:
- Они – порождение мщенья, чада, исчадия мести
- Они – глашатаи страшной Чумы
- Они – семь Богов безызмерного Неба.
Однажды Прокофьев зашел в комиссариат просвещения со словами: “Я много работал и теперь хотел бы вдохнуть свежего воздуха”. Луначарский ответил: “В России и так много свежего воздуха”, но простился с композитором сердечно и снабдил его советским паспортом на случай, если Прокофьев решит вернуться. Приключения Прокофьева выглядят как плутовской роман в духе “Вокруг света за 80 дней”. Он поехал на транссибирском экспрессе, чтобы добраться до Японии, собираясь потом отплыть в Буэнос-Айрес. Вместо этого он оказался в Сан-Франциско. Когда американские власти задержали его как подозрительного чужака, он заявил, что ненавидит большевиков, потому что они отобрали все его деньги.
Большую часть 1918–1922 годов Прокофьев провел в Америке, где публика аплодировала его мастерству пианиста-виртуоза, но с трудом воспринимала его сочинения. Во время путешествия по Тихому океану Прокофьев начал писать либретто оперы по изысканно абсурдной комедии дель-арте Карло Гоцци “Любовь к трем апельсинам”, используя ту адаптацию, которую Мейерхольд создал для своей студии задолго до революции. Это легкое и ироничное “остранение”: в прологе Трагики, Комики, Романтики, Эксцентрики и Пустоголовые спорят, какой именно жанр представления выбрать, и по ходу развития сюжета волшебной сказки периодически вмешиваются с замечаниями и наблюдениями. Сопрано Мэри Гарден, знаменитая исполнительница ролей Мелисанды и Саломеи, участвовала в постановке “Трех апельсинов” в Чикагской оперной компании в 1921 году, однако показ в Нью-Йорке провалился, похоронив надежды на американскую славу. Но Америка оставила значимый след на личности Прокофьева: он подпал под влияние “Христианской науки” Мэри Бейкер Эдди – учения, согласно которому люди могут преодолеть болезнь, грех, зло, даже смерть, если достигнут правильного, духовного образа мысли.
В 1923 году искатель приключений поселился в Париже, где ему пришлось противостоять политике стиля. При всей композиторской виртуозности Прокофьев не мог соперничать со Стравинским и “Шестеркой” в их стремительном изобретении музыкальных направлений. Стравинский, как прокомментировал Прокофьев, “очень хочет, чтобы его творчество оставалось верным современности. Если я чего-то и хочу, то того, чтобы современность оставалась верной моему творчеству”.
Еще подросток в 1908 году, Прокофьев воспринимался более современным, чем Стравинский, который в то время не оставил следа на петербургской сцене. Но в 1920-х уже Прокофьев догонял моду и после нескольких лет фрустрации решил идти своим путем.
Хотя композиторы круга Дягилева провозгласили оперу устаревшим жанром, Прокофьев в 1920-е годы много времени уделил сочинению оперы “Огненный ангел” – несколько старомодной драмы о сексуальной страсти и дьявольской одержимости с Фаустом и Мефистофелем в качестве второстепенных персонажей. Это был экстравагантный, соблазнительный, шумный проект, заставляющий вспомнить о довоенных символистских идеях “дверей в запредельное”, и неудивительно, что он не вызвал интереса в Париже Стравинского. Прокофьев надеялся, что в Германии один из государственных театров Лео Кестенберга поставит его оперу. Берлинская премьера “Огненного ангела” была назначена на 1927 год, но дирижер Бруно Вальтер безапелляционно отменил ее, когда оркестровка была прислана слишком поздно. Так фактически умерла крупнейшая на тот момент работа Прокофьева.
У Прокофьева не было проблем с тем, чтобы удовлетворить запрос Дягилева на энергичные и ритмичные балеты эры машин, и в середине 1920-х он пишет “Стальной скок” – эстетизированную и эротизированную фантазию о жизни в Советском Союзе. Но он уже устал от молотящей диссонансной манеры, которой овладел в юности. Вместо этого он хотел отпустить поводья своего мелодического дара – в этой сфере Стравинский не смог бы с ним соперничать. Так появился, казалось, неисчерпаемый запас тягучих мелодий, которые начинаются пышным расцветом и грациозно затихают. Как и у Шостаковича, его диатоника так богато украшена добавленными тонами – пониженной пятой ступенью, пониженной второй и т. п., – что гармонии постоянно уплывают из основной тональности. В самых ярких пассажах у раннего Прокофьева, как в “Игроке”, эти дополнительные тоны выглядят симптомами распространяющейся инфекции. То же настроение распада, неправильно устроенного мира заполняет большинство произведений Шостаковича. Но зрелый Прокофьев борется за лирическое освобождение, и “неправильные ноты” становятся игрой света и тени вокруг строгой формы.
В начале 1930-х Прокофьев посвятил себя тому, что в интервью Los Angeles Evening Expressон назвал “новой простотой”, – консервативному модернизму, укорененному в классической и романтической традициях. Поскольку идеология социалистического реализма требовала того же, Прокофьев решил, что советская точка зрения волшебным образом совпала с его собственной. На самом деле его тщательно готовили думать таким образом. Сталин сделал приоритетом возвращение знаменитых деятелей культуры обратно в загон, и проект соблазнения Прокофьева курировался ОГПУ – секретной полицией.
Когда в 1927 году композитор приехал в Россию, он увидел тщательно, до малейших деталей контролируемую панораму советской жизни. Вряд ли замечая присутствие ОГПУ, он отмечал в дневнике странных персонажей, притаившихся в ресторанах, загадочные щелчки в телефонной трубке, обыск личных вещей и другие знаки слежки. Услышав, что его двоюродный брат “заболел”, он наконец понял, что тот арестован. Несмотря на это, он решил сосредоточиться на улучшениях, привнесенных режимом в некоторые сферы жизни: на росте грамотности сельского населения, сияющих новостройках в городах, асфальтированных дорогах и т. п. Как адепт “христианской науки” он мог верить, что сумеет противостоять злу, хотя в его решении вернуться был личный расчет – чувство, что Советский Союз даст ему должное внимание и поддержку.
Окончательная советизация Прокофьева была простым трюком: ему не нужно было “становиться советским”, ведь он им уже был. У него по-прежнему имелся советский паспорт, его сочинения печатались официальными издательствами, в СССР прошли многие премьеры его музыки, и его стиль уже соответствовал мандату простоты. Оставалась лишь бюрократическая процедура смены адреса.
Первая “официальная” советская премьера, эпический балет “Ромео и Джульетта”, – пик прокофьевского оптимизма. В автобиографии композитор называет пять главных линий своего творчества: классическую, новаторскую, моторную, лирическую и гротесковую. В “Ромео и Джульетте” эти линии достигают равновесия, но лирическая становится центральной. Богатый тональный язык Прокофьева становится максимально усложненным: в открывающую действие нежную мелодию вплетаются столкновения полутонов, и она приходит к грубому, язвительному завершению, избегая сентиментальности кича. Балет был очень быстро написан летом 1935 года, за несколько месяцев до начала Большого террора. Он должен был стать новой классикой, но на пути к премьере возникли необъяснимые препятствия. Балетмейстеры Большого театра объявили, что эту музыку нельзя станцевать. Официальные лица, изменив обычаю не рекомендовать трагические финалы, заявили, что Прокофьев предал Шекспира, позволив влюбленным жить долго и счастливо. Но даже с новым, разбивающим сердце финалом “Ромео и Джульетта” появилась на советской сцене только в 1940 году. Прокофьев никогда не мог понять, что проблемы не имели ничего общего с нотами, которые он записал на бумаге: обычный ритуал унижения, через который должен был пройти каждый советский композитор.
Растерянный холодным приемом балета, Прокофьев решил попробовать себя в пропаганде. В отличие от Шостаковича, который выполнял официальные обязанности по возможности эффективно и безучастно, Прокофьев по-настоящему тяжело работал над такими сочинениями, как “Кантата к 20-летию Октября”, “Песни наших дней” и “Здравица”. “Кантата” из десяти частей с двумя большими хорами и четырьмя оркестрами, включая ансамбль аккордеонистов, была слишком беспорядочной, чтобы получить одобрение. “Песни наших дней”, где мать убеждает ребенка:
- Есть человек за стеною Кремля,
- Знает и любит его вся земля.
- Радость и счастье твое от него.
- Сталин – великое имя его! —
также не угодили, на этот раз из-за того, что Прокофьев слишком все упростил и перестал быть собой – та же логика, что владела авторами рецензии на “Светлый ручей” Шостаковича.
Со “Здравицей” Прокофьев наконец-то попал в десятку. Этот текст – гимн подобострастного внимания к человеку в Кремле, который, как утверждается, приносит солнечный свет, благодаря которому цветут луга и вишневые сады. Прокофьев вовсю использовал идею любви к Сталину и написал необыкновенно красивую музыку в духе “Ромео и Джульетты”. Конечно, как указывает Филип Тейлор, начальная мелодия – более или менее то же, что звучит в балете в сцене на балконе. “Здравица” была признана настолько реалистичной, что звучала из громкоговорителей на московских улицах. Младший сын композитора Олег однажды прибежал домой со словами: “Папа! Тебя играют снаружи!”
Музыка Прокофьева к фильму Сергея Эйзенштейна “Александр Невский”, прославлявшему победу князя над тевтонскими рыцарями на льду Чудского озера, также вызвала официальные аплодисменты. Немногие эпизоды изменчивой карьеры Прокофьева приносили ему большее удовлетворение, чем работа с Эйзенштейном, который относился к композиторам не как к нанятым сотрудникам, а как к равным творцам. Кульминационная сцена фильма, Ледовое побоище, была снята только после первых набросков музыки, и получившаяся интеграция звука и образа может соперничать с любым из мультфильмов Уолта Диснея, которым и композитор, и режиссер восхищались. В других сценах Эйзенштейн ритмически выстраивал последовательность образов. Прокофьев отстукивал пальцами время отснятого материала. Он отдавал законченный фрагмент к полудню следующего дня, и Эйзенштейн использовал музыку для окончательного монтажа. Сталин не мог не оценить эту беспрецедентную трактовку фильма как оперы без пения. Когда в 1941 году раздавались первые Сталинские премии, “Александр Невский” был среди победителей.
К тому времени, когда фильм Эйзенштейна обрел славу, Прокофьев начал осознавать границы своей бархатной тюрьмы. В 1938–1939 годах композитор работал над первой советской оперой “Семен Котко”. Она рассказывает о превращении молодого человека в социалистического героя и его сопутствующих победах над разнообразными классовыми врагами. Либретто было и глупым, и злобным, но Прокофьев одарил его, может быть, самой драматической музыкой в своей карьере, включая полный зловещего блеска эпизод немецкого вторжения. Композитора больше всего радовала возможность работать с Мейерхольдом, которого Прокофьев давно боготворил.
Мейерхольд готовился репетировать “Семена Котко” в Театре Станиславского, когда 15 июня 1939 года он сделал какие-то неосмотрительные комментарии о советской политике в области искусства (что он сказал на самом деле, точно неизвестно). 20 июня его арестовали – вероятно, его судьба была решено гораздо раньше. Позже жена Мейерхольда была зарезана. Конечно, премьеру отложили. Прокофьев все еще приходил в себя после этих событий, когда перемена в советской внешней политике потребовала переделки либретто. Подписание пакта Молотова – Риббентропа в августе 1939 года значило, что немцев больше нельзя изображать отрицательными героями. Чтобы спасти оперу, были сделаны стремительные косметические правки, и она исчезла с советской сцены вскоре после премьеры. 16 января Сталин подписал 346 смертных приговоров, в том числе Мейерхольду и Бабелю.
На протяжении всех 1930-х Прокофьев продолжал ездить за границу, размахивая паспортом. В разговорах с друзьями на Западе он держался просоветской линии, но близкие знакомые считали, что он чувствует напряжение. Николай Набоков в книге “Старые друзья и новая музыка” пишет, что “за маской оптимизма и официозных похвал можно было различить чувство, совершенно противоречащее самой природе характера Прокофьева: чувство ужасной, глубокой незащищенности”. Как рассказывает русско-американский композитор Вернон Дьюк, голливудская студия предложила Прокофьеву огромную зарплату – 25 000 долларов в неделю. Дьюк сам передал это предложение и видел реакцию – мгновенное воодушевление, превратившееся в резкий отказ. “Отличная наживка, – сказал Прокофьев, – но я ее не проглочу. Я должен вернуться в Москву, к моей музыке и моим детям”.
Повесть Достоевского “Игрок”, которая стала основой для замечательной ранней оперы Прокофьева, может указать на основную слабость композитора. Не в силах бросить играть, главный герой говорит: “Тут бы мне и отойти, но во мне родилось какое-то странное ощущение, какой-то вызов судьбе, какое-то желание дать ей щелчок, выставить ей язык”. Дневник Прокофьева, где описана его первая поездка в СССР, фиксирует схожий решающий момент. “Забыть обо всем и остаться? – спрашивает себя композитор, садясь на поезд в Москву. – Могу ли я рассчитывать на возвращение, или они меня остановят?” И снова, когда на латвийской границе меняют локомотив, он говорит себе: “Это наш последний шанс, еще не поздно вернуться”. Но он отбрасывает опасения и остается в поезде. Примерно десять лет спустя, вернувшись из поездки в США в 1938 году, Прокофьев, следуя советской процедуре, сдал иностранный паспорт. Он больше не получил его обратно и никогда не покидал СССР.
Великая Отечественная война
“Сейчас последний день 1943 года, 16 часов. За окном шумит пурга, – писал Шостакович своему другу Исааку Гликману. – Наступает 1944 год. Год счастья, год радости, год победы. Этот год принесет нам много радости. Свободолюбивые народы наконец-то сбросят ярмо гитлеризма, и воцарится мир во всем мире, и снова мы заживем мирной жизнью, под солнцем сталинской конституции. Я в этом убежден и потому испытываю величайшую радость. Мы сейчас временно разлучены с тобой; как мне не хватает тебя, чтобы вместе порадоваться славным победам Красной армии во главе с великим полководцем тов. Сталиным”. Эта характерная манера Шостаковича иллюстрирует склонность композитора говорить сквозь маску советской демагогии. Конечно, для комического эффекта он передразнивает присущий Сталину стиль повторения: тройное употребление слова “радость” – типично сталинская манера. Но это повторение – еще и тайный код. Гликман пишет, что, когда Шостакович без необходимости повторяется или подчеркивает какую-то ничего не значащую фразу, это значит, что он хочет сказать противоположное написанному. Поэтому, когда он пишет: “Все так хорошо, просто замечательно, что мне даже не о чем писать”, то он на самом деле говорит, что все слишком ужасно, чтобы писать об этом в письме, которое прочитают сотрудники НКВД. Гликман пишет, что Шостакович использовал этот код даже в разговоре. “У меня все хорошо” могло значить очень многое.
Но всегда ли Шостакович думал одно, а говорил другое? Неужели его не радовала перспектива того, что “свободолюбивые народы наконец-то сбросят ярмо гитлеризма”? Даже под пятой тоталитарного террора жизнь продолжалась. Люди переживали радость, ярость, горе, любовь. На самом деле музыка лучше передает эти простейшие чувства, чем что-то более сложное типа иронии. Ирония, согласно стандартному определению, – это способ сказать не то, что сказано. Чтобы рассуждать о музыкальной иронии, нам сначала нужно договориться о том, что на самом деле говорит музыка. Это очень сложно. Тем не менее мы можем научиться осторожно относиться к излишне серьезным интерпретациям того, что “на самом деле” говорит музыка, и помнить, что существуют разные уровни значения. Если таким образом слушать Пятую симфонию Шостаковича, то можно получить богатый опыт. То же можно сказать и о Седьмой, или “Ленинградской”, которую на протяжении многих лет отвергали как упражнение в военной пропаганде.
Шостакович выказал патриотическое рвение с самого начала войны. В конце июня 1941 года, сразу после начала нацистского вторжения, он вместе со своим учеником Вениамином Флейшманом явился в штаб гражданской обороны и записался добровольцем. Когда ему отказали по причине плохого зрения, он вступил в пожарную бригаду Ленинградской консерватории и переехал в казарму в здании вуза. Знаменитая фотография изображает его в пожарном шлеме на крыше консерватории. Но это был постановочный снимок для пропагандистских целей – коллеги следили, чтобы достояние советской музыки не пострадало.
В июле Шостакович начал работу над Седьмой симфонией, в которой он хотел записать, почти в стенографической манере, военные переживания. В середине сентября он объявил по ленинградскому радио, что закончил две части. “Помните, что нашему искусству грозит великая опасность. Будем же защищать нашу музыку”, – говорит Шостакович. К этому времени немецкие снаряды уже взрывались в городе – началась блокада, длившаяся почти 900 дней. Шостакович играл на фортепиано уже написанные части для друзей-композиторов – даже тогда, когда включались сирены, оповещавшие о бомбежках, пока огонь зениток не оглушал его. Против своего желания 1 октября он был эвакуирован и провел зиму в Куйбышеве на Волге.
Премьера “Ленинградской” состоялась в марте 1942 года в Куйбышеве. Затем, преодолевая военные трудности, она отправилась по миру. Как сообщал The New Yorker, ноты пересняли на микрофильм, положили в жестяную коробку, самолетом отправили в Тегеран, оттуда автомобилем в Каир, самолетом в Южную Америку и уже оттуда – в Нью-Йорк. Тосканини победил Кусевицкого и Стоковского в поединке за право дирижировать на Западе премьерой, которая состоялась 19 июля 1942 года. Журнал Time поместил фотографию Шостаковича в пожарной форме на обложку с подписью: “Среди взрывов бомб в Ленинграде он слышит аккорды победы”. Композитор стал символом пропаганды для целей союзников, образцом храбрости.
Осажденный Ленинград услышал симфонию 9 августа 1942 года – в самых драматических обстоятельствах, какие только можно вообразить. Партитуру привезли военным самолетом в июне, и истощенный оркестр Ленинградского радиокомитета начал репетиции. После того как на первой репетиции появились 15 музыкантов, командующий фронтом приказал отозвать всех компетентных музыкантов с фронта. В перерывах между репетициями музыканты возвращались к своим обязанностям, которые иногда включали приготовление братских могил для жертв блокады. Три оркестранта умерли от голода до премьеры. Немецкое командование узнало о готовящейся премьере и планировало ее сорвать, но советские войска опередили, начав артиллерийскую атаку немецких позиций – операция называлась “Шквал”. Множество громкоговорителей транслировало симфонию в тишину ничьей земли. Никогда прежде в истории музыкальное произведение не вторгалось в гущу боя таким образом: симфония стала тактическим ударом по эмоциональному настрою немецких войск.
Для удобства международной аудитории Шостакович написал программку к первым трем частям. Композитор писал: “Экспозиция первой части повествует о счастливой мирной жизни людей, уверенных в себе и своем будущем. Это простая, мирная жизнь, какой до войны жили тысячи ленинградских ополченцев, весь город, вся наша страна. В разработке в мирную жизнь этих людей врывается война. Я не стремлюсь к натуралистическому изображению войны, изображению лязга оружия, разрыва снарядов и т. п. Я стараюсь передать образ войны эмоционально”. Позже, в разговорах с друзьями, Шостакович намекал, что думал не только о немецком фашизме – он имел в виду “все формы террора, рабства и загнанности духа”[62].
Официальные, неофициальные и известные только по слухам интерпретации множились, музыка становилась неуловимой, хотя, нагруженная музыкальными сигналами, предполагала расшифровку. Наибольшее внимание в первой части привлекал “эпизод вторжения”, как его называл сам Шостакович. Он возникает там, где в сонатной форме можно ждать разработку. Но вместо варьирования и развития первой и второй тем оркестр на протяжении 350 тактов повторяет довольно простую мысль, подчеркнутую ритмичным стуком малых барабанов. Если эта музыка предполагает изобразить марширующих немецких солдат, то она звучит не вполне по-тевтонски. Мелодия основана на арии “Пойду к „Максиму“ я” из оперетты Франца Легара “Веселая вдова”, про которую было известно, что ее очень любил Гитлер. Остинато малых барабанов и структура бесконечного crescendo вдохновлены “Болеро” Равеля. Все начинается как марш гамельнского дудочника, как шутовская процессия, а заканчивается огромной, вульгарной тирадой, где одна фигура звучит как детское “ля-ля”.
Как появилась это австрийско-французско-испанская мешанина? Одна из наиболее проницательных интерпретаций принадлежит Эйзенштейну, который вспомнил сцену из антиреволюционного шедевра Достоевского “Бесы”. В одном из эпизодов левый агитатор Лямшин, пианист и композитор, развлекает друзей фортепианной пьесой под названием “Франко-прусская война”, в которой в звуки “Марсельезы” вторгается немецкая народная песня “Ах, мой милый Августин”. Знаменитая мелодия, проклятие Малера и Шенберга, появляется “где-то сбоку, внизу, в уголку, но очень близко”, пишет Достоевский, затем набирает силу и сметает “Марсельезу”: “Слышатся сиплые звуки, чувствуется безмерно выпитое пиво, бешенство самохвальства, требования миллиардов, тонких сигар, шампанского и заложников; Augustin переходит в неистовый рев…” Эйзенштейн добавляет: “Несомненно, что эта страница великого русского писателя лежит в сердце [“Ленинградской”]”.
Анна Ахматова тоже восприняла “Ленинградскую” как какой-то безумный карнавал. В конце ее военной “Поэмы без героя” Ахматова выводит хоровод образов, вызывающих в воображении побег из блокадного Ленинграда. Одним из источников вдохновения был роман Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита”, тайно написанный в 1930-х и не опубликованный до 1966-го. В этой русско-советской версии сказки о Фаусте дьявол и его анархически-сюрреалистическая свита с помощью жестокого фарса разоблачает безумие сталинского мира. В частности, Ахматова имела в виду сцену, где Маргарита, обнаружив, что обладает колдовской силой, улетает на бал в Вальпургиеву ночь. Тот факт, что Шостакович улетел из Ленинграда на маленьком самолете вскоре после Ахматовой, взяв с собой рукопись первых трех частей “Ленинградской”, и приводит поэта к изображению симфонии как волшебной метлы, уносящей дух Петербурга в ночь:
- И над Ладогой и над лесом,
- Словно та, одержимая бесом,
- Как на Брокен ночной неслась.
- А за мной тайной сверкая
- И назвавшая себя “Седьмая”
- На неслыханный мчалась пир.
- Притворившись нотной тетрадкой,
- Знаменитая “Ленинградка”
- Возвращалась в родной эфир.
Все это вносит поправки в образ “Ленинградской” как исключительно пропагандистской работы. В партитуре есть уравновешивающий элемент фантастики, который иногда поднимается на поверхность по мере движения массивной четырехчастной структуры. Ритмический намек малых барабанов, проскальзывает в последних тактах симфонии, за механизированным звучанием советской славы. Еще одна дьявольская процессия готова отправиться в путь.
Прокофьев отреагировал на нацистское вторжение весьма характерным жестом: он сделал оперу из “Войны и мира” Толстого. До некоторой степени этот проект адекватен исторической ситуации. Сцены вторжения Наполеона в 1812 году – Бородинская битва, оккупация Москвы, умелое противодействие маршала Кутузова и гибель французской армии во время длинной русской зимы – все это походило на борьбу с Гитлером. Прокофьев был достаточно осторожен, чтобы завершить оперу не толстовскими размышлениями о незначительности человеческий судьбы перед лицом истории, а воодушевляющим националистическим зрелищем. Хотя лучше всего у композитора получались портреты старой русской аристократии, в частности образ Наташи Ростовой, чистой, но трагически несобранной девушки из обедневшей аристократической семьи. Центральный эпизод первой части – сцена в бальном зале, насыщенная страстью по отношению к ушедшему миру. “Вальс! Вальс! Мадам!” – кричит распорядитель бала под мрачный аккомпанемент басов. Это душераздирающий мираж величия, когда фоном звучат рычаги современности.
Затем появился еще один фильм в сотрудничестве с Эйзенштейном, чей монтажный стиль мог повлиять на новаторскую смену почти не связанных между собой сцен в “Войне и мире”. Эйзенштейн получил непростое задание снять фильм в нескольких частях о жизни царя Ивана IV Грозного. Изготовь Эйзенштейн идеалистическое жизнеописание царя – это была бы апология Террора, если бы он предложил “жизненный” портрет – это оскорбило бы вождя. Режиссер пошел на компромисс, сделав первую серию более хвалебной, а вторую – более критической. Точно так же и музыка Прокофьева отвечала обоим требованиям. Разящая главная тема – четыре валторны и две трубы в си-бемоль мажоре, по которому скользит соль-бемоль мажор низких медных, – создает вокруг царя ореол мрачной славы, своего рода величественную гармонию. Но музыка из сцены оргии во второй части, где опричники показаны погрязшими в крови и пьянстве, язвительна – ухающая туба представляет приспешников Грозного скорее смешными, чем страшными. Реакция Сталина была предсказуемой. Первая серия получила Сталинскую премию, вторая не вышла на экраны. Посмотрев вторую серию, Сталин сказал: “Иван Грозный был очень жестоким. Показывать, что он был жестоким, можно, но нужно показать, почему необходимо быть жестоким”.
У Прокофьева не было подобных проблем, когда он работал над инструментальными произведениями, по крайней мере какое-то время. Три страстные фортепианные сонаты – Шестая, Седьмая и Восьмая – получили похвалы за воспевание советского подвига, хотя Прокофьев и начал их писать в 1939 году. Подобно этому его Пятая симфония превозносилась как “военная”, хотя по сравнению с “Ленинградской” ей недоставало программности. Это была первая попытка Прокофьева создать масштабное, бетховенское высказывание – предыдущие симфонии были больше похожи на оркестровые сюиты. Вот как выстроена Пятая Прокофьева: размеренная, угрюмая первая часть, здесь содержится намек на мощные силы, готовые прийти в движение; легкое язвительное Scerzo; затем медленная часть в траурных тонах и быстрый, с налетом милитаризма, финал. Как и в случае с Пятой Шостаковича, в конце повисает вопрос. Последняя часть названа Allegro giocoso, и, кажется, она должна привести к веселому, игривому завершению. Тем не менее в коде берет верх пронзительная диссонансная, как будто механическая музыка, напоминая о странной, “дьявольской” манере юного Прокофьева. За одиннадцать тактов до конца возникает неожиданное diminuendo, за которым следует такой звук, будто скрежещут шестеренки. Возможно, этот пассаж должен был отразить представление Сталина о советских людях как о винтиках в гигантской великой машине, но этот ледяной победный нарратив – скорее показной.
Пятая симфония была моментом наибольшего триумфа Прокофьева как советского композитора. Он сам дирижировал премьерой 13 января 1945 года в Большом зале московской консерватории. Как и в случае с ленинградской премьерой Седьмой Шостаковича, сначала зал потряс залп орудий, но теперь это был победный салют: Красная армия в Польше форсировала Вислу. Святослав Рихтер, который был в зале, наслаждался сиянием композиторской славы: “Когда Прокофьев встал, казалось, свет лился прямо на него и откуда-то сверху. Он стоял как монумент на пьедестале”. Позже в том же месяце у Прокофьева случился приступ головокружения, он упал и получил серьезное сотрясение мозга. От его последствий он полностью не избавился. Началась последняя череда неудач.
Дело Жданова
“Чудесное место, – писал американский журналист Харрисон Солсбери в 1954 году, когда посетил Шостаковича на его даче в Болшево. – Здесь большой сад, есть место для игры в волейбол, а в Клязьме можно купаться”. Впервые Шостакович получил дачу в 1946 году. Тогда же ему выделили новую пятикомнатную квартиру в Москве, в ней было сразу три фортепиано – два для композитора и одно для его сына. Шостакович быстро написал благодарственное письмо Сталину: “Все это меня чрезвычайно обрадовало. Прошу вас принять мою самую сердечную благодарность за внимание и заботу. Желаю вам счастья, здоровья и многих лет жизни на благо нашей любимой Родины, нашего великого народа”.
После “Ленинградской” Шостакович восстановил свой статус главного композитора СССР. Один одобряющий знак сверху поступил в 1943 году, когда Шостакович и Арам Хачатурян вместе подали вариант нового советского гимна на конкурс, за которым следил лично Сталин. Хотя он и не победил, Шостакович получил самую большую денежную премию. Он был награжден орденом Ленина, стал депутатом Верховного Совета РСФСР, главой ленинградских композиторов, служил в комитете по Сталинским премиям, был советником министерства кинематографии и, что особенно важно, возглавил класс композиции, который раньше вел Максимилиан Штейнберг в Ленинградской консерватории. Таким образом, он занял кафедру, на которой когда-то стоял учитель Стравинского Римский-Корсаков.
Послышались новые раскаты грома. Рядовые члены Союза композиторов, особенно бывшие члены пролетарских группировок, завидовали дачам, премиям, должностям, беспроцентным кредитам, дополнительным автомобилям и другим привилегиям, которые раздавала друг другу композиторская элита. В то же время в советском искусстве обрела силу новая волна репрессий: началась кампания против “чистого искусства”, “формалистических” и “индивидуалистских” тенденций в творчестве Ахматовой и Зощенко.
На протяжении 1946 и 1947 годов независимо мыслящие советские композиторы подвергались резкой критике, и Шостакович не был от нее защищен. Он уже немного утратил чувство реальности – его Восьмая симфония (1943) потрясла некоторых слушателей необыкновенной мрачностью и чувством горя. Официоз ждал от него реакции на победу в войне – величественной “победной симфонии”, насыщенной хорами и солистами, подобно Девятой Бетховена. Шостакович пообещал и в последнюю военную зиму начал писать первую часть, но по неизвестным причинам прервал работу. Вместо этого он создал подобие анти-Девятой, одновременно сатирическую и меланхолическую сюиту в пяти частях, которая после премьеры ноябре 1945 года вызвала жаркие дебаты. Как предположил в следующем году один критик, Шостакович отпустил амбициозные задачи в отпуск.
Прокофьев тоже попал под пристальное наблюдение. 11 октября 1947 года, ровно через 30 лет после того, как Центральный комитет партии большевиков принял решение свергнуть Временное правительство Керенского, состоялась премьера Шестой симфонии. Она не получила одобрения, как предполагалось. Как и в предыдущей симфонии композитора, в финале происходит какой-то сбой. Эта часть начинается обманчиво весело, очень быстро, с водевильными песенками. Но вступает медь с маршевой музыкой в духе Соузы, изобилующей пронзительными звуками piccolo. Раздается скрежещущий, механический шум, и жизнерадостная атмосфера исчезает в медленной процессии диссонансных аккордов и отвратительно ревущих увеличенных трезвучий. Этот откровенно трагический финал был уместной прелюдией к тому, что вскоре произошло.
Второй кошмар начался 5 января 1948 года с еще одного похода в оперу. На этот раз Сталин и другие члены ЦК пришли в Большой на “Великую дружбу”, оперу о послереволюционном Кавказе ничем не примечательного композитора Вано Мурадели. Членам ЦК снова не понравилось, и у неудовольствия нашлось множество причин: что-то не так с политическими взглядами народов Северного Кавказа, что-то не так с использованием народных танцев. Но это все был лишь предлог. Мурадели был выбран потому, что он мог публично унижаться и перенести обвинения на более серьезные цели – боссов Союза композиторов, которые, потакая своим интересам, потребляли огромные ресурсы.
Движущей силой кампании был Андрей Жданов, руководитель ленинградских коммунистов, который поднялся до уровня второго человека после Сталина. Его прозвали “Пианист” – за скромные способности к музицированию.
В середине января Жданов созвал композиторов в Центральный комитет на трехдневную конференцию. Он критиковал злосчастную оперу Мурадели, цитировал передовицу “Правды” 1936 года и заявил, что “сумбур вместо музыки” жив и здоров. Несколько послушных были готовы сказать формализму нет. “8-я, 9-я, 7-я симфонии Шостаковича будто бы за границей рассматриваются как гениальные произведения. Но давайте спросим, кем рассматриваются?” – сказал композитор-песенник Владимир Захаров. Тихон Хренников, композитор небольшого музыкального и большого политического таланта, выступил с тщательно отмеренной критикой Шостаковича, направленной не столько на самого композитора, сколько на его культ. Хренников сказал: “Ленинградская” подается как сочинение настоящего гения, по сравнению с которым Бетховен щенок”.
Несколько композиторов не побоялись ответить. “Вы не понимаете, о чем говорите, – прервал выступление Захарова один из композиторов. Протестовал Лев Книппер. – Вы не можете все грести под одну гребенку”. Виссарион Шебалин предупредил, что огульные обвинения в какофонии создают атмосферу паники, в которой “услужливые идиоты… могут принести беду”.
Говорят, Прокофьев пришел поздно и продемонстрировал пренебрежение к словам Жданова. В зависимости от того, в какую историю вы хотите поверить, он то ли громко болтал с соседом, то ли заснул, то ли вступил в спор с высокопоставленным чиновником, который обвинил Прокофьева в недостатке внимания. Это все могут быть апокрифы, за десятилетия вокруг советских композиторов накопилось множество слухов, и музыковеды до сих пор пытаются понять, где же правда. Очевидно лишь, что Прокофьев не отнесся к собранию как к возможности извиниться или оправдаться.
Шостакович проглотил гордость. Хоть он и жаловался на самую резкую критику (“товарищ Захаров не очень хорошо подумал, что сказать о советских симфониях”), он выбрал самоуничижительный тон, признав, что некоторые его сочинения имеют недостатки. Вероятно, сработали старые страхи: ситуация вызвала в памяти конец 1930-х, когда исчезло столько близких ему людей. Еще одна смерть привлекла его внимание. В последний день совещания он узнал о неожиданной гибели актера Соломона Михоэлса, основателя Московского еврейского театра, убитого по распоряжению Сталина. Шостакович прямо со Старой площади отправился домой к Михоэлсу. Он сказал: “Я ему завидую”.
10 февраля 1948 года Политбюро ЦК ВКП(б) издал то, что потом назвали “историческим постановлением”. Через четыре дня 42 работы формалистов, включая Шестую, Восьмую и Девятую симфонии Шостаковича, Шестую и Восьмую сонаты Прокофьева и злосчастную Первую симфонию Попова, запретили. За совещанием последовала еще одна конференция – совещание композиторов и музыковедов Москвы, на которой Хренников выступил с речью, осуждавшей все главные сочинения первой половины XX века. На этот раз Прокофьев сказался больным и прислал как будто покаянное письмо, неискренность которого была многим, включая Шостаковича, очевидной. Прокофьев поздравлял идеологов советской эстетики с разработкой концепции музыкальной простоты, к чему он пришел самостоятельно, даже если “невольно” сошел со своего пути и случайно потворствовал “маньеризму” и атональности.
За фасадом невозмутимости скрывался разрушенный дух. Несмотря на годы усилий, Прокофьев не смог добиться полного исполнения своего шедевра “Война и мир”. Первая часть была поставлена в Ленинграде в 1946-м, вторую на следующий год отменили после генеральной репетиции, либретто обвинили в исторических неточностях. Прокофьев сказал коллеге: “Я готов принять провал любого моего сочинения, но если бы вы только знали, как я хочу, чтобы “Война и мир” увидела свет!” Прокофьев так и не стал свидетелем исполнения всей оперы.
За “историческим декретом” последовали и другие плохие новости. 11 февраля, на следующий день после опубликования декрета, от инфаркта умер любимый соавтор Прокофьева Эйзенштейн. Ему было 50. А 20 февраля первая жена композитора Лина Прокофьева по сфабрикованному обвинению в шпионаже была арестована и отправлена в лагерь, где провела восемь лет. Поскольку Прокофьев только что женился на своей давней любовнице Мире Мендельсон, он мог решить, что арест Лины – это садистская манипуляция, хотя недавно раскрытые документы ясно показывают, что это было лишь чудовищным совпадением.
Поведение Шостаковича после выхода постановления было предсказуемым. Он обратился к совещанию композиторов:
Все постановления ЦК ВКП(б) об искусстве за последние годы, и особенно Постановление от 10 февраля 1948 года об опере “Великая дружба”, указывают советским художникам на тот огромный национальный подъем, которым живет в настоящее время наша страна, наш великий советский народ.
Некоторые советские художники, и я в том числе, стремились выразить в своих работах великий национальный подъем. Но между моими субъективными намерениями и объективными результатами оказался вопиющий разрыв.
На отсутствие в моих сочинениях претворения народности – того великого духа, которым живет наш народ, со всей ясностью и определенностью указывает ЦК ВКП (б).
Я глубоко благодарен за это и за всю ту критику, которая содержится в Постановлении. Все указания Центрального комитета, и в частности те, которые касаются меня лично, я воспринимаю как суровую, но отеческую заботу о нас – советских художниках.
Труд, упорный, творческий, радостный труд над созданием новых произведений, которые найдут путь к сердцу советского народа, будут понятны ему и любимы им, которые будут связаны и с народным искусством, развивающимся и обогащающимся великими традициями русской классики, – вот достойный ответ на Постановление ЦК партии.
Мы знаем, что Шостакович свободно изъяснялся на советском официозном языке с его пустыми клише и оцепенелыми повторениями. Если он сам написал речь, то это жанровый шедевр столь ужасной прозы, что она вызывает комический эффект при чтении вслух. Но никто тогда не смеялся.
В апреле 1948 года коварный Хренников занял пост генерального секретаря Союза композиторов. Формалисты были приглашены покаяться на I Всесоюзном съезде композиторов. Большинство не появились – болезнь, поразившая Прокофьева в феврале, распространилась. Как сказал один из делегатов, это был “заговор молчания”. Увы, Шостакович поднялся на трибуну, чтобы произнести еще одно покаяние, которое, как он позже говорил, партийный чиновник сунул ему в руки в последний момент. После коллеги отводили глаза. По его собственным словам, “я читал это как презренный негодяй, паразит, марионетка, бумажная кукла на веревке!”. Он пронзительно кричал эту фразу и повторял ее. Борис Пастернак среди прочих был удручен соглашательством Шостаковича. Он воскликнул: “О боже, если бы они хотя бы молчали! Даже это было бы подвигом!”
Все это время Шостакович продолжал работать. В начале 1948 года он писал Первый скрипичный концерт и, приходя каждый день с сеанса музыковедческой инквизиции, возвращался к тому месту, на котором закончил накануне. Вторая часть впервые демонстрирует то, что стало его музыкальной подписью: ноты ре, ми-бемоль, до и си, в немецкой нотации – DSCH, или Dmitri SCHostakowitsch. Когда началось “дело Жданова”, композитор писал третью часть – неистово печальную пассакалью, которая соединяется с обжигающей сольной каденцией. Однажды он показал композитору Михаилу Мееровичу место, написанное в день публикации “исторического постановления”. “И до и после скрипка играет шестнадцатые, – вспоминал Меерович. – Изменений в музыке не было видно”.
Танец смерти
16 марта 1949 года Шостакович ответил на телефонный звонок и узнал, что с ним будет говорить Сталин. Было слышно, как композитор произносит: “Спасибо, все хорошо”. Это был ответ на вопрос о здоровье. Разговор перешел на Америку. Шостакович нерешительно согласился через месяц поехать в США в составе делегации деятелей науки и культуры, но не понимал, как он может представлять советскую культуру, если его музыка запрещена дома. Он мужественно сказал об этом Сталину. “Кем запрещена?” – спросил Сталин. “Главреперткомом”, – ответил Шостакович. Сталин сказал, что это, должно быть, ошибка и ничто не мешает исполнению его музыки.
В тот же день Совет министров не только отменил запрет на “формалистов”, но и наказал Главрепертком. Документ был подписан самим Сталиным. “Вы меня очень поддерживаете”, – писал Шостакович в благодарственном письме. Он сказал одному из своих студентов, что снова может дышать.
Но Шостакович добился чувства безопасности, только пройдя через полное раздвоение личности. В своих пропагандистских сочинениях он надевал маску оптимиста, но его улыбка была неискренней. Уже в 1948 году Хренников был так впечатлен музыкой Шостаковича к фильму “Молодая гвардия”, что в годовом отчете о творчестве обвиненных в формализме отнес Шостаковича к категории “самых успешных”. (Прокофьев, в свою очередь, был осужден за свою последнюю и худшую оперу “Повесть о настоящем человеке”.) Еще более унизительно эффектной была музыка к “Падению Берлина”, который один киновед назвал “совершенным сталинистским фильмом”. Можно только гадать, что было на душе у композитора, когда он писал музыку к сцене, в которой Сталин ухаживает за деревьями в саду – образ, который, возможно, предполагал вызвать образ Бога в райском саду.
Совершив поворот к патриотическим кантатам и массовым песням, Шостакович продолжал использовать цитаты из финала Пятой симфонии. Концовка “Песни о лесах” (1949) перечисляет славные достижения Родины и Сталина: на словах “Слава мудрому Сталину” литавры выбивают кварту, а медные играют восходящие фанфары. В “Над Родиной нашей солнце сияет” (1952) кварты литавр вступают на слове “коммунисты”. Наверняка Шостаковичу было стыдно за такие самопародии. Как пишет его ученица Галина Уствольская, после премьеры “Песни о лесах” он бросился на кровать и разрыдался.
“Другой Шостакович” был скрытной, загадочной, втайне страдающей личностью, говорившей посредством камерных произведений (12 струнных квартетов с 1948 года), фортепианной музыки (эпический цикл из 24 прелюдий и фуг) и песен. Струнный квартет стал его любимым посредником: он давал возможность писать запутанные повествования, полные почти неподвижных похоронных маршей, искаженных изображений псевдофольклорной радости, эксцентричных упражнений с жанрами и эпизодов сознательной банальности. Одну из любимых композитором манер можно назвать “танец мертвеца” – галопирующий, похожий на польку номер, одинокий персонаж которого принимает смерть с необъяснимой радостью. Такой образ появляется в стихотворении Роберта Бернса “Прощание Макферсона”, которое Шостакович положил на музыку в 1942 году в цикле “Шесть романсов на стихи британских поэтов”. Переложение 66-го сонета Шекспира подходит совсем близко к прямому комментарию о положении искусства под властью Сталина:
- И прямоту, что глупостью слывет,
- И глупость в маске мудреца, пророка,
- И вдохновения зажатый рот,
- И праведность на службе у порока[63].
Интересно, что за четыре года до вторжения нацистов немецкий писатель Лион Фейхтвангер посетил СССР и написал книгу “Москва, 1937”. Она содержит апологию расстрельных процессов, и Сталин распорядился напечатать ее в огромном количестве. В одной главе Фейхтвангер мягко критиковал советскую цензуру. Среди прочего, писал он, “была запрещена необыкновенно хорошая опера”. На полях были слова “И вдохновения зажатый рот”.
Шостакович попытался восстановиться только после смерти Сталина. Десятая симфония, написанная летом 1953 года, могла передать, как и Пятая, все, что композитор “думал и чувствовал” в эти годы. В последней части Шостакович как будто пытается говорить с самим собой, предлагая оптимистическое завершение, но восторг оказывается истерическим и вычурным. Тема DSCH появляется слишком часто и становится клише, надоедливым созвучием. Витиеватые духовые и струнные звучат напоминанием о марше из “Патетической” симфонии Чайковского – еще одно упражнение мрачного автора в радости. Литавры последний раз выбивают DSCH, и звуки растворяются в тумане.
Музыковед Марина Сабинина связывает этот финал с описанием Шостаковичем своей речи на совещании в 1948 году, где он сравнивает себя с “бумажной куклой на нитке”. Она пишет: “Этот мотив звучит странно и механистично, безжизненно, но настойчиво, как будто композитор со страхом и отвращением увидел себя в образе куклы”. Она соотносит сцену с анекдотом о Гоголе – у писателя “была привычка долго смотреть на себя в зеркало, и, совершенно погрузившись в себя, он повторял свое собственное имя с чувством отвращения и отчужденности”. Что ж, кукла выжила и даже может радоваться подобию победы. Возможно, так себя почувствовал Шостакович, узнав о смерти Сталина.
Долгожданная новость прозвучала утром 6 марта 1953 года. Москва мгновенно погрузилась в хаос, тысячи людей толпились у Колонного зала, где было выставлено для прощания тело Сталина, несколько сотен человек погибли в давке. Это событие было настолько значительным, что “Правда” в течение пяти следующих дней не удосужилась сообщить о смерти Сергея Прокофьева. Святослав Рихтер услышал о смерти Прокофьева, возвращаясь в Москву, чтобы играть на похоронах Сталина: он был единственным пассажиром в самолете, заполненном венками.
Около тридцати человек пришли проститься с Прокофьевым. Квартету им. Бетховена было указано играть Чайковского, хотя Прокофьев никогда не любил этого композитора. Позже квартет исчез в толпе – ему нужно было играть ту же музыку для Сталина. Катафалку не разрешили подъехать к дому Прокофьева, и гроб несли на руках по улицам, запруженным толпами и танками. Когда толпа двигалась по улице Горького к Колонному залу, тело Прокофьева несли по пустой улице в противоположном направлении.
Шостакович был среди скорбящих. В последние годы он и Прокофьев стали ближе друг другу, особенно после 1948 года. Последние сочинения Прокофьева, менее жесткие по структуре, но по-прежнему пульсирующие лирической силой, завораживали Шостаковича, когда он задумывался о новых путях своей музыки. В октябре 1952 года после премьеры Седьмой симфонии Прокофьева – нежного, задумчивого прощания с миром – Шостакович отправил трогательное и неожиданно непосредственное поздравительное письмо: “Я желаю вам жить и творить по меньшей мере еще сто лет. Когда слушаешь такие сочинения, как ваша Седьмая симфония, становится гораздо легче и радостнее жить”. Через пять месяцев его сфотографировали стоящим у гроба Прокофьева. Лицо Шостаковича было бесцветным и непроницаемым.
Глава 8
Музыка для всех
Музыка в Америке Франка Делано Рузвельта
В 1934 году Арнольд Шенберг переехал в Калифорнию, купил “форд седан” и заявил: “Меня изгнали в рай”. В начале 1940-х, когда Советский Союз, нацистская Германия и зависимые от них государства заправляли Европой от Мадрида до Варшавы, толпы культурных светил искали убежища в США, где их встречали с многозначительной иронией. Европейцы издавна изображали Америку пустыней вульгарности; культ доллара рано свел Густава Малера в могилу, по крайней мере так утверждала его вдова. Теперь, когда Европа оказалась во власти тоталитаризма, Америка неожиданно стала последней надеждой цивилизации. Импресарио и сионист Меир Вайсгаль в телеграмме австрийскому режиссеру Максу Рейнхардту выразил это следующим образом: “ЕСЛИ ВЫ НЕ НУЖНЫ ГИТЛЕРУ, ВАС ВОЗЬМУ Я”. Многие выдающиеся композиторы начала XX века – в том числе Шенберг, Стравинский, Барток, Рахманинов, Вайль, Мийо, Хиндемит, Кшенек, Эйслер – обосновались в Соединенных Штатах. Целые артистические сообщества Парижа, Берлина и бывшего Санкт-Петербурга были воссозданы в окрестностях Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Сама Альма Малер находилась среди эмигрантов; она бежала от немецкого вторжения во Францию, пешком перебравшись через Пиренеи вместе со своим последним мужем Францем Верфелем и в конце 1940 года поселилась на Лос-Тилос-роуд в Голливуд-Хиллс.
То, что такие в корне разные личности, как белогвардеец Стравинский и убежденный коммунист Эйслер, на время почувствовали себя в Америке как дома, было результатом правления Франка Делано Рузвельта, президента США с 1933 года до самой смерти в 1945-м. Аристократ со склонностью к популизму, Рузвельт воплощал впоследствии названное “среднекультурностью” видение американской культуры, которое заключалось в том, что демократический капитализм, работающий в полную силу, вполне можно примирить с высокой культурой европейского пошиба.
В 1915 году критик Ван Вик Брукс жаловался, что Америка находится в ловушке фальшивой дихотомии высокая культура / низкая культура, академическая педантичность / уличный сленг. Он призывал к культуре компромисса, в которой сольются интеллектуальное содержание и способность к общению. В 1930-е “среднекультурность” превратилась в своего рода национальное развлечение: симфоническую музыку передавали по радио, литературные произведения предоставляли сюжеты для голливудских фильмов категории А, романы Томаса Манна и других эмигрантов распространялись через клубы “Книга месяца”.
Приток европейских гениев совпал с расцветом местных сочинителей. В 1837 году Ральф Уолдо Эмерсон посоветовал американским художникам и интеллектуалам не обращать внимания на муз Европы; в начале 1940-х годов XX века музы готовились к сдаче экзаменов на получение американского гражданства, а молодые американские композиторы обрели собственный голос. Аарон Копланд писал музыку, прославлявшую Дикий Запад, родео, Авраама Линкольна и мексиканские салуны. Вместе с Сэмюэлом Барбером, Роем Харрисом, Марком Блицстайном и другими коллегами, которые в большей или меньшей степени были его единомышленниками, Копланд обращался к массам при помощи радио, пластинок, кинематографа и, что удивительно, самого американского правительства. Администрация общественных работ (Works Progress Administration), организованная в 1935 году, запустила амбициозную программу федеральных художественных проектов, и за два с половиной года около 95 миллионов человек посетили представления Федерального музыкального проекта. Народные массы завладели искусством, которое до этого принадлежало элите.
Отсюда и возбуждение, которое испытывал Блицстайн в 1936 году, когда написал статью под названием “Пришествие массовой аудитории!” для журнала Modern Music: “Огромное количество людей вошло наконец в мир серьезной музыки. За это ответственны радио, звуковые фильмы, летние концерты, растущий аппетит, множество всего, а на самом деле – факт искусства и развивающийся мир. Это невозможно остановить, как невозможно остановить лавину”.
Массовая аудитория пришла, но не осталась. Не успела классическая музыка стать массовой, как перед ней возникли непреодолимые препятствия. Одно из них было политическим. Популисты типа Блицстайна поддерживали не только туманную социально-демократическую риторику “Нового курса” Рузвельта, но и полукоммунистические доктрины Народного фронта. Когда в 1938 году “Новый курс” подвергся политической критике, Рузвельт быстро пошел на попятную, позволив федеральным художественным проектам развалиться, и картинка вдруг оказалась совсем не такой привлекательной.
Существовала и другая, более глубокая проблема реального места классической музыки в американской культуре. В каком-то смысле американцы, казалось, не верили, что европейская форма искусства может выразить их суть; для большинства Дюк Эллингтон или Бенни Гудмен были более убедительным музыкальным ответом на обращение Эмерсона к американским интеллектуалам. Тем не менее у Копланда и других представителей его поколения получилось сочинить музыку, настолько заряженную патриотическим чувством, что она звучит и сейчас. Во времена Великой депрессии и Второй мировой войны классическая музыка независимо от того, была ли она в форме бетховенских симфоний или балетов Копланда, выражала американский девиз “это наше общее дело” и демонстрировала, как индивидуальные усилия могут объединиться “в общей дисциплине”, как сказал Рузвельт в инаугурационной речи в 1933 году. Та музыка не утратила своей объединяющей силы. Всякий раз, когда американская мечта терпит катастрофическую неудачу, Adagio для струнных Барбера передают по радио.
Музыка на радио
В начале 1920-х три крупных технологических достижения изменили музыкальный мир. Во-первых, электрическая звукозапись позволила добиться необыкновенной живости и динамического диапазона звучания. Во-вторых, радиопередача позволила осуществлять живые трансляции музыки с побережья на побережье. В-третьих, звук пришел в кинематограф. Общим для всех этих достижений было появление микрофона, который выпустил классическую музыку из заключения в элитных концертных холлах и, как следствие, из сферы влияния городских жителей и богачей. Миллионы, которые Бетховен мечтал охватить своей “Одой к радости”, объявились в рейтингах Хупера – до 10 миллионов во время трансляций выступлений Тосканини с симфоническим оркестром NBC и еще больше на трансляциях из “Метрополитен-опера”.
Появление грамзаписи породило лихорадочную перезапись классического репертуара для оркестров. Леопольд Стоковский и его Филадельфийский оркестр первыми выпустили пластинку с “Пляской смерти” Сен-Санса в июле 1925 года. Тосканини не отставал и при рекламной поддержке радио и звукозаписывающего конгломерата NBC и RCA продал около 20 миллионов пластинок. Первая общенациональная радиотрансляция NBC состоялась в ноябре 1928 года; транслировался концерт Нью-Йоркского симфонического оркестра под управлением Вальтера Дамроша, гениального дирижера и лектора, который стал полноправной радиозвездой. Соперничающая сеть CBS начала работу в 1927 году с трансляции оперы Димса Тейлора “Оруженосец короля”. Звук в кино дал работу группе композиторов, которые дополняли действия на экране оркестрами. Вопреки легенде, возглас Эла Джолсона “Погодите! Вы еще ничего не слышали!” не был первым американским опытом в звуковом кино; в 1926 году Warner Bros. сотворила национальную сенсацию, выпустив фильм “Дон Жуан” с бравурным, синхронизированным аккомпанементом Нью-Йоркского филармонического оркестра.
До какой-то степени радиомода на классическую музыку была продиктована американской публике сверху. Одна из причин моды была практической: студии боялись, что правительство приберет к рукам радиоиндустрию, и, передавая классическую музыку, демонстрировали готовность “служить обществу”, таким образом предотвращая угрозу. Вторая причина была культурной: управляющие радиостанциями и звукозаписывающими компаниями были от рождения склонны поддерживать классические передачи вне зависимости от того, требовала ли их публика. Многие из них были эмигрантами или первым поколением, родившимся у родителей-эмигрантов, и они считали свое право на Бетховена и Чайковского неотъемлемым. Дэвид Сарнов, один из пионеров радио, вышедший из той же русско-еврейской среды Нью-Йорка, что и Джордж Гершвин, в 1915 году заявил, что одним из достоинств “радиошарманки” является возможность для сельских жителей наслаждаться симфониями у камина. К 1921 году Сарнов стал главным управляющим Американской радиокорпорации, а пять лет спустя создал NBC. Все это время он настаивал на том, что радио должно стремиться к обучению и культуре. “Я рассматриваю радио как своего рода очищающий инструмент для ума, – сказал он однажды, – такой же, как ванна для тела”.
И все же, даже без подсказок директоров с радио, американцы того времени жадно искали культурного самосовершенствования, которое, как считалось, способна дать классическая музыка. Идеал “среднекультурности” должен был быть утонченным, без претенциозности, светским, но не упадочным, и классическая музыка с американским акцентом отвечала этим требованиям. Сеть Blue (NBC) могла в один день передавать матч Огайо-Индиана, а в другой – сольный концерт Лотты Леманн. Бенни Гудмен записывал и Моцарта, и свинг. Получивший классическое образование композитор Мортон Гулд был звездой передачи Cresta Blanca Carnival, а Гарольд Шапиро переключался со свинга на неоклассические композиции. Аллан Шульман, виолончелист Симфонического оркестра NBC, писал “серьезную” музыку, присоединился к джазовому ансамблю New Friends of Rhythm (их прозвали “Пижоны Тосканини”) и выступал наставником мастера поп-аранжировок Нельсона Риддла.
Тосканини, которого Сарнов представил национальной аудитории NBC на Рождество 1937 года, был самой крупной радиозвездой. По окончании первого сезона New York Times тяжеловесно комментировала: “Вагнер, Бетховен, Бах, Сибелиус, Брамс приходят на многие отдаленные фермы и во многие простые дома”. Радиоидиллия Сарнова была претворена в жизнь.
Проблема заключалась в том, что Тосканини не мог сделать классическую музыку американской. Согласно списку фамилий из New York Times, репертуар маэстро состоял из произведений европейских композиторов и заканчивался там, где замолкал Сибелиус. Все время пребывания на посту главного дирижера Нью-Йоркского филармонического оркестра с 1926 по 1936 год Тосканини неделю за неделей игнорировал американскую музыку, исполнив лишь шесть американских композиций за десять лет. Он почти не выказывал интереса к живым композиторам любой национальности, не считая нескольких итальянцев, с которыми был знаком лично. На NBC его вкусы стали несколько шире, и небольшое число американских сочинений – Третья симфония Роя Харриса, “Мексиканский салун” Копланда, Adagio для струнных инструментов Барбера и “Американец в Париже” Гершвина – появлялись в его программах. Но в обычные вечера победу одерживали Бетховен и Брамс.
Два других известных дирижера, Леопольд Стоковский, который какое-то время работал содирижером Симфонического оркестра NBC, и Сергей Кусевицкий, руководивший Бостоноским симфоническим оркестром, относились к новым и американским произведениям с гораздо большим уважением. “Следующий Бетховен должен прийти из Колорадо”, – заявил Кусевицкий. К концу своего 25-летнего бостонского правления этот русский эмигрант сыграл 85 премьер американских произведений и 195 американских сочинений в целом. Он также заказал такие интернациональные шедевры, как “Симфония псалмов” Стравинского, Концерт для оркестра Бартока, “Питер Граймс” Бриттена и симфонию “Турангалила” Мессиана. Стоковский, который в 1920-е поддерживал Эдгара Вареза и других ультрасовременных композиторов, представил две крупные новые работы Шенберга – Концерт для скрипки и Концерт для фортепиано. Вдвоем Стоковский и Кусевицкий создали основу репертуара середины XX века. Тем не менее у них не получилось пробудить интерес у основателей и глав корпораций, покупавших рекламное время. Поддержка, оказываемая Стоковским новой музыке, по некоторым сообщениям, насторожила глав General Motors, спонсировавшей Симфонический оркестр NBC. Несколько месяцев спустя, после премьеры Концерта для фортепиано Шенберга, было объявлено, что контракт Стоковского продлен не будет, и композиторы потеряли своего главного защитника.
Теодор Адорно и Вирджил Томсон – тот же мрачный дуэт, что пытался уничтожить Сибелиуса, – насмехались над Тосканини, музыкальными лекциями Вальтера Дамроша для детей и прочими примерами шумихи вокруг классической музыки. Их диатрибы отличались в высшей степени снобистским тоном: “Очень сомнительно, – фыркал Адорно, – что мальчишка в метро, насвистывающий под нос главную тему Первой симфонии Брамса, был на самом деле увлечен этой музыкой”, но, несмотря на это, критика “среднекультурности” иногда попадала прямо в цель. Специализирующиеся на классике компании, отмечал Томсон, ограничиваются репертуаром в 50 шедевров, потому что их проще всего продать. К тому же отсутствие поддержки нового неумолимо вело к закату классической музыки как популярного средства развлечения, так как ничто не связывало ее с современной жизнью. Почтенная форма искусства была готова превратиться в очередное мимолетное увлечение прожорливого общества потребления.
Молодой Копланд
Аарон Копланд едва ли соответствовал роли Великого Американского Композитора. Высокий, гибкий мужчина в очках, c угловатым лицом напоминал неловкого офисного клерка из жанрового голливудского фильма. Он был сыном русско-еврейских эмигрантов, он был левым, он был гомосексуалистом. Тем не менее его притязания на исчезающую мифологию Дикого Запада и фронтира были оправданны. В конце XIX века его дедушка по материнской линии Аарон Миттенталь был владельцем магазина в Далласе, недалеко от жестяной лавки В.-Р. Хинкли и оружейного магазина Ott & Pfaffle. Согласно семейной легенде, Миттенталь однажды нанял бандита Фрэнка Джеймса, брата знаменитого Джесси.
Копланд слышал рассказы о Диком Западе, но его детство прошло в Бруклине. Его отец руководил универмагом на углу Дин-стрит и Вашингтон авеню, семья жила над магазином. Копланд впоследствии описывал свой район как “просто скучный” и утверждал, что не получил там никакого музыкального импульса, хотя вряд ли он мог как-то избежать влияния разнообразных популярных и классических мелодий, оживлявших Бруклин и Манхэттен на рубеже веков.
Происхождение Копланда было по воле случая очень схоже с происхождением Джорджа Гершвина. Оба родились в Бруклине, с разницей чуть больше двух лет. Оба учились музыке у человека по имени Рубин Голдмарк. В юности они часто ходили в одни и те же забегаловки. Гершвин посещал сольные концерты в универмаге Уонамейкера, и именно там в 1917 году состоялся дебют Копланда. Копланд отметил некоторые из этих совпадений в мемуарах, но утверждал, что никакой личной связи между ними не возникло: “Когда мы в конце концов встретились на какой-то вечеринке, мы не нашли что сказать друг другу”. Каждый мог завидовать превосходству другого – интеллектуальным притязаниям Копланда или богатству и славе Гершвина.
В то время как Гершвин совершенствовал свой профессионализм на задворках Tin Pan Alley, Копланд избрал более традиционный, европейский путь обучения. В 1921 году, в возрасте 20 лет, он посещал Американскую консерваторию в Фонтенбло, недалеко от Парижа, где погрузился в карнавал стилей 1920-х годов. Прогуливаясь по городу в первый день, он увидел афишу Шведского балета и высидел до конца на представлении абсурдистского балета Кокто “Новобрачные на Эйфелевой башне” с музыкой пяти участников “Шестерки”. За следующие три года он продемонстрировал безупречный вкус в выборе концертов, посетив премьеры “Сотворения мира” Мийо, “Свадебки” и Октета Стравинского и “Пасифик 231” Онеггера, а также парижскую премьеру “Лунного Пьеро”. В книжном магазине “Шекспир и К” он робко приблизился к Джеймсу Джойсу, чтобы задать ему вопрос о музыкальном отрывке из “Улисса”. В общем, он был в самом центре событий, хотя больше наблюдал, чем участвовал, – это его соученик Вирджил Томсон протанцевал всю ночь на “Быке на крыше”.
Учителем Копланда была Надя Буланже – органист, композитор, преподаватель, которая отполировала сочинительские таланты половины крупных американских композиторов подрастающего поколения – Копланда, Томсона, Харриса, Блицстайна и других. Через Буланже Копланд впитывал эстетику 1920-х – неприятие немецкой напыщенности, стремление к ясности и изяществу, культуру барочных и классических форм. Иначе говоря, Буланже проповедовала Евангелие от Игоря Стравинского. Если взять произведение Стравинского, такое как Октет или Симфония для духовых инструментов, немного смягчить жестко выдержанную структуру и вставить несколько мелодий из гимнов Новой Англии или городского джаза, то получится начало таких сочинений Копланда, как “Билли Кид” или “Весна в Аппалачах”. Весь его стиль прячется в “Пасторали” из “Истории солдата”.
В 1923 году Буланже оказала Копланду огромную услугу, представив его Кусевицкому, который, как она слышала, в следующем сезоне должен был стать руководителем Бостонского симфонического оркестра. Прослушав, как Копланд отбарабанил на пианино свой Cortge macabre (в тот момент в комнате также находился Прокофьев), Кусевицкий предложил ему написать произведение для органа и оркестра с Буланже в роли солистки. Вальтер Дамрош также предложил молодому композитору место в концертах с Нью-Йоркским симфоническим оркестром. Таким образом, исполнение Симфонии для органа и оркестра Копланда было запланировано сразу в Бостоне и Нью-Йорке – сенсационный дебют для 24-летнего композитора. Симфония начинается в атмосфере всеобъемлющей загадочности с мелодичной, двойственной темы флейты, разворачивающейся на фоне альтов. Весь финал пронизан действием, движением, танцем, солирующий инструмент звучит уе не как глас Божий, но как ярмарочный орган. Путешествие от ночной медитации к коллективному празднику напоминает американские пасторали Айвза, но Копланд осуществляет свой замысел с ясностью и экономностью, которые делают честь его французскому образованию.
Копланд обладал необычной склонностью к низкому искусству организации и рекламы. Он признавал, что композиторы вряд ли добьются массового успеха, если не объединятся по примеру “Шестерки” в Париже. “Дни американского композитора-беспризорника закончились”, – писал он в 1926 году. Такие заявления уже звучали раньше, но Копланд приблизил их к реальности. Он помог Кусевицкому создать эпохальную американскую программу в Бостоне и стал центральной фигурой Лиги композиторов, сформированной в качестве альтернативы модернистскому и расистскому Интернациональному союзу композиторов. (Карл Рагглз немедленно обозвал Лигу “грязной кучкой джуллиардовских евреев”.) С Роджером Сешнзом, еще одним музыкальным энтузиастом из Бруклина, он организовал совместные концерты, которые стали попыткой преодолеть расхождения между модернистами и популистами. Дух товарищества и безрассудства властвовал среди молодых американских композиторов. Вирджил Томсон впоследствии называл эту группу “боевой единицей” Копланда.
Копланд приобрел скандальную известность двумя композициями, написанными под влиянием джаза, – “Музыкой для театра” (1925) и Концертом для фортепиано (1926). Хотя его понимание джаза было не многим глубже того, что имелось у его парижских современников (“Он начался, я полагаю, со скучного тамтама какого-нибудь негра в Африке”, – писал композитор), ему удалось ощутимо встряхнуть американскую концертную музыку. Пронзительные блюзовые риффы его Концерта для фортепиано указали дорогу “Вестсайдской истории” Леонарда Бернстайна, а кульминационная тема “Бурлеска” из “Музыки для театра” звучит как Ol’ Man River Джерома Керна, написанная двумя годами позднее. По замечанию биографа Копланда Говарда Поллака, пикантный намек на стриптиз в названии слышен и в бурлящей, развязной оркестровке.
“Освоив” джаз, Копланд двинулся в сторону диссонансного высокого модерна. Его “Вариации для фортепиано” (1930) представляют собой целостный шедевр, превосходящий ультрамодерновых Вареза и Рагглза в жесткости нападения. В основе “Вариаций” лежит размашистый мотив из четырех нот – ми, до, ре-диез, до-диез октавой выше, – который Копланд, возможно, извлек из медленной части Октета Стравинского. Эта тема подчинена строгому ряду преобразований, которые иногда приближаются к додекафоническому методу. К финалу музыка идет в тональном направлении: главные трезвучия ля мажор и ми мажор звенят на высоких частотах, хотя резкие диссонансы тоже присутствуют. Новая американская гармония, дерзкая и блюзовая, вырастает из первобытного хаоса.
Ранние работы Копланда были с восторгом встречены прогрессивными критиками. Пол Розенфелд, боготворивший Вареза, называл их “резкими и торжественными, как изречения погруженных в раздумья раввинов”. Но погружением в раздумья нельзя было оплачивать счета. В 1938 году, как сообщает Поллак, на счете композитора было 6 долларов 93 цента, и он задавался вопросом, стоит ли ему искать убежища в академизме. Он продолжал бороться с ощущением духовной пустоты и социальной бесполезности. “Я мог бы принуждать себя, – писал он в дневнике, размышляя о возможности напиться. – Я постоянно боюсь, думая, будто знаю себя, т. е. целиком нормального себя, что я ограничиваю те скрытые возможности, которые у меня могут быть”. В рождественский день 1930 года он написал: “Как можно обогатить свой жизненный опыт? Эта проблема глубоко меня интересует. Помогла бы недельная работа посудомойкой или тюремный срок? Или метод Гурджиева?” Вскоре Копланд найдет ответ на эти животрепещущие вопросы: его духовное погружение, его пьяные приключения примут форму левацкой политики.
Музыка Народного фронта
24 октября 1929 года с Уолл стрит сообщили об убытках в 9 миллиардов долларов за несколько часов – так началась Великая депрессия. Экономический коллапс пошатнул городскую элиту Америки, но не шокировал фермеров и сельскохозяйственных работников, оставшихся без позолоты в “позолоченный век” и без бури в “бурные двадцатые”.
Большинство сельских американцев по-прежнему были частью аграрного общества, живя по большей части без электричества и водопровода. В последние годы XIX века недовольство власть имущими породило Народную, или Популистскую, партию, в которой смешались утопический социализм с религиозным возрождением и старомодной демагогией. Популизм стал первым эффективным прогрессивным движением в американской политике, несмотря на то что так и не получил распространения на национальном уровне. Ключевым в риторике популистов было сращение центральной части государства с Диким Западом, где, как считалось, подлинный американский дух сопротивлялся вторжению промышленного капитализма. Популизм стал частью массовой культуры с началом Великой депрессии, изменив лексикон городских интеллектуалов и политиков-демократов. Рузвельт в своей первой инаугурационной речи имитировал популистский жаргон, когда порицал “деятельность бессовестных менял” и требовал “наделить землей тех, кто лучше всех готов ее использовать”.
Согласно опросам, четверть американцев хотели иметь социалистическое правительство и еще четверть “непредвзято” относились к такой возможности. Эта статистика подала Москве идею, что Америка созрела. Уильям Фостер и Джеймс Форд участвовали в президентских выборах 1932 года как первые серьезные кандидаты от коммунистической партии. Форд стал также первым афроамериканцем, чье имя появилось в президентском бюллетене, так как Коминтерн решил, что негры могут сыграть важную роль в общем деле. Многие представители гарлемского ренессанса, включая Дюка Эллингтона, в большей или меньшей степени связывали себя с коммунизмом. Но в 1932 году коммунисты получили мало голосов, для Америки Рузвельт был уже достаточно радикален.
В середине 1930-х из Москвы пришла новая директива: западные коммунисты должны наладить отношения с другими левыми группами, чтобы добиться более глубокого проникновения во властные структуры. Из этой директивы возник Народный фронт, который объединил левые партии вокруг ограниченного набора профсоюзных, антифашистских и антирасистских позиций. Американская коммунистическая партия под предводительством Эрла Браудера взяла на вооружение лозунг “Коммунизм – это американизм XX века”. Такие формулировки очаровывали наиболее спокойных участников коалиции Народного фронта – тех, кто представлял себе скорее постепенное взаимопроникновение советских и американских ценностей, чем свержение правительства. Майкл Деннинг в своей книге “Культурный фронт” доказывает, что участники Народного фронта и их советские товарищи манипулировали друг другом в равной степени. Американцы пользовались интеллектуальными ресурсами СССР и их финансами, преследуя при этом собственные интересы.
Однако Народный фронт был закрытым мирком фанатиков, преданно воспроизводя худшее из советского образа мыслей. Идеологи поощряли конформизм и препятствовали нонконформизму, даже если это означало обличение вчерашнего конформизма как нонконформизма и наоборот. Большинство американских коммунистов отказывались признавать жестокость сталинского режима, даже если ее свидетельства подсовывали им под нос. После того как в 1936 году был подвергнут остракизму Шостакович, журналист New Masses Джошуа Куниц процитировал успокаивающие слова молодого коммуниста: “Не беспокойтесь. Не будет крови, тюрьмы, краха и тьмы. Товарищи, которые того заслуживают, будут подвергнуты критике. И все”. (Куниц донес эти объяснения до ньюйоркцев в мае 1936 года на лекции “Правда о Шостаковиче”, за которой последовали фуршет и танцы.) Другие знали о репрессиях, но предпочли просто принять их. В 1933 году New Masses предложила читателям задать себе зловещий вопрос: “Основываясь не на моих словах или мыслях, но на ежедневных делах, дали бы мне рабочие, лидеры будущего американо-советского правительства, ответственную должность или послали бы меня в концлагерь для классовых врагов?” В своем самом пугающем виде американский коммунизм демонстрировал своего рода готовность к саморепрессиям.
Ответственным за координацию интернациональной коммунистической деятельности в области музыки был Ганс Эйслер. Daily Worker провозгласил этого берлинского смутьяна донацистских времен “главным революционным композитором… горячо любимым народными массами всех стран”. В роли председателя Интернационального музыкального бюро Комминтерна Эйслер дважды посещал Америку в 1935 году и читал лекции в Нью-Йорке, в Новой школе социальных исследований и в мэрии. Последнее выступление потрясло местных композиторов, в том числе Копланда и Блицстайна. Эйслер заявил, что современные композиторы стали роскошными инструментами капиталистической системы – “наркодилерами”, и если они хотят вырваться из своей темницы, они должны взять на себя новые социальные функции. Композиторам было сказано оставить чисто инструментальную музыку ради более “полезных” форм – рабочих песен и хоров, театральных произведений, критикующих социальную систему. В другой лекции Эйслер прямо заявил, что “современный композитор должен превратиться из паразита в бойца”.
Чарлз Сигер и его жена Рут Кроуфорд, два типичных левых композитора, так боялись впасть в грех формализма, что почти совсем запретили себе писать музыку. Сигер, происходивший из старой семьи из Новой Англии, начинал как модернист в стиле Айвза и сформулировал метод “диссонансного контрапункта”, который был широко распространен среди молодых ультрамодерновых композиторов. Его лучшей ученицей была Кроуфорд, девушка из Чикаго, которая начала учиться у него в конце 1929-го и вскоре влюбилась в него. Эта честная, самоотверженная женщина написала впоследствии несколько самых по-византийски усложненных произведений своего времени. В “Струнном квартете” (1931) высота звука, ритм, продолжительность звучания, динамика предвосхищают авангардную музыку послевоенного периода; в “Хорале 3” женский хор разделен на 12 партий, каждой присвоена отдельная хроматическая нота в вариативной полиритмической организации целого. Даже позволяя себе удовольствие заниматься такими экспериментами, Кроуфорд придавала ясную нарративную форму своему материалу. Медленная часть “Квартета” разворачивается как непрерывная волна звука, и ее сложность скрыта под мягко переливающейся поверхностью.
Рут и Чарлз поженились в 1932 году и приблизительно в это же время подпали под влияние коммунистической идеологии. Чарльз помог основать новую организацию, Композиторский коллектив (Composers’ Collective), вел колонку в Daily Worker и написал песню “Ленин! Кто этот парень” (Lenin! Who’s That Guy). Но самым важным было то, что он предпринял попытку собрать американские народные песни, объединившись с Джоном и Алексом Ломаксами, отцом и сыном, которые уже собирали и записывали традиционную музыку на Юге и Западе.
Джудит Тик, автор биографии Рут Кроуфорд, трогательно описывает стадии, через которые прошла Рут, теряя желание творить. Какое-то время она работала над вторым квартетом, в котором должны были соединиться современные техники и народные источники в “сочетании простоты и сложности”, но этот квартет никогда не был написан. Ее уверенность в себе подорвала пещерная вера ее мужа в то, что “женщина не способна писать симфонии”, и она посвятила себя тщательному переложению народных песен. Ее труд опубликован в двух антологиях Ломакса – “Наша поющая страна” (Our Singing Country) и “Народная песня США” (Folk Song USA), которые стали библиями послевоенного возрождения народной песни (одним из его лидеров был Пит, пасынок Рут). Только после войны к ней вернулся интерес к сочинению музыки, и в 1952 году она закончила “Сюиту для духового квинтета”. Но в следующем году она умерла от рака. Так закончилась карьера одной из самых значительных женщин-композиторов первой половины XX века.
Копланд склонялся к левой идеологии с тех пор, когда он играл на фортепиано в финском Социалистическом союзе. Во время путешествий в Европу в 1927 и 1929 годах он познакомился с Mahagonny Songspiel и “Трехгрошовой оперой” и задумался, как композитор может объединить социальную критику и обращение к широкой аудитории. Позже, в 1930 и 1931 годах, он посещал собрания “Группового театра” Гарольда Клурмана, регулярными соавторами которого выступали такие выдающиеся театральные деятели, как Клиффорд Одетс, Максвелл Андерсон, Ли Страсберг, Стелла Адлер и Элиа Казан.
Копланд, который был соседом Клурмана по комнате в Париже, стал стойким приверженцем “Группового театра”: он искал помещения для собраний, определял потенциальных спонсоров, предлагал финансовую помощь из своих собственных, почти пустых карманов.
В “Групповом театре” была своя коммунистическая ячейка, но большинство членов проекта воспринимали его с точки зрения эстетики – как попытку нивелировать бегство интеллектуалов от общества. Одетс, который добился успеха в 1935 году со своей пьесой в защиту профсоюзов “В ожидании Лефти”, был одержим фигурой Бетховена, который олицетворял для него не только триумф гения, но и трагедию изоляции. “[Бетховен] был первым великим индивидуалистом в искусстве, – писал Одетс. – Сейчас мы сцепились в мертвой хватке с нашими индивидуальностями и снова возвращаемся к социальным проблемам. Называйте это коммунизмом, называйте это “Групповым театром”, называйте это фермерской жизнью, но художники снова возвращаются к истинным корням, к первоосновам”.
Политические темы проникают в произведения Копланда в начале и середине 1930-х. В балете “Слушайте меня, слушайте меня!” использована искаженная версия The Star-Spangled Banner, чтобы передать, по словам самого Копланда, “коррупцию правовой системы и суда”. Клурман, вполне вероятно, воспринимал оркестровую пьесу “Утверждения” как портрет Америки времен Великой депрессии, c напоминающим Шостаковича Scerzo (Jingo), высмеивающим пустой шовинизм “бурных двадцатых”. Часть “Догматическая” цитирует “Вариации для фортепиано”, выкрикивая основную тему, как если бы она была лозунгом для демонстрации. Приблизительно в это время Чарлз Сигер заметил, что переехал из “башни из слоновой кости поближе к пролетариату”. Во время поездки в Миннесоту летом 1934 года Копланд вошел в пролетарскую среду, выступив на настоящем политическом съезде Коммунистической партии США. Так он описывал это в письме другу:
Мы познакомились с фермерами-коммунистами из этих мест, посетили круглосуточное собрание избирательной кампании коммунистического подразделения, разделили с ними пикник-ужин, и я произнес свою первую политическую речь! Если они казались мне странными, то не менее странным для них был я. Многие из них видели “интеллектуала” впервые в жизни. Понимаешь, меня постепенно затягивало в политическую борьбу вместе с крестьянством! Жаль, что ты не видел их – настоящее третье сословие, тот самый тип, что делает революцию… Когда С. К. Дэвис, коммунистический кандидат в правительство Миннесоты, приехал в город и произнес речь в городском парке, фермеры попросили и меня сказать речь перед толпой. Одно дело думать о революции и говорить о ней со своими друзьями, но проповедовать ее на улицах – ВО ВЕСЬ ГОЛОС, – что ж, я произнес свою речь (Виктор считает, что хорошую), и я, возможно, никогда не буду прежним.
В этой истории есть доля выдумки. Это – экстравагантное воплощение в жизнь идеи Копланда о “возвращении в реальность” посредством мытья посуды. От наставлений крестьянству разит городской снисходительностью. И все же Копланд вышел из этих политических игрищ переполненным замыслами.
Ключевыми в трансформации Копланда стали его приключения к югу от границы, в Мексике. Впервые он отправился туда по приглашению мексиканского композитора Карлоса Чавеса в 1932 году и был признателен за преклонение Чавеса и других. “Наконец-то я нашел страну, в которой я так же популярен, как Гершвин!” – писал он Кусевицким. Национальную революционную партию, находившуюся у власти, сложно было назвать образцом демократической мысли, но ее культурные подразделения действительно продвигали программу “искусство в массы” по типу проектов Кестенберга в Берлине и Луначарского в России. Хосе Васконселос, мексиканский министр образования с 1921 по 1924 год, призвал Диего Риверу и других мексиканских художников создавать фрески с изображениями рабочих, крестьян и других реальных персонажей. Музыкальными аналогами художников были твердо дисциплинированный Чавес, в основе лаконичных ладовых мелодий которого лежала народная музыка американских индейцев, и его менее организованный коллега Сильвестре Ревуэльтас, который пал жертвой алкоголя в процессе овладения мастерством. Произведение Ревуэльтаса “Ночь Майя” (1939), задуманное сначала как музыка к фильму, обрело вторую жизнь в форме симфонического полотна в духе Малера, двигаясь от целенаправленно кичевых танцевальных моментов к фрагментам откровенно романтических ламентаций и дальше к пугающей вакханалии майя с побочным эффектом полиритмической неразберихи.
Возбужденный мексиканской сценой, Копланд начал набрасывать симфоническую поэму “Мексиканский салун”, которая шесть лет спустя принесла ему долгожданную популярность. “Салун” с избытком наполнен мексиканскими мелодиями и ритмами. В то же время он сохраняет риторическую напористость ранних модернистских произведений композитора. По замечанию Майкла Тилсона Томаса, живые, подпрыгивающие фразы в начале “Мексиканского салуна” напоминают пассажи из “Вариаций для фортепиано”. Так же как ораторские четвертные заявления тромбонов и валторн на последних страницах вызывают в памяти неровные фанфары, начинающие “Симфоническую оду” конца 1920-х. Такие приемы служат для остранения фольклорного материала, для изъятия его из сферы перетасованных клише. Как пишет историк Элизабет Крист, “Салун” – это утопическая попытка синтеза до– и постиндустриальных культур, “сельских жителей и городского пролетариата”. Крист добавляет, что, когда музыка отделена от своего политического контекста, она скатывается к упрощенному упражнению в музыкальной экзотике, и именно так она звучит на поп-концертах.
Вернувшись в Нью-Йорк, Копланд медленно подбирался к более прямым формам музыкальной активности. Он держался рядом с Композиторским коллективом и пробовал себя в музыке “для рабочих” в стиле Ганса Эйслера. В 1934 году, откликнувшись на конкурс, устроенный New Masses, он положил на музыку стихотворение Альфреда Хэйеса “На улицы Первого мая”, в котором были следующие строки: “Качайте башни мидтауна, разрушьте покой центра”[64]. The Daily Worker Chorus исполнил песню на второй американской Музыкальной рабочей олимпиаде вместе с Симфониеттой Пьера Дегейтера и оркестром из балалаек и мандолин. Олимпиада была устроена Американским филиалом Интернационального музыкального бюро, организации Эйслера.
Дальше этого Копланд не пошел. Он не вступил в коммунистическую партию и посоветовал своему молодому коллеге Дэвиду Даймонду последовать его примеру. Он отрицал идею о том, что хороший левый американский композитор должен быть “простым, скромным человеком”, как выразился Сигер, аккомпанируя себе на банджо. В статье для выпускаемого на деньги коммунистов Music Vanguard Копланд писал, что его интересы лежат в области поисков ясного коммуникативного музыкального стиля, а не в передаче политического содержания: “Те молодые люди, которые еще несколько лет назад писали музыку, полную мировой скорби Шенберга, теперь понимают, что они всего лишь выражали свое собственное недовольство, и небольшая аудитория, которая есть у музыки Шенберга, никогда не примет их музыку. Пусть эти молодые люди скажут себе наконец: “Хватит Шенберга!” У последнего лозунга не было шансов захватить умы рабочих всего мира. Копланд вел публичную беседу с самим собой, и, что характерно, его заигрывания с радикалами закончились, когда он нашел тот стиль и богатый жизненный опыт, которые искал.
Первая часть балета “Билли Кид” называется “Открытая прерия” – эта фраза стала синонимом популистского, или американского, стиля Копланда. Звуки деревянных духовых резкими рублеными параллельными квинтами разрезают опустошенное музыкальное пространство, вызывая в воображении караван фургонов, двигающийся по бескрайней пыльной долине Запада. Тем не менее музыка явно пришла из парижского Стравинского. Причитающие звуки пронзительных кларнетов и гобоя, как и фольклорные мелизмы, добавленные позднее, повторяют “Вешние хороводы” из “Весны священной”. Копланд с удовольствием отмечал, что “Открытая прерия” (The Open Prairie, или, как он писал в начале, The Open Prairee), была создана в квартире на рю де Ренн. В самом деле в этих звуках, по сути, нет ничего американского; они бы вполне подошли для описания английской сельской местности или русских степей. И все же они создают иллюзию большого пространства – неважно, американского или нет. Потом обильные вкрапления ковбойских мелодий – Great Granddad, Whoopee Ti Yi Yo, Git Along Little Doggies, The Old Chisholm Train и т. д. – не оставляют сомнений в верности ассоциаций с Диким Западом.
“Билли Кид” чтит память легендарного бандита Уильяма Бонни, который, по слухам, крал у богатых, дружил с бедными, очаровывал дам и убил 21 человека. Эрл Браудер, глава Коммунистической партии, любил представлять Америку революционного периода как своего рода протосоциалистическую утопию, подобным же образом первые страницы “Билли Кида” показывают Америку до грехопадения, до потери невинности под властью капитализма. Ковбойские мелодии впервые слышны в разладе полиритмии: Запад Копланда звучит так же, как и его Мексика. И все же этому Эдему в прерии угрожает движение на Запад возводящих города поселенцев, чьи грандиозные замыслы уже слышны в дерзкой кульминации вводного “псалма”. Хореограф Юджин Лоринг выбрал в качестве основы для либретто полумифическую летопись чикагского журналиста Уолтера Нобла Бернса, который описывал Билли добросердечным преступником, восставшим против безжалостных капиталистических ценностей. Первая глава книги Бернса сравнивает исчезнувший мир Билли с современной Америкой, покрытой асфальтом. Копланд намекает на асфальтирование Запада в конце своего балета; после того как Билли погибает от руки Пэта Гарретта, поступь пионеров становится силой, сокрушающей все на своем пути, – на три четверти, подчеркнутые цимбалами и большим барабаном. Новый тональный центр ми мажор сталкивается с остатками начального героического ми-бемоль мажора. Небоскребы возникают в прерии, их ясные очертания блестят на солнце.
Левые политические взгляды присутствуют и в других работах Копланда того периода – опера “Второй ураган”, которая учит брехтовской добродетели молчаливого согласия с общим благом (хотя и без пугающего догматизма); написанная по заказу CBS “Музыка для радио: Сага прерии”, написанная по заказу CBS, которая, возможно, содержит скрытый намек на мальчиков Скоттсборо (девять темнокожих подростков, посаженных в тюрьму в 1931 году по необоснованному обвинению в изнасиловании); берущий за сердце “Портрет Линкольна”, создающий из цитат речей Линкольна расплывчато социалистический комментарий (“Я не хотел бы быть рабом и не хотел бы быть рабовладельцем”). Но подразумеваемый в этих произведениях радикализм никогда не выходит на поверхность. По этой причине на протяжении многих лет их присваивали самые разные политические и аполитичные партии. Бессчетное число фильмов, ТВ-рекламы, новостных передач и предвыборных роликов использовали музыку Копланда или в его стиле, чтобы показать праведность, присущую жизни в маленьком городе, – пожилые пары на верандах, мальчики-разносчики газет на велосипедах, фермеры, облокотившиеся на ограды, и т. д. К президентским выборам 1984 года копландовская мелодия открытой прерии стала такой универсальной, что ее кичевая версия была использована даже в предвыборных роликах “Утро в Америке” Рональда Рейгана.
Копланда, возможно, никогда не волновало, правильно или неправильно используют его музыку, хотя он мог получить удовольствие от иронии ситуации: левый гомосексуалист русско-еврейского происхождения предоставляет музыку для Республиканской партии. Он был скорее прагматиком, чем радикалом, поэтому хотел говорить со всей страной – даже за счет ослабления собственных идей. В этом смысле он был прекрасным музыкальным двойником 32-го президента США.
Музыка “Нового курса”
Культура не занимала важного места в приоритетах Франклина Делано Рузвельта. На музыку он почти не обращал внимания. В тех случаях, когда президент оказывал поддержку искусству, он делал это с видом аристократа, выполняющего свои обязанности. Как писал Ричард Маккинзи, “Рузвельт был готов проявить великодушие и поддержать живопись, театр и другие виды творчества так же, как он поддерживал их в роли хозяина особняка в Гайд-парке”. Бдительно наблюдающий за всеми подергиваниями политической паутины, Рузвельт осознавал опасности, свойственные федеральному финансированию искусства. Только при содействии Элеанор Рузвельт, непреклонно либеральной первой леди, эксперимент продлился так долго.
C самого начала миссис Рузвельт поддерживала идею “ответственности правительства перед искусством и перед творцами”, как она выразилась в 1934 году. Ее наиболее значительное вмешательство в музыку произошло в 1939 году, когда она ушла из организации “Дочери американской революции”, протестуя против их отказа устроить концерт чернокожей певицы Мариан Андерсон. Этот жест привел к легендарному концерту Андерсон в мемориальном центре Линкольна, в программу которого был включен Gospel Train, написанный Гарри Т. Берли, старым коллегой Дворжака.
“Новый курс” оказал сильное влияние на искусство по простой причине денежного изобилия. Рузвельт потратил 4,9 миллиарда долларов на вспомогательные проекты, таким образом возникла WPA; около 27 миллионов из этой суммы ушло на федеральные проекты по искусству, также называвшиеся Первым федеральным; 7 126 862 доллара из этой суммы было потрачено на Федеральный музыкальный проект (ФМП). На своем пике ФМП поддерживал 16 000 музыкантов и управлял 125 оркестрами, 135 группами, 32 хоровыми и оперными секциями. Гарри Хопкинс, создатель WPA, надеялся, что Первый федеральный станет постоянно действующей организацией. Элеонор в колонке “Мой день” писала: “Когда в старые времена искусство процветало, достаточно было, чтобы у художника имелся богатый покровитель, под защитой которого он бы мог развиваться. У всех аристократов были художники-любимцы. Сейчас по большей части такого метода развития и охраны искусства больше не существует, и мне интересно, не займут ли художественные проекты WPA его место”.
Главная проблема всех бюрократов от искусства – это принятие разумного решения, кому из художников оказывать помощь. Первый федеральный, не имевший предшественников, часто прибегал к помощи интеллектуальной элиты из старейших университетов Новой Англии и их культурного окружения. Самая ранняя из инициатив “Нового курса” в области искусства – Публичные работы художественного проекта (Public Works of Art Project) – возникла, когда гарвардский соученик Рузвельта Джордж Биддл, симпатизировавший левым художник, который общался с Диего Риверой в Мексике, попросил новоизбранного президента профинансировать художественный оммаж “Новому курсу” и его “социальной революции” в стиле мексиканских муралистов. Рузвельт немедленно заинтересовался и даже высказал некоторые эстетические замечания на выставке весной 1934 года. Президент сказал, что картины не должны “изображать мрачные сюжеты”, что они в общем должны избегать “рабства классических стандартов и декаданса, свойственного большей части европейского искусства”. Сталин и Гитлер в полной мере разделили бы его чувства – разница, конечно, заключалась в том, что Рузвельт, в отличие от них, не обладал средствами, волей и желанием навязать свои предпочтения другим.
Федеральный музыкальный проект был начат в июле 1935 года. “Посредством программы обучения Федерального музыкального проекта, – сообщалось в пресс-релизе образовательной программы, – была обнаружена огромная неожиданная жажда музыкальных знаний среди детей из малоимущих семей и семей, получающих помощь, из них и составлялись классы”. В Бостоне опера была открыта для широкой публики, и журналист сравнил происходящее со штурмом Бастилии: “Это была опера для четырех миллионов, и табличку, предупреждающую, что “Шоферам, кучерам, лакеям запрещено стоять в вестибюле”, следовало бы скрыть, потому что кучера, шоферы и лакеи занимали места своих хозяев и хозяек по 83 цента за кресло”. Нью-Йоркская атлетическая полицейская лига докладывала, что классы пения на удивление популярны среди молодых преступников: мальчики сначала отнеслись к этому “девчоночьему занятию” с подозрением, но вскоре уже пели во весь голос.
Но не только большие города получали помощь. Живая музыка распространилась на провинциальные города, такие как Анадарко, Чикаша и Эль-Рено в Оклахоме. “Впервые в истории государства жители этих городков смогли послушать симфонические концерты у себя дома, – писал глава штата Оклахома. – Жаль, что я не могу описать вам сотни школьников из сельских районов, сидящих затаив дыхание, с напряженным вниманием на школьном концерте”. Другое сообщение напоминает сцену из Чарлза Айвза или, что более кстати, из “Дня освобождения” Уилла Мэриона Кука:
Самым запоминающимся моментом Музыкальной недели для учебного проекта стал фестиваль негритянской музыки штата, который состоялся в Боли, негритянской столице Оклахомы. Основной особенностью фестиваля был музыкальный парад, в котором участвовали более тысячи учеников. Флаги, знамена, плакаты и веселые транспаранты добавляли яркости параду, который был вдвойне интересен благодаря музыкальной подборке, исполненной хорами и группами классов, маршировавшими под звуки трех оркестров.
Многие женщины впервые играли в оркестрах. В Times появилась статья об афроамериканце Дине Диксоне, начинающем дирижере WPA.
ФМП также взял под опеку новую музыку, устроив ряд мероприятий под названием “Форум-лаборатория композиторов”, где композиторы могли пообщаться с публикой и таким образом вырваться из предполагаемой художественной изоляции. Пресс-релиз объяснял: “Была усовершенствована техника, при помощи которой сочинитель музыки имеет возможность изменить или исправить свое произведение, проверив реакцию публики. В рамках программы композитор ответит на все вопросы слушателей”. “Форумом-лабораторией” управлял Эшли Петисс, активный участник Народного фронта и музыкальный критик New Masses. Первое мероприятие в Нью-Йорке было посвящено молодому композитору Рою Харрису, и он использовал этот шанс, чтобы призвать к написанию “великой зрелой музыки, которая движется в своей грандиозности на высокой скорости, музыки цветистой, музыки великого большинства, музыки, которая может появиться только в Америке”.
Харрис стал еще одним образцовым музыкантом времен “Нового курса”. Его биография была воплощением мечты тех, кто искал претендента на роль Великого Американского Композитора. Он родился в нефтяном городе Чэндлер в Оклахоме, в бревенчатом домике, причем в день рождения Линкольна. Time отмечала, что домик был “срублен вручную”, а молодой композитор водил грузовик. Подразумевалось, что Харрис не был классическим неженкой или буржуазным баловнем. Произведением, которое принесло Харрису внимание всей страны, стала Третья симфония (1938) – всеамериканский гимн и танец для оркестра, где струнные инструменты ораторствовали размашисто и обрывочно, медные духовые монотонно пели и гикали, как ковбои на галерке, а литавры отбивали строгий бит в середине такта. Такая мощная музыка соответствовала всеобщим ожиданиям того, какой должна быть настоящая американская симфония. Когда Тосканини снизошел до дирижирования этой симфонией в 1940 году, владелец команды “Питтсбургские пираты” написал композитору: “Если бы у меня были питчеры, которые бы подавали так, как подаете вы в вашей симфонии, у меня бы не было никаких проблем”.
Если Федеральный музыкальный проект был прилежной, благонамеренной организацией, которая так и не смогла точно определить свои задачи, Федеральный театральный проект (ФТП), притягивавший политически ангажированных композиторов, имел слишком определенные цели. За несколько недель до первого концерта “Форума-лаборатории” в Нью-Йорке Хелли Фланаган, глава ФТП и специалист по русскому экспериментальному театру, произнесла речь “Это ли время и место?”, в которой описала свое видение федерально финансируемого радикального театра в духе студий Мейерхольда в России и проектов Брехта в Берлине до прихода нацистов. Поводом для речи было первое собрание региональных директоров ФТП, которое состоялось в вашингтонском особняке Эвелин Уолш Маклин. Фланаган сказала, что такая роскошная обстановка – владелице особняка принадлежал бриллиант “Надежда” – “олицетворяет концепцию искусства как товара для богачей”. По ее словам, она вспомнила о картинах, свидетельницей которых стала во время путешествия в Советский Союз десять лет назад:
В первые дни пребывания в этом доме меня преследовало ощущение, что я уже испытывала подобное; постепенно мои воспоминания сосредоточились на золотых дворцах Советской России, которые сейчас превратились в дома для сирот, учреждения и театры для советского пролетариата. Я вспомнила театральное собрание в Большом зеркальном зале в Ленинграде, где я видела во всех зеркалах, которые когда-то отражали императрицу и позднее – казнь ее офицеров, отражения Сталина, Литвинова, Луначайского (sic), Петрова и других лидеров политической, образовательной и театральной жизни. Они встретились, чтобы обсудить свои общие проблемы: как театр может послужить образованию людей и обогатить их жизнь.
Последний образ, отражение Сталина в зеркале, стал неутешительным началом бюрократизации в американском искусстве.
Проекты Фланаган были окрашены в очевидные цвета соцреализма. Художников побуждали создавать простые, ясные сценарии, в которых рабочие играли героические роли, а финансисты выступали в роли злодеев. В пьесе “живой газеты” “Вспаханный вдоль и поперек”, которая критиковала Верховный суд за отмену Акта о регулировании сельского хозяйства 1933 года, системы фермерских субсидий, один актер играл Эрла Браудера, лидера американской коммунистической партии. Призрак Томаса Джефферсона тоже присоединялся к действию, чтобы подтвердить свою веру в идеи Браудера. Такое ревизионистское изображение отцов-основателей совпадало с идеей Браудера “Коммунизм – это американизм XX века”. В то же время пьеса поддерживала Рузвельта, который как раз вел борьбу с Верховным судом. Республиканская партия, как полагается, обиделась на то, что федерально финансируемая театральная программа используется для создания пропаганды от имени подвергающегося критике президента в год выборов. Так явно принимая участие в политике, драматурги, режиссеры и композиторы из окружения Фланаган практически собственноручно обрекли всю программу поддержки искусства на забвение.
Самой легендарной постановкой ФТП стал мюзикл Марка Блицстайна в поддержку профсоюзов “Колыбель будет качаться”. Наследник богатой филадельфийской семьи, Блицстайн получил превосходное музыкальное образование у таких учителей, как ученик Листа Александр Зилоти, Надя Буланже в Париже и Шенберг в Берлине (“Давай сочиняй свою красивенькую франко-русскую музыку”, – сказал ему Шенберг). В начале Блицстайн смотрел на радикальную политику свысока и пренебрежительно отозвался о музыке Курта Вайля: “Недалеко ушла от бесмыслицы”. Но неприятие традиционности классической музыки захватило его, и его перетянула на левую сторону родившаяся в Берлине писательница Ева Гольдбек, на которой он женился, пытаясь скрыть свою гомосексуальность. Впоследствии он вступил в коммунистическую партию. В 1935 году благодаря Гольдбек он познакомился с Брехтом, который потребовал от него “написать произведение обо всех видах проституции – в прессе, церкви, судах, искусстве, во всей системе”.
“Колыбель” была попыткой Блицстайна исполнить наказ Брехта. Пьеса повествует о борьбе профсоюза за свободу в абстрактном городе под названием Стилтаун, а главным злодеем выступает брехтовский капиталист по имени мистер Мистер, сноб и олигарх. Сатира на высшие слои общества и художников, которые пытаются им угодить, относится к самым удачным пассажам мюзикла. В целом борьбу рабочих в “Колыбели”, возможно, правильнее понимать как метафору борьбы художников на американском рынке. В какой-то момент художник Добер и скрипач Яша, находясь в плену покровительства миссис Мистер, поют ироничную хвалебную песнь гетто, в котором издавна живут американские музыканты:
- Будь слеп ради искусства
- И глух ради искусства
- И нем ради искусства
- Пока ради искусства
- Они убьют ради искусства
- Все искусство ради искусства[65].
Далее следует угрожающая цитата из бетховенской увертюры к “Эгмонту”, которую, как нам сообщили ранее, исполняет гудок автомобиля, принадлежащего миссис Мистер. Блицстайн насмехается над преклонением правящего класса перед импортируемым из Европы искусством, которое прикрывает весь механизм эксплуатации и притеснений.
Бродвейскую премьеру мюзикла “Колыбель будет качаться” запланировали на 16 июня 1937 года, режиссером был невероятно одаренный 22-летний Орсон Уэллс. За несколько дней до премьеры WPA временно закрыла все театральные постановки по бюджетным причинам. По неподтвержденным слухам, администрация хотела закрыть “Колыбель” из-за страха перед вспышками насилия в сталелитейных городах по всей стране. Буквально в самую последнюю минуту Уэллс услышал о пустом театре в двадцати кварталах к северу, и большая часть труппы драматично промаршировала туда пешком. Чтобы обойти постановление WPA, певцы исполняли свои роли с мест в аудитории, а композитор играл партируту на фортепиано. “Колыбель” сразу же стала сенсацией среди нью-йоркских левых, и билеты на все представления были распроданы. Но Блицстайну хотелось большего, чем внимание прессы и дискуссии. Как вспоминал Уэллс, композитор верил, что его работа может стать проводником революционной энергии на американской почве. “Вы не можете себе представить, как наивен он был, – говорил Уэллс. – Они это услышат, и этого будет достаточно!”
Самым неожиданным революционером ФТП был парижский эмигрант Вирджил Томсон. Уже в “Четырех святых в трех актах” он продемонстрировал склонность к использованию музыкальной американы, а его грустная и мощная “Симфония на мотив гимна”, написанная в 1926–1928 годах, предвосхищала некоторые аспекты популистского стиля Копланда. В 1936 году Томсон работал музыкальном директором на спектакле Орсона Уэллса “Макбет”, который был поставлен в рамках Негритянского театрального проекта, одной из самых достойных инициатив Фланаган. Большую часть музыки исполняла группа африканских барабанщиков, и в какой-то момент Томсон решил объяснить им, как следует правильно играть музыку вуду. “Она звучит недостаточно опасно”, – сказал он музыкальному руководителю группы, которым был танцор, хореограф, певец и композитор Асадата Дафора, зачинатель распространения западноафриканской племенной культуры. В том же году Томсон написал яростно ударную музыку для спектакля “живой газеты” “Судебный запрет предоставлен”, которая настолько назойливо осуждала капитализм и суды, что даже Фланаган назвала ее “истеричной”.
Томсон также написал музыку к двум документальным фильмам, снятым на федеральные деньги, – к “Плугу, нарушившему равнины” (1936) и “Реке” (1938). Оба фильма были сняты по заказу Управления переселения, которое переселяло вынужденных покинуть свои дома фермеров в образцовые города по всей стране. У комиссии даже было специальное подразделение, которое разрабатывало образцовую культуру для образцовых городов, с Чарлзом Сигером в роли музыкального советника. “Плуг, нарушивший равнины”, прекрасно срежиссированный Паре Лоренцем, показывает опустошение, вызванное эрозией почв на Великих равнинах. Партитура Томсона, сплетающая вместе гимны, баллады, фуги и джаз, создает едва уловимый контрапункт с визуальным рядом, показывающим пастбища в их первозданном состоянии – снова атмосфера Эдема, – и затем возникновение капиталистических злоупотреблений. Высокое качество продукта не могло скрыть сомнительности предприятия; как и в случае “Вспаханного вдоль и поперек”, правительственное учреждение использовало искусство, чтобы защитить себя от политической критики и неблагоприятных судебных постановлений. Авторский текст в “Реке” тоже представляет собой эстетически и этически дисгармоничный переход от риторики в духе Уитмена (“Эта вода течет вниз весной и осенью; вниз с оголенных горных вершин”) к бюрократическому шаблонному языку (“Внизу в долине администрация по защите ферм построила образцовый сельскохозяйственный населенный пункт”).
Энтони Томазини, биограф Томсона, пересказывает слова врагов Рузвельта: “У немецкого фюрера есть Лени Рифеншталь, у Рузвельта есть Паре Лоренц”.
Примерно в 1936 году “боевая единица” Копланда, его шутейный отряд молодых композиторов, состояла из пяти человек: Томсона, Харриса, Сешнза, элегантного неоклассициста Уолтера Пистона и самого Копланда. В начале 1940-х, когда к ней добавились Блицстайн, Пол Боулс, Сэмюэль Барбер, Мортон Гулд и Дэвид Даймонд, отряд вырос до размеров батальона. Какое-то время композиторы, казалось, сочиняли в один голос. Быстрые части сопровождались джазовыми синкопами, медленные печально кричали в пустых пространствах. Партитуры были дерзкими и яркими. Кульминационные моменты происходили в высоком стиле Шостаковича – сплошные звонкие трубы и точно бьющие литавры, чтобы их лучше было слышно сквозь шумы радиопомех.
Американские композиторы явно выработали общие традиции, общий язык. За кулисами тем не менее стилистические войны продолжались. В статье 1938 года Томсон разделяет музыку для трех типов аудитории, у каждой – свой тип композиторов:
1) предмет роскоши, публика капиталиста Тосканини, разъезжающая с невозмутимым удовлетворением в хорошо отлаженных поездах от Бетховена к Сибелиусу и обратно; 2) научно-критический заговор интернациональной, или “современной” музыки, который ценит герметизм и обскурантизм и преклоняется перед видимыми сложностями и методично неблагозвучным контрапунктом; 3) театральная публика левого фронта, работающая, образованная городская публика, которой нужен образованный, городской выразитель ее идеалов.
Наглядным примером первого типа был Сэмюэл Барбер – утонченный любитель Италии, сын пенсильванского хирурга, племянник Луизы Хомер, контральто из “Метрополитен-опера”. Он изучал музыку и пение в только что основанном в Филадельфии институте Кертиса, чьи сотрудники рьяно его поддерживали. В 1935 году он появился на NBC, где пел непринужденно красивый “Пляж Довера” Мэтью Арнольда, который он сам положил на музыку. Передачу слушал не кто иной, как Тосканини, и когда маэстро решил дирижировать двумя произведениями Барбера, “Сочинением для оркестра” и “Adagio для струнного оркестра”, в средствах массовой информации случился известный переполох. Два года спустя Артур Родзинский дирижировал Первой симфонией Барбера, которая кое-что позаимствовала у Седьмой Сибелиуса, за пультами Нью-Йоркского и Венского филармонических оркестров. В то время как многие его современники предпочитали скудную фактуру и сжатые мотивы, Барбер использовал длинные мелодичные фразы и богатую оркестровку, оставляя публику с ощущением, будто она только что наелась блюд с высоким содержанием белка.
Успех Барбера вызвал раздражение у некоторых членов Народного фронта, которые видели в композиторе лишь бесполезного буржуа. Р.-Д. Даррелл в New Masses называл Первую симфонию “гротескным паясничаньем обманчивой новизны (которая, само собой, такая же новая, как Рихард Штраус)”. Эшли Петтис из Федерального музыкального проекта с презрением отозвался об Adagio: “аутентичная”, скучная, серьезная музыка – совершенный анахронизм, вышедщий из-под пера молодого человека 28 лет от роду в 1938 год нашей эры!” Но сам Копланд, который редко доктринерствовал или бывал мелочным по отношению к коллегам, пришел в восхищение от завораживающей работы Барбера и позже заявил, что она обладает добродетелью абсолютной искренности. Останавливающая время атмосфера этого произведения происходит из метрической хитрости, которой Барбер мог научиться у Сибелиуса: хотя музыка течет ровным потоком, сложно услышать, где проходят тактовые черты. В результате получается что-то вроде современных грегорианских песнопений, которые не являются большим или меньшим анахронизмом, чем остальное, написанное в 1938 году.
Университетские композиторы-интеллектуалы второго типа по классификации Томсона сопротивлялись требованию Копланда “Хватит Шенберга!”. Их наиболее четко формулирующим свои мысли оратором был Сешнз, который впитал некоторые ценности шенберговского круга во время своего путешествия в Берлин, продлившегося с 1931 по 1933 год. В своем Скрипичном концерте, законченном в 1935 году, он отошел от неоклассицизма к свободному атональному экспрессионизму, создавая атмосферу неопределенности и горя, свойственную Бергу. Он вынес из своего европейского периода убеждение, что американские композиторы должны подчиняться только собственному творческому импульсу – “обязательному, духовно необходимому музыкальному импульсу”, как он выразился в письме, а не политическому или коммерческому обязательству писать музыку для масс (“натужную и фактически анемичную эрзац-музыку”). Он отказался рассматривать возможность того, что кто-то будет писать популистскую музыку по внутренней необходимости. В 1930-е взгляды Сешнза представляли собой мнение меньшинства, хотя в послевоенный период они получили поддержку, не в последнюю очередь благодаря работам его ученика Милтона Бэббитта.
Три композиторских типа Томсона – традиционалисты, элитисты и популисты – точно соответствуют основным музыкальным группам Веймарской республики, которые были сосредоточены вокруг Пфицнера, Шенберга и Эйслера. Как и в Веймаре, возможность “большого слияния”, агломерации классического и популярного наследия, не исчезла окончательно. И “Махагони” Вайля, и “Порги и Бесс” Гершвина ставили своей целью именно такой синтез. По грандиозному совпадению, композитор “Махагони” прибыл в Америку в сентябре 1935 года, в месяц премьеры “Порги и Бесс”. Вайль, живший в Париже и Лондоне после прихода к власти нацистов, приехал в Америку, чтобы сочинить музыку к своего рода еврейской праздничной опере под названием “Путь обета” по либретто Франца Верфеля в постановке Макса Рейнхардта. Музыка переняла язвительный популистский стиль “Махагони”, ее бодрый маршевый ритм, который опять был созвучен симфониям Малера. Вайль прибыл в Нью-Йорк на премьеру, но ее задержали на несколько месяцев, и, так как ситуация в Европе ухудшалась, Вайль решил остаться в Америке. Снова он начинал с нуля, на этот раз в настоящем Махагони Манхэттена.
В поисках своей американской индивидуальности Вайль разведал обстановку в “Групповом театре”, где, по словам Гарольда Клурмана, люди проводили время, распевая “Трехгрошовую оперу”. Он поработал на так и не осуществившейся постановке ФТП под названием “Общая слава” – о “социалистической идее в старой Америке” и на “Дейви Крокете”, в которой герой Аламо должен был бороться с капитализмом в Теннесси. Первое крупное произведение Вайля в Америке было написано для постановки “Группового театра”, называлось “Джонни Джонсон” (1936) и заслужило уважение не своими политическими взглядами – антивоенными, но здравыми, – а за свой игривый, подвижный стиль, за остроумное использование американского просторечия.
Пресытившись агитпропом в Берлине с Брехтом, Вайль начал думать о себе как о традиционном театральном композиторе. Его первым бродвейским хитом стал “День отдыха Никербокера” (1938), а в 1941-м – “Леди в темноте”. Грубый берлинский стиль Вайля с легкостью был перенесен на американскую сцену, сочетающие горе и радость секстовые гармонии “Сентябрьской песни”, вставного номера в “Дне отдыха Никербокера”, как две капли воды похожи на “Мэкки-Нож”. Американизация Вайля дошла до того, что он научился ругаться как Кларк Гейбл, что и продемонстрировал в интервью 1940 года: “Мне наплевать на сочинения для потомков… Я никогда не признавал разницу между “серьезной” и “легкой” музыкой. Бывает только хорошая музыка и плохая музыка”.
В тот же период бродвейская музыка становилась более амбициозной. Новый грандиозный стиль, заданный Керном в “Плавучем театре” и продолженный Гершвином в “Порги и Бесс”, достиг коммерческой вершины с “Оклахомой!” Ричарда Роджерса и Оскара Хаммерстайна, легендарные премьерные показы которой начались в 1943-м и закончились в 1948-м. Вайль обычно рассказывал нью-йоркские истории, а Роджерс и Хаммерстайн превозносили центральную часть Америки. “Свежее дыхание” этого произведения, выражаясь словами Роджерса, имел много общего с “открытой прерией” Копланда, а когда Роджерс писал танец для фермерских мальчиков и девочек, он явно обращался к балету “Родео” Копланда.
Быстрое наступление бродвейских композиторов подчеркивало, что их коллеги из мира классики пишут относительно мало опер или произведений для музыкального театра, предпочитая концентрироваться на оркестровой музыке. Бродвейский мюзикл формировался в отдельный жанр американской музыки со своими языком, исполнительской манерой, своими школой и поджанрами. Разница между оперой и Бродвеем становилась фактом – упущенной возможностью для популистского поколения.
На выборах 1938 года республиканцы получили много мест в Конгрессе и, объединившись с консервативными демократами, предприняли атаку на “Новый курс”. Комитет по антиамериканской деятельности при Конгрессе под руководством конгрессмена Мартина Диса, начал расследование деятельности WPA, и художественные программы оказались лакомым кусочком. Конгрессмен Д. Парнелл Томас обвинил Театральный проект в том, что “это еще один винтик в огромной и ни с чем не сравнимой пропагандистской машине “Нового курса””. Перед Музыкальным проектом стояла другая проблема, так как Американская федерация музыкантов рассматривала финансируемые правительством представления как нечестную конкуренцию профессиональным оркестрам, оперным труппам и ансамблям. Рузвельт пришел к выводу, оправданному или нет, что широкая американская прослойка среднего класса не возьмет на себя бремя “содействия искусству, музыке и литературе”, как он выразился в письме Нельсону Рокфеллеру.
Похоронный звон по федеральным художественным программам прозвучал 30 июня 1939 года, когда Конгресс потребовал упразднения ФТП и разрешил остальным художественным проектам продолжать работать только с местным финансированием или финансированием на уровне штата. Рузвельт демонстративно осудил то, что ФТП был выбран козлом отпущения, заявив, что проект смог бы продолжить работу на тех же условиях, что и другие, но все это говорилось только для отвода глаз: как и было предсказано во время слушаний, очень мало организаций WPA смогли выжить только при местной поддержке.
Последний расцвет WPA случился на Нью-Йоркской всемирной выставке, которая открылась в Квинсе в апреле 1939 года. Деньги на это грандиозное мероприятие были получены по большей части из частных источников, но идеализм “Нового курса” все еще витал в воздухе, с трудом смешиваясь с рекламным языком корпоративной Америки. Миллионы посетителей, охваченные благоговением, глазели на самозваный “Мир будущего” – на гладкие формы Трилона и Перисферы в центре ярмарки, на эффектное зрелище “Футурамы” с ее сияющим видением пригородных районов, соединенных суперавтострадами, на прибор под названием “телевизор”, который вечный оптимист Дэвид Сарнов превозносил как “новое искусство”, в павильоне Американской радиокорпорации. Четыре свободы Рузвельта были увековечены в скульптуре, которая могла бы понравиться Муссолини.
Несколько известных композиторов, политически ориентированных на Народный фронт, сочинили музыку для выставки, пытаясь примирить свои идеалы с требованиями большого бизнеса. Вайль написал музыку для исторического представления “Парад железных дорог”, в котором пятнадцать работающих локомотивов двигались по огромной укрепленной сцене и издавали гудки по сигналу. Эйслер, временно отложив свой крестовый поход против капитализма, вместе с Джозефом Лоузи создал кукольный фильм “Пит-Ролеум и его кузены”, который рассказывал детям о нефтяной промышленности.
Копланд, в свою очередь, написал музыку к документальному фильму “Город”, который каждый день показывали на выставке. В авторском тексте Льюиса Мамфорда звучала мысль о том, что американский город стал сума-сшедшим, подавляющим, бесчеловечным. В начале, когда сцены из Новой Англии выступают в качестве иллюстраций золотого века, когда между человечеством и природой еще не произошел дисбаланс, музыка Копланда свободно использует простую мелодию и чистую гармонию. Затем к власти приходит промышленность. “Дым создает богатство, – провозглашает рассказчик, – неважно, если вы от него задохнетесь”. Копланд отвечает дерзким диссонансом. Сцену, показывающую перенаселенность города, сопровождает импровизационная, без конца повторяющаяся музыка, предвосхищающая минимализм Филипа Гласса (киносимфония Гласса “Коянискацци”, рассказывающая о разрушении планеты, представляет собой, по сути, усовершенствованную версию “Города”). В конце нам предлагают решение: образцовый город Гринбелт в Мэриленде, где современные удобства объединены с сельскими ценностями, “где дети играют под деревьями и люди, которые построили этот город, не забыли, что воздух и солнце – это то, что нам нужно для роста”. Несмотря на внешний слой стилистики Народного фронта, фильм провозглашал идею пригородов, где можно жить, работая в городе, что служило интересам больших автомобильных производителей. General Motors был одним из главных инвесторов выставки.
Лето 1939-го было мрачным для левых художников. Новости о закрытии Федерального художественного проекта совпали с еще более шокирующими новостями о Сталине, заключившем пакт с Гитлером. Некоторые американские коммунисты начали осознавать, что кровь, тюрьмы, крах и тьма, перефразируя Джошуа Куница, были частью сталинского мира. Копланд тем не менее в бодром расположении духа: долго бывший закулисной силой, теперь он вкусил настоящей популярности. “Мистер Копланд здесь, там и на выставке” – звучал заголовок статьи о нем в The New Yorker. Если один путь, путь искусства “Нового курса”, был закрыт, открывались новые. В октябре 1939 года Копланд поехал на Запад, в Голливуд. Вечный оптимист, он писал Кусевицкому: “Голливуд – это необычайное место… Ничто не может с ним сравниться. Слава богу”.
Музыка Голливуда
Остроумное высказывание Шенберга о его калифорнийском изгнании “Меня изгнали в рай” иногда используют как завязку для мрачной кульминации: “Для художников-эмигрантов голливудский рай скоро превратился в кошмар”. Еще можно вспомнить цитату из Брехта, которую положил на музыку в своих “Голливудских элегиях” (1942) Ганс Эйслер: “Один город может быть и адом, и раем”.
Шенберг, австро-немецкий шовинист, ставший американским патриотом, никогда бы не одобрил такую упрощенную формулу. Лос-Анджелес, и Голливуд в особенности, превратился в кошмар только для тех, кто прибыл туда с неразумными ожиданиями. Голливуд был занят извлечением максимального дохода из развлечений. Любой композитор, или писатель, или режиссер, который отправлялся на Запад, чтобы дать волю своему гению, не мог не испытать разочарования. “Человеку, который мечтает о полном самовыражении, лучше остаться дома и сочинять симфонии, – писал Копланд в 1940 году. – Он никогда не будет счастлив в Голливуде”.
Надо отдать должное киношникам, они были без ума от музыки. Лауриц Мельхиор и Кирстен Флагстад заигрывали с кинематографом, Нельсон Эдди стал одним из главных кассовых исполнителей того времени, были сняты биографические фильмы о Шуберте (“Мастер мелодий”), Шопене (“Незабываемая песня”), Роберте и Кларе Шуман (“Песнь любви”), даже о Римском-Корсакове (“Песнь Шахерезады”). Джон Гарфилд исполнял роль скрипача в “Юмореске”, Бетт Дэвис играла пианистку, запутавшуюся в любовном треугольнике с виолончелистом и композитором, в “Обмане”, Леопольд Стоковский был Леопольдом Стоковским в фильме с Диной Дурбин “Сто мужчин и одна девушка”. Каждая крупная студия собрала свой симфонический оркестр для записи музыки к фильмам, обеспечив работой множество еврейских музыкантов-эмигрантов, изгнанных из крупных оркестров Центральной Европы. Музыкальным директором студии “Парамаунт” стал любопытный персонаж Борис Моррос, миссией которого было нанимать на работу в кино знаменитых композиторов. В разное время он вел переговоры с Шенбергом, Стравинским, Копландом и Вайлем и даже пытался позаимствовать Шостаковича у Советского Союза. Все это время он работал агентом советских спецслужб, его целью было ведение просоветской пропаганды. Моррос, кажется, использовал подрывную деятельность как остроумный способ получать деньги на собственные проекты и свои счета.
Возможно, Голливуд был опасной территорией для композиторов, но там они по крайней мере чувствовали свою нужность, чего никогда не испытывали в американских концертных залах. Переход к звуковому кино породил манию непрерывного звука. Так же как актеры в комедиях положений вынуждены были говорить без умолку, композиторы должны были музыкой подчеркнуть каждый жест и выделить каждую эмоцию. Актриса не могла подать чашку кофе без того, чтобы 50 струнных инструментов Макса Штайнера не налетели, чтобы помочь ей. (“Эта ужасная музыка делает только одно, – сказала как-то Бетт Дэвис Гору Видалу, – она стирает актерскую игру нота за нотой”.) Ранняя музыка к фильмам была исключительно иллюстративной, композиторы называли ее Mickey-Mousing: если в кадре появлялся английский фрегат, звучала “Правь, Британия”. Позже композиторы начали использовать технику музыкального остранения и иронии в духе Эйзенштейна, противопоставляя музыку и визуальный ряд. Музыку можно было использовать, чтобы показать психологический подтекст, обозначить отсутствующих персонажей или какие-то силы, разрушить кинореальность, которую видел зритель.
В хичкоковском триллере “Тень сомнения” жуткие вариации на вальс из “Веселой вдовы” Франца Легара, написанные Дмитрием Темкиным, подчеркивают изломанную психику серийного убийцы, персонажа Джозефа Коттена. Как пишет киновед Роял Браун, мелодия символизирует “ненависть дяди Чарли к настоящему в сравнении с идеализированным прошлым”. В фильме Фрица Ланга “Палачи тоже умирают” (соавтором которого был Брехт) Ганс Эйслер получил приятное задание изобразить убийство лидера СС Райнхарда Гейдриха и написал быстрые, свистящие фигурации для струнных инструментов в верхнем регистре, намекающие на крысиный визг. Во время появления на экране портрета Гитлера Эйслер отзывался хихикающим атональным взрывом.
Когда Копланд прибыл в Голливуд, ему повезло работать с режиссерами, которые позволяли ему творить в привычном для него стиле. Его любимым соавтором был хорошо образованный, музыкально восприимчивый левый режиссер Льюис Майлстоун, который нанял его для написания музыки к экранизации романа Джона Стейнбека “О мышах и людях”. Как с изумлением отмечала Los Angeles Times, у картины не было музыкального редактора, который бы вмешивался в работу композитора. Место действия романа – сельскохозяйственные долины Калифорнии – вызвали к жизни привлекательные музыкальные пассажи в уже знакомом пасторальном стиле, а последующие трагические события романа заставили Копланда вспомнить о своем “модернистском” голосе; музыка в кульминационной сцене смерти Ленни представляет собой почти краткий пересказ “Вариаций для фортепиано”. Особенно эту музыку выделяет сдержанность, ее комментарий скорее вкрадчив, чем очевиден, и во многих эпизодах музыка молчит. Такое ощущение, что композитор наблюдает драму вместе с аудиторией. Дэвид Раксин, один из самых одаренных кинокомпозиторов, выделяет “абсолютно ясный, чистый, чудесный стиль” в “О мышах и людях”, отмечая, что он задал тон десяткам классических голливудских вестернов.
Наследным принцем голливудского музыкального сообщества был Эрих Вольфганг Корнгольд. В юности Корнгольд был одним из самых выдающихся композиторов-вундеркиндов в истории, поразившим Штрауса и Малера детским мастерством в управлении вагнеровским оркестром. В 1920-м, в возрасте 23 лет, он завоевал оперные театры Центральной Европы со своим “Мертвым городом”, историей художественной и романтической одержимости в духе “Дальнего звона” Шрекера. С течением двадцатых напыщенный стиль, который Корнгольд с такой легкостью освоил, вышел из моды в Европе, хотя по-прежнему пользовался спросом в Голливуде, особенно для исторических и социальных драм.
Первым заданием Корнгольда в 1934 году была аранжировка запрещенного в нацистской Германии “Сна в летнюю ночь” Мендельсона для киноверсии пьесы в постановке Макса Рейнхардта. Корнгольд практически взял на себя съемки, объясняя актерам, как им надо произносить реплики, а оператору – сколько метров пленки ему понадобится для записи всей музыки. Во время второго визита, год спустя, Корнгольд написал музыку к фильму Эррола Флинна “Капитан Блад”, и его мужественный, яркий стиль преобразил то, что могло стать всего лишь очередной приключенческой картиной, в первый из необыкновенно успешных флинновских фильмов. С учетом вышесказанного Корнгольд придал написанию киномузыки некоторую степень респектабельности, что вскоре вовлекло в игру другие интернациональные знаменитости.
Корнгольд был самым позерствующим из голливудских композиторов, но самым оригинальным был Бернард Херрманн, который начал с “Гражданина Кейна” Орсона Уэллса, достиг вершины с Альфредом Хичкоком в “Головокружении” и закончил свою карьеру “Таксистом” Мартина Скорсезе. Херрманн начинал как энергичный юноша в Нью-Йорке, иногда участвовал в “боевой единице” Копланда. Остро сознавая возможности радио и кинематографа, он в 1934 году устроился на работу аранжировщиком, дирижером и композитором в CBS. Именно на CBS Херрманн встретил Уэллса, который на волне успеха в ФТП создавал новаторские радиопостановки под названием “Театр “Меркьюри” в эфире”.
Когда Уэллс отправился в Голливуд, чтобы начать карьеру, обещавшую стать событием исторического значения, он взял с собой Херрманна. Уэллс остался образцовым участником Народного фронта, каким он был в Нью-Йорке, и “Гражданин Кейн” стал, возможно, важнейшим фильмом Народного фронта; он рассказывал о великом американце, который предал прогрессивные идеалы молодости и превратился в дряхлый капиталистический реликт. Правый газетный магнат Уильям Рэндольф Херст, который был главной мишенью сатиры Уэллса, пытался запретить фильм, но тот вышел на экраны в первомайский праздник 1941 года.
Как и его кумир Сергей Эйзенштейн, Уэллс обладал исключительным музыкальным чутьем. Знаток оперы, он понимал, что музыка может дополнить сценическое действие, вытащить наружу скрытые чувства и эмоции, даже разоблачить ложь. Две с половиной минуты в начале “Кейна”, показывающие последние мгновения жизни и смерть главного героя, двигаются вперед исключительно за счет музыки Херрманна, единственным немузыкальным моментом оказывается шепот Кейна – “розовый бутон”. Основной мотив – мотив из пяти нот, спускающийся на тритон, – однозначно вызывает в памяти симфоническую поэму “Остров мертвых” Рахманинова. В течение всего фильма мотив варьируется и меняется: например, в торопливой сцене, которая описывает начало карьеры Кейна в газетном бизнесе, он звучит в быстром темпе мажорной версии.
Самое удивительное взаимодействие музыки и видеоряда происходит во время провального дебюта мечтающей стать певицей второй жены Кейна Сюзан Александер на оперной сцене, построенной магнатом специально для нее. Это поворотный момент в превращении Кейна из героя в монстра, и большая опера олицетворяет его иллюзии. Под звуки написанной Херрманном потрясающе напряженной арии в веристском духе камера поднимается и показывает работника сцены, который зажимает нос от отвращения. Возможно, рабочий – оперный поклонник, который может отличить фальшивый голос от настоящего? Возможно, он поклонник поп-музыки, который отрицает оперу как одну из причуд высшего класса? Решать зрителю. Следуя примеру эйзенштейновских “Ивана Грозного” и “Александра Невского”, Уэллс снимал эту сцену и финал, когда музыка Херрманна уже была написана и записана. Впоследствии он отметил, что Херрманн на “50 % ответствен” за успех “Кейна”.
Музыка Херрманна к “Гражданину Кейну”, “Великолепным Эмберсонам” (изуродованная вместе с фильмом перед выходом на экраны), “Головокружению” и “Психо” представляет собой самую эффектную, пронзительно драматичную музыку века. Но работа в кино редко приносила удовлетворение этому упрямому, вспыльчивому, страстному человеку, который мечтал о триумфальном возвращении в оперу и концертные залы. Также и Корнгольд жаждал заново утвердиться в роли “серьезного” композитора, но не мог избавиться от голливудского ярлыка. Его Симфония фа-диез мажор – прощальное высказывание, где медленная часть принимает форму оглушительно выразительной похоронной речи в честь Рузвельта, – после премьеры в 1945 году была встречена с пренебрежением. Другие голливудские эмигранты, такие как Эрнст Тох, Кароль Ратхаус, Миклош Рожа, Франц Ваксман и Эрик Цайсль, страдали от того, что их стереотипно относили к кичевым композиторам. Их в целом считали слишком серьезными для Голливуда, но недостаточно серьезными для концертных залов. Многие из них согласились бы с тем, что написал Тох: “Я – забытый композитор XX века”.
Музыка эмигрантов
Если бы был спрос, продавцы, торгующие на улицах Беверли-Хиллз картами, на которых указано месторасположение домов голливудских звезд, могли бы продавать такие же карты с именами европейских композиторов. У Шенберга был дом на Норд-Рокингэм-авеню в Брентвуде, неподалеку от дома Тайрона Пауэра. Стравинский жил на Норд-Везерли-Драйв вверх по склону от Сансет-Стрип. Рахманинов – на Норд-Эльм-драйв, в центре киноколонии. Бруно Вальтер – на Норд-Бэдфорд-драйв, по соседству с Альмой Малер и Франком Верфелем; Теодор Адорно – на Сауз-Кентер-авеню в Брентвуде, рядом с виолончелистом Григорием Пятигорским; Отто Клемперер, возглавлявший ранее Кролль-Оперу, – на Бель-Эр-роуд, на соседней улице с Отто Премингерем и Эрнстом Любичем; а Эйслер – на Амальфи-драйв в Пацифик Палисейдс, поблизости от Томаса Манна и Олдоса Хаксли. Корнгольд в соответствии со своим высоким статусом жил в элитном районе Толука-Лейк рядом с Фрэнком Синатрой, Бобом Хоупом и Бингом Кросби. Более поп-культурные звезды, вроде Чарли Чаплина и Чарльза Лоутона, спокойно сосуществовали со своими внушительными соседями. Остальные время от времени допускали бестактности. На обеде у Харпо Маркса комедиантка Фанни Брайс подошла к Шенбергу и сказала: “Давай, профессор, сыграй-ка нам что-нибудь”.
Самым сюрреалистическим в музыкальной сцене Лос-Анджелеса было то, что два гиганта модернизма, Стравинский и Шенберг, жили всего в восьми милях друг от другах, на боковых улочках к северу от бульвара Сансет. Четыре раза великие музыканты попадали в поле зрения друг друга: на похоронах Франца Верфеля в 1945 году; в том же году – на генеральной репетиции сюиты “Генезис”, в написании которой принимали участие многие композиторы и для которой Стравинский и Шенберг сочинили по одной части; на ужине у Альмы Малер в Хрустальном бальном зале отеля “Беверли-Хиллз” в 1948-м; на концерте в честь 75-летия Шенберга в 1949-м. Они бы, наверное, с удовольствием пообщались друг с другом, но в этой искусственной Европе их встреча оказалась маловероятной.
Шенберг жил в Лос-Анджелесе с 1934 года, преподавал сначала в университете Южной Калифорнии, а затем – в университете Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA). Он быстро адаптировался в новой среде: Веймарская республика с ее повальным увлечением здоровым образом жизни и культом спорта хорошо подготовила его к жизни в республике Калифорнии. Он везде разъезжал на своем “форде седан”, следил за футбольным чемпионатом в UCLA и посредственно играл в теннис. Он мог в любое время посещать корт Айры и Джорджа Гершвин и появлялся там почти каждую неделю в сопровождении шумной компании учеников. Он также играл в теннис с Чаплином, который любил наблюдать за “прямым и резким маленьким человеком” в белой футболке и кепке. Он гордился тем, что его дочь Нурия и сыновья Лоуренс и Рональд ведут американский образ жизни, победа Рональда в юношеском теннисном чемпионате стала поводом для большого праздника. Хотя композитор так и не освоил английский в совершенстве, он знал изрядное количество американских сленговых выражений, при помощи которых мог ощутимо задеть. Когда один из учеников представил свое сочинение в подчеркнуто галопирующем ритме, Шенберг запрыгал вокруг, подражая Одинокому Ковбою и крича: “Но, Сильвер!” Он начал причудливо одеваться. По словам его ученицы Дайки Ньюлин, на одну из лекций в UCLA он пришел одетый в “рубашку персикового цвета, зеленый галстук в белый горошек, вязаный ремень ярчайшего лилового цвета с огромной золотой вычурной пряжкой и необыкновенно крикливый серый костюм в мелкую черную и коричневую полоску”.
В музыке Шенберг переживал период, который сам называл “стремлением к тональности”. Несколькими в большей или меньшей степени тональными произведениями – Вариациями на “Речитатив” для органа, opus 40, Kol Nidre для хора и оркестра, opus 39 и Темой и вариациями, opus 43, – он, очевидно, надеялся создать коммерческие “хиты”, прибыль от которых позволила бы ему продолжить работу над “Моисеем и Ароном” и другими более перспективными проектами. Даже додекафонные Скрипичный и Фортепианный концерты были написаны в надежде на то, что классические виртуозы радиоэры смогут их популяризовать. Эти произведения оказались настолько же финансово бесполезны в Америке, насколько и комическая опера “С сегодня на завтра” в Веймарской республике.
Как учитель Шенберг по-прежнему отличался резкостью и непреклонностью, но не навязывал свой подход ученикам. Он удивлял своими похвалами тональной симфонической музыке Сибелиуса и Шостаковича, хотя от него ждали порицания. Когда один из его учеников начал критиковать Шостаковича, Шенберг прервал его: “Этот человек – прирожденный композитор”. Пару раз он заставал свой класс врасплох сообщением, что “еще много хорошей музыки можно написать в до мажоре”.
Шенберг любил кино и надеялся сам писать киномузыку. В конце 1934 года Ирвинг Тальберг, болезненный главный продюсер MGM, услышал по радио “Просветленную ночь” или, возможно, Сюиту для струнных инструментов и пригласил композитора на встречу. Сценаристка Салка Виртел, которая при этом присутствовала, описывает незабываемую сцену в в своих мемуарах “Доброта незнакомцев”:
[Шенберг] до сих пор стоит у меня перед глазами, наклонившись вперед на своем стуле, обеими руками вцепившись в ручку зонтика, его горящие глаза гения прикованы к Тальбергу, который, стоя за своим рабочим столом, объяснял, почему он хочет, чтобы великий композитор написал музыку для “Доброй земли”. Когда он произнес: “В прошлое воскресенье я слушал вашу прелестную музыку…”, Шенберг резко прервал его: “Я не пишу “прелестную” музыку…” Он прочел “Добрую землю”, и он отказывался от работы, если ему не будет позволен полный контроль над звуком, включая слова. “Что вы имеете в виду под полным контролем?” – спросил Тальберг скептически. “Я имею в виду, что я должен буду работать с актерами, – ответил Шенберг. – Они должны будут произносить реплики в такой же тональности, в которой я напишу музыку. Это будет похоже на “Лунного Пьеро”, но, конечно, не так сложно”.
Невозмутимый Тальберг попросил Шенберга подумать, какая музыка лучше всего подойдет к этому сценарию. Композитор подготовил несколько набросков, по-прежнему склоняясь к тональной музыке. Камнем преткновения между композитором и главой студии был не стиль, а деньги: на следующей встрече Шенберг потребовал без малого 50 000 долларов, и Тальберг потерял интерес к проекту. После того как продюсер не появлялся три недели, Шенберг написал ему письмо в несвойственно просительном тоне: “Я не могу поверить, что это и есть ваше решение – оставить меня совсем без ответа. Возможно, вы разочарованы ценой, которую я запросил. Но, согласитесь, не моя вина, что вы не задали мне этот вопрос раньше, а только теперь, когда я уже потратил столько времени, дважды приходил к вам, прочитал книгу, размышлял, что я буду писать, и делал наброски”, Но MGM хранила молчание. Несколько месяцев спустя Шенберг посетил Paramount, чтобы обсудить проект под названием “Души в море”, но и из этого ничего не вышло. Додекафонный метод пришел на экраны при помощи изобретальной музыки Скотта Брэдли, который писал для мультфильмов про Тома и Джерри в сороковые, в частности к “В собачьей шкуре” и “Коту, который ненавидел людей”.
Главным произведением “американского” периода Шенберга было написанное в 1946 году Струнное трио, opus 45, полное намеков на противоречивые удовольствия, страдания, надежды и тоску жизни в Калифорнии. На первый взгляд, это произведение необычайной сложности, напоминающее о ранней необузданной атональной музыке Шенберга. Партитура полна искажений и шума, указаний на использование специфически мрачных приемов игры – sul ponticello (игра рядом с подставкой) и col legno (игра или стук по струнам древком смычка). И все же контрастные лирические моменты излучают ностальгию по прежнему тональному миру. По его собственному признанию, Шенберг музыкально изобразил острый приступ астмы, перенесенный летом 1946 года, во время которого его пульс на время остановился, и ему пришлось делать инъекцию в сердце. Некоторые пассажи, объяснял он, олицетворяют инъекции, а другие – санитара, который ухаживал за больным. Композитор Алан Шоун в книге о Шенберге отмечает, что Струнное трио – это своего рода экстравагантная автобиография, “как если бы в бреду он пересмотрел свою жизнь”. Финал здесь мягкий, исполненный смутного сожаления.
Рональд Шенберг, старший из двух американских сыновей композитора, по-прежнему живет в том самом доме в Брентвуде, где его отец провел последнюю часть своей жизни. Он вспоминает, что в детстве экскурсионные автобусы часто появлялись на этой улице и голос из громкоговорителя указывал на дом Ширли Темпл. Гид никогда не упоминал, что на другой стороне улицы живет композитор “Ожидания”. “Мой отец всегда немного огорчался по этому поводу, – говорит сын. – Но однажды мы зашли в бар соков на Первой автостраде, где по радио передавали “Просветленную ночь”, и он был счастлив как никогда”.
Игорь Стравинский приехал в Калифорнию в 1940 году. За год до этого он прибыл на Восточное побережье, чтобы прочитать курс лекций в рамках курса Чарльза Элиота Нортона в Гарварде. Вскоре после финальной лекции пала Франция, и Стравинский вновь оказался беженцем от истории XX века.
Лос-Анджелес, естественно, привлекал его не только из-за приятного климата, но и из-за возможности поработать в кино. Как и Шенберг, Стравинский был поклонником кинематографа, ему нравились классические немые фильмы Чаплина, комедийные шедевры Бастера Китона, романтические комедии Трейси и Хепберн и мультфильмы Диснея. Вероятность сотрудничества Стравинского с Диснеем в особенности возбуждала прессу. “Возможно, Америке еще предстоит увидеть, как Микки Маус спасает царевну в “Жар-птице,” – писал в 1940 году Cincinnati Enquirer. Обсуждались амбициозные идеи создания целого мультфильма с музыкой Стравинского. Он вел переговоры с другими студиями и даже сделал наброски к фильмам “Десантники нападают на рассвете” (о нацистской оккупации Норвегии), “Северная звезда” (о русской деревне в осаде), “Песнь Бернадетты” (по роману его друга Франца Верфеля), “Джейн Эйр” (с Орсоном Уэллсом, чьим “Гражданином Кейном” Стравинский восхищался).
В итоге музыка Стравинского звучит только в одном голливудском фильме – мультипликационном magnum opus Диснея “Фантазия”, где динозавры танцуют под ритмы “Весны священной”. Позднее Стравинский заявлял, что был в ужасе от “Фантазии”, хотя не существует никаких свидетельств, подтверждающих это. “Кажется, Игорю нравится”, – прокомментировал в письме 1941 года Хиндемит.
Почему Стравинскому так не повезло в Голливуде? Проблемы не были связаны с деньгами, как в случае Шенберга. Главы студий были уверены, что имя Стравинского привлечет публику: известно, что Луис Б. Мейер согласился заплатить композитору колоссальную сумму 100 000 долларов, более миллиона в пересчете на современные деньги. В обзоре голливудской деятельности композитора Чарльз Джозеф отмечает, что практически во всех случаях Стравинский требовал слишком много времени, чтобы закончить музыку, и слишком много контроля над конечным продуктом. Студии, возможно, благоговели перед Стравинским как культовой фигурой, но они не могли останавливать дорогие проекты в ожидании, пока композитор разлинует бумагу и разберется с цветными карандашами в поиске идеальной музыки для норвежских десантников. В других областях Стравинский с удовольствием подыгрывал культурной индустрии, написав Tango, которое играл ансамбль Бенни Гудмена; “Цирковую польку”, которую в цирке братьев Ринглинг, Барнума и Бейли танцевали 50 девушек и 50 слонов, одетых в розовые пачки (хореографом был Баланчин), и еще Scerzo a la russe для Пола Уайтмена и Ebony Concerto для Вуди Хермана.
Немного неожиданным было то, что главными работами первых лет Стравинского в Америке стали симфонии: Симфония до мажор (начатая в Париже в 1938-м, законченная в Лос-Анджелесе в 1940-м и впервые сыгранная Чикагским симфоническим оркестром тогда же), “Ода” (три симфонические части, созданные по заказу Бостонского симфонического оркестра, премьера состоялась в 1943 году) и “Симфония в трех движениях” (Нью-Йоркская филармония, 1943 год). Кажущаяся безграничной жажда Америки в отношении симфонической музыки, будь то Бетховен, Брамс, Шостакович или Рой Харрис, возможно, послужила для Стравинского толчком к работе с формой, которой он избегал со времен учебы у Римского-Корсакова (если “Симфонию псалмов” выделить в отдельную категорию).
“Симфония в трех движениях” стала одной из его вершин. Она необычна для Стравинского, потому что следует псевдоромантическому нарративному замыслу через борьбу к развязке. Первая часть полна динамизма, пасторальное Аndante дает временное облегчение, финал возвращает конфликт даже в более резком ключе. Расставшись с традиционным для себя в период после 1918 года определением музыки как искусства самостоятельного и антиэкспрессивного, Стравинский впоследствии в качестве источника вдохновения называл кинохронику, в которой солдаты идут гуськом. Симфония начинается с эффектного, почти кинематографического жеста – закрученный в водоворт бег струнных, низких деревянных духовых и фортепиано вместе с фанфарами четырех валторн, напоминающий удлиненное начало “Царя Эдипа”. Затем – суровый честный марш. Но Стравинский остается самим собой: начальная фраза повторяется, беспорядочно фрагментируется, как будто кинохронику реконструируют в кубистский коллаж. Ритмы отстают и наскакивают, простые аккорды неожиданно сталкиваются друг с другом. Напоминающие о войне звуки оживляют финал: медленный мерный ритм, жизнерадостные возгласы валторн и в конце показной, быстрый и признающий свою принадлежность к Голливуду аккорд победы – звук Америки на марше.
7 августа 1945 года, на следующий день после того, как ядерная бомба разрушила Хиросиму, Стравинский добавил дополнительную длительность к финальному аккорду, возможно в знак уважения к огромной военной мощи страны, гражданином которой он вскоре стал.
19 июля 1942 года NBC транслировало “Ленинградскую” симфонию Шостаковича в исполнении симфонического оркестра под управлением Тосканини. Это было самое выдающееся событие для новой музыки эпохи радио, как писал Times, на обложке которого была фотография Шостаковича в шлеме пожарного.