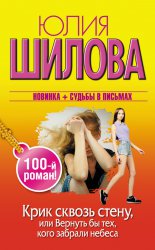Имя мне – Красный Памук Орхан

Алиф
Триста пятьдесят лет назад, в тот год, когда холодным февральским днем монголы взяли и безжалостно разграбили Багдад, Ибн Шакир, несмотря на свой молодой возраст, уже был самым знаменитым и искусным каллиграфом не только среди арабов, но и во всем исламском мире. В прославленных на весь свет багдадских библиотеках хранилось двадцать два написанных его рукой тома – большинство из них списки Корана. Ибн Шакир верил, что эти книги доживут до конца света, и поэтому жил с ощущением глубины и бесконечности времени. За несколько дней монголы хана Хулагу разорвут, сожгут и побросают в воды Тигра все его прекрасные творения, о которых ныне мы ничего не знаем; но накануне взятия Багдада он неустанно и бесстрашно продолжал трудиться над последней своей книгой. Всю ночь он работал при дрожащем свете свечей, а в час утренней прохлады поднялся на минарет мечети Халифа, чтобы, повернувшись спиной к востоку, посмотреть на запад, на линию горизонта, ибо так на протяжении пяти столетий делали почитающие традиции и верящие в бессмертие книг арабские каллиграфы, чтобы дать отдохнуть глазам и спасти их от слепоты. Оттуда, с балкончика минарета, он видел, как творится то, что положит конец пятисотлетней книжной традиции. Он первым увидел, как в Багдад входят безжалостные воины Хулагу, – и остался стоять на минарете. Он видел, как грабят и громят город, как сотни тысяч человек погибают под ударами мечей, как убивают последнего халифа из династии, пять сотен лет правившей Багдадом, как насилуют женщин, как жгут библиотеки и бросают в Тигр десятки тысяч томов. Через два дня, когда над городом стоял смрад разлагающихся трупов и отовсюду раздавались крики умирающих, Ибн Шакир, глядя на воды Тигра, красные от чернил, смытых с брошенных в реку книг, подумал о том, что все эти столь красиво написанные книги, ушедшие в небытие, не смогли остановить ужасную резню и предотвратить разрушения, – и поклялся никогда больше не писать. Более того, ему захотелось выразить свою боль и рассказать об увиденном им бедствии с помощью искусства рисунка, которое он прежде презирал, считая возмущением против Аллаха. Взяв лист бумаги, с которой никогда не расставался, он нарисовал на нем то, что видел с минарета. Этому счастливому обстоятельству мы и обязаны тем, что после монгольского нашествия исламский рисунок обрел новую силу. В отличие от рисунков идолопоклонников и христиан мир в нем показан сверху, с непременной линией горизонта, таким, каким его видит Аллах; а в сердце художника живет искренняя боль. И вот еще что важно: после резни в Багдаде Ибн Шакир, движимый поселившимся в его душе стремлением рисовать, пешком отправился на север, туда, откуда пришли полчища монголов, и изучил манеру китайских мастеров. Так вот и стало ясно, что идея бесконечности времени, пять столетий жившая в сердцах арабских каллиграфов, должна воплотиться не в буквах, а в рисунке. И это воистину так, ибо книги рвут и уничтожают, но страницы с рисунками вставляют в другие книги. Они будут жить вечно, показывая, каков мир Аллаха.
Ба
Все в мире повторяется, поэтому, если бы человек не старился и не умирал, он и не замечал бы течения времени. Мы рассказываем одни и те же истории и сопровождаем их одними и теми же рисунками, как будто бы времени в мире вовсе нет. Так вот, то ли в давнее это было время, то ли в недавнее, но небольшое войско шаха Фахира, как пишет Салим из Самарканда в своем кратком историческом сочинении, «рассеяло» армию хана Салахаддина. Победитель подверг побежденного пыткам и казнил, а затем, как это принято, первым делом отправился в библиотеку и гарем, дабы утвердиться в роли нового владыки. Опытный мастер-переплетчик стал расшивать книги покойного хана, менять местами страницы и составлять новые тома; каллиграфы принялись заменять слова «непобедимый Салахаддин» на «победоносный шах Фахир», а художники брали самые лучшие рисунки и, стирая лик хана Салахаддина, который уже начал забываться, рисовали вместо него более молодое лицо шаха Фахира. В гареме шах сразу отыскал самую красивую женщину, однако, будучи человеком утонченным, любителем книг и миниатюры, он не стал овладевать ею насильно, а решил завоевать ее сердце и завел с ней разговор. Нариман-султан, прекрасная вдова хана Салахаддина, со слезами на глазах попросила своего будущего мужа лишь об одном: оставить в неприкосновенности миниатюру из книги про Лейлу и Меджнуна, где сама Нариман-султан была изображена в виде Лейлы, а в виде Меджнуна – хан Салахаддин. Ее покойный муж столько лет заказывал книги, пытаясь таким путем обрести право на бессмертие, – неужели он не заслужил того, чтобы остаться на одном-единственном рисунке? Победоносный шах Фахир великодушно согласился исполнить несложную просьбу, и художники не стали исправлять эту миниатюру. Затем Нариман и Фахир сразу же предались любовным утехам и вскоре забыли об оставшихся в прошлом ужасах войны. Однако о том рисунке из книги про Лейлу и Меджнуна шаху забыть не удалось. Его не тревожило то, что его жена изображена на этом рисунке рядом с бывшим мужем, и ревность его не мучила, нет. Его грызла мысль о том, что, не будучи изображенным в чудесном своде старинных легенд, он не попадет вместе со своей женой в бесконечное время, не войдет в сонм бессмертных. Пять лет терзал его червь сомнения, и вот однажды, после счастливой ночи, проведенной в объятиях Нариман, он вышел из опочивальни и со свечой в руке, тихо, словно вор, пробрался в собственную библиотеку. Открыв книгу о Лейле и Меджнуне, он стер лицо бывшего мужа Нариман и попытался пририсовать Меджнуну свое собственное лицо. Однако, подобно многим правителям, любящим искусство миниатюры, художником он был неумелым, и собственное лицо у него вышло не очень удачно. Поэтому, когда хранитель библиотеки утром открыл книгу и увидел возле Лейлы с лицом Нариман Меджнуна с каким-то новым ликом, он объявил, что это лик главного врага шаха Фахира – молодого и красивого хана Абдуллаха. Слухи об этом смутили боевой дух воинов шаха, а молодому и воинственному правителю соседней страны придали смелости. В первой же битве хан Абдуллах разгромил шаха Фахира, взял его в плен и казнил, затем завладел его библиотекой и гаремом, и у Нариман-султан, прекрасной, как прежде, появился новый муж.
Джим
Среди художников хорошо известна история о мастере, которого в Стамбуле называют Долгим Мехмедом, а в стране персов – Мохаммедом из Хорасана. Обычно эту историю вспоминают, когда речь заходит о долгой жизни и слепоте, но на самом деле она скорее о рисунке и времени. Долгий Мехмед стал подмастерьем в девять лет, а значит, примерно сто десять лет занимался нашим ремеслом – и при этом не ослеп. Но самой главной его особенностью было полное отсутствие особенностей. Я так сказал не для того, чтобы поиграть словами; это искренняя похвала. Рисовал он как все и точнее всех повторял манеру старых мастеров – потому и был самым великим художником. Из-за своей скромности и преданности искусству, которое он почитал служением Аллаху, Мехмед никогда не ввязывался в склоки, случавшиеся в мастерских, где он работал, и никогда не притязал на должность главного художника, хотя возраст у него для этого был подходящий. Все сто десять лет он тихо сидел в уголке и терпеливо рисовал траву и тысячи листьев, заполняющих края страниц, завитки облаков, гривы коней – волосок к волоску, кирпичные стены и бесконечно повторяющие друг друга настенные узоры, а еще – десятки тысяч лиц с раскосыми глазами и узкими скулами, похожих друг на друга как две капли воды. Он был очень счастлив и молчалив. Он не то что не пытался протолкнуться локтями в первые ряды – не выдвигался вовсе; собственный стиль создать не дерзал. В какой бы мастерской, у какого бы хана или вельможи ни работал Долгий Мехмед, он считал мастерскую своим домом, а себя – ничтожной ее принадлежностью. Ханы и шахи убивали друг друга, художники, подобно гаремным женщинам, перебирались из города в город вслед за новыми повелителями – и едва они устраивались на новом месте, как стиль новой мастерской уже проявлялся в извивах его листьев и травы, изгибах скал, в невидимых изгибах его терпения. Когда ему было восемьдесят, никто уже не верил, что он смертен, – казалось, он живет в тех легендах, иллюстрации к которым рисует. Оттого, возможно, некоторые и говорили, что он пребывает вне времени, а потому никогда не умрет. Да и то обстоятельство, что неприкаянная жизнь в мастерских, где он дневал и ночевал, не отрывая глаз от бумаги, не лишила его зрения, объясняли всё так же: время для него чудесным образом остановилось. Некоторые, впрочем, говорили, что на самом деле он слеп, но беды в том нет, потому что он все рисует по памяти. Легендарный мастер никогда не был женат и никого не любил. Но однажды, когда ему шел уже сто девятнадцатый год, в мастерской шаха Тахмаспа появился новый подмастерье – шестнадцатилетний луноликий юноша с раскосыми глазами и узкими скулами, наполовину китаец, наполовину хорват, образец мужской красоты – именно такие лица Долгий Мехмед рисовал всю свою жизнь. Старый мастер влюбился – и, чтобы снискать расположение прекрасного юноши, как настоящий влюбленный, стал добиваться власти в мастерской, затевать склоки, лгать и строить козни. Поначалу Долгого Мехмеда взбодрила эта суетная, сиюминутная возня, от которой ему сто лет удавалось держаться в стороне, – однако он выпал из бесконечного времени старых легенд. Как-то раз после полудня он долго стоял у открытого окна, наблюдая за красавцем-учеником, и простыл на холодном тебризском ветру. На следующий день он так чихал, что ослеп, а еще через два дня упал с высокой каменной лестницы мастерской и расшибся насмерть.
– Имя Долгого Мехмеда из Хорасана мне известно, но этой истории я раньше не слышал, – проговорил Кара.
Сказал он это затем, чтобы показать: он понял, что мой рассказ закончен, и размышляет над ним. Я немного помолчал, давая ему возможность посмотреть на меня. Я не люблю, когда мои руки ничем не заняты, и поэтому, приступая ко второму рассказу, вернулся к рисунку, над которым работал, когда Кара постучал в дверь. У моих коленей, как обычно, тихо сидел, слушая рассказ и наблюдая за моими движениями, подмастерье, красавец Махмуд, – он смешивает краски, чинит перья, а когда мне случается ошибиться, стирает неудачное место. Было слышно, как во внутренних комнатах ходит моя жена.
– О! – сказал Кара. – Султан встал!
Заметив, как изумленно он воззрился на рисунок, я сделал вид, что причина этого изумления кажется мне не заслуживающей внимания, но вам скажу, в чем тут дело. Рисунок изображал сцену из «Сурнаме»: во время празднеств, посвященных обрезанию наследника, мимо нашего повелителя султана пятьдесят два дня проходят торговцы, ремесленники, воины, разбойники и прочий люд; султан наблюдает за шествием, сидя в арке галереи. Да, на всех двухстах рисунках султан изображен сидящим. И только на этом рисунке он у меня стоит, осыпая народ на площади флоринами из битком набитых мешочков. Я сделал это для того, чтобы лучше передать изумление и радость людей, которые, стремясь ухватить монеты, дерутся, пинаются, дубасят друг друга кулаками и ползают по земле, кверху задом.
– Если рисунок повествует о любви, исполнять его надлежит с любовью, – сказал я. – Если он призван источать печаль, не скорбные позы и реки слез должны выражать ее, но незаметная с первого взгляда внутренняя гармония. Сотни художников, желая изобразить изумление, веками рисовали человека с засунутым в рот указательным пальцем. Я не стал этого делать, изумлением веет от всего моего рисунка. Я добился этого, подняв нашего повелителя на ноги.
Кара внимательно оглядывал мои вещи и рабочие принадлежности, словно пытаясь найти какую-то подсказку; я и сам, неотступно думая о том же, словно бы озирал свой дом его глазами.
Одно время в Тебризе и Ширазе было принято изображать дворцы, бани, крепости особым образом, так, будто на них устремлен взгляд всевышнего Аллаха, всезнающего и всевидящего. Художник словно бы рассекал дворец пополам огромной волшебной бритвой и рисовал все, что находится внутри: тарелки, чашки, невидимые снаружи узоры на стенах, занавеси, попугая в клетке и самые сокровенные уголки, где сидят на подушках не видевшие солнца красавицы. Будто читатель, с изумлением разглядывающий такой рисунок, изучал Кара мои книги, краски, листы бумаги, страницы кыяфетнаме[55] и муракка, которые я делал для любопытных путешественников-европейцев, изготовленные на скорую руку по заказу одного паши рисунки со сценами совокупления и другими непристойностями, мои разноцветные чернильницы из стекла, бронзы и глины, перочинные ножи слоновой кости, позолоченные перья, моего красавца-ученика, не упуская из виду и те взгляды, которые тот кидал в мою сторону.
– В отличие от старых мастеров я видел много войн, очень много, – сказал я, чтобы прервать молчание. – Видел военные машины, пушки, войска, убитых. Это я расписывал своды походных шатров нашего султана и его пашей. Вернувшись в Стамбул, я рисовал ратные сцены, о которых никто не хочет помнить: рассеченные надвое тела, смешавшиеся в яростной стычке воинства, несчастных воинов-гяуров, в ужасе смотрящих с башен своей осажденной крепости на наши пушки и войска, казненных мятежников и стремительные конные наступления. Я запоминаю, как выглядит все, что я вижу: новая мельница для кофе, оконная ручка необычной формы, пушка, курок нового европейского ружья; я помню, кто как был одет на пиршестве, кто что ел, кто, куда и как положил свою руку…
– Чему учат три рассказанные тобой истории? – спросил Кара с таким видом, будто хотел подвести итог нашей беседе, даже немного требовательно.
– Первая история, про минарет, учит тому, что, каким бы выдающимся ни было мастерство художника, безупречным рисунок делает время. Вторая история, про гарем и книгу, утверждает, что за пределы времени может выйти только мастерство и рисунок. А про третью скажи сам.
– Третья история, – уверенно заключил Кара, – про художника ста девятнадцати лет, объединяет уроки первой и второй и показывает, что отказавшийся от безупречной жизни и безупречного рисунка тем самым кладет конец своему времени и умирает.
14. Меня называют Зейтин
Через некоторое время после полуденного намаза, когда я бегло, но с удовольствием набрасывал милые лица мальчиков, в дверь постучали. Я тут же бросил рисовать, от волнения задрожали руки. Я осторожно отложил в сторону мою рабочую доску и как на крыльях понесся к двери. Перед тем как открыть ее, я вознес молитву. Поскольку вы, кто прочитает мой рассказ в книге, гораздо ближе к Аллаху, чем к нашему грязному, жалкому миру и к подлым рабам нашего султана, я, пожалуй, расскажу вам, в чем тут дело. Индийский султан, самый богатый из властителей мира, велел сделать книгу, слава которой затмила бы славу всех других великих книг, и разослал весть во все исламские страны, созывая к своему двору лучших художников. Его посланники, добравшиеся до Стамбула, вчера приходили ко мне и предложили отправиться в Индию. Но на этот раз за дверью были не они, а Кара, знакомый детства, о котором я сто лет не вспоминал. Когда-то он пытался стать одним из нас, не смог и оттого нам завидовал. В чем дело?
Оказывается, он пришел поговорить, вспомнить старую дружбу, посмотреть мои рисунки. Пожалуйста, пусть смотрит на все, что у меня есть. Он побывал у мастера Османа, поцеловал ему руку. Великий мастер изрек, что истинной цены художнику не узнать, если не задуматься о слепоте и памяти. Что ж, вот что я об этом думаю.
Слепота и память
До того как люди начали рисовать, была тьма, и тьма настанет, когда они перестанут рисовать. С помощью красок, мастерства и любви мы напоминаем, что Аллах некогда сказал нам: «Увидьте же!» Помнить – значит знать, что ты видел. Знать – значит помнить, что ты видел. Видеть – значит знать, не вспоминая. Стало быть, рисовать – значит вспоминать тьму. Великим мастерам известно, что цвета и способность видеть проистекают из темноты, и поэтому их любовь к рисунку есть желание вернуться во тьму Аллаха через цвета. Тот, у кого нет памяти, не может помнить ни Аллаха, ни его тьму. Все великие мастера, рисуя, ищут эту глубинную тьму, пребывающую в цветах и за пределами времени. Старым мастерам Герата удалось ее найти. Чтобы вы поняли, что значит помнить эту темноту, я расскажу вам три истории.
Три истории о слепоте и памяти
Алиф
В «Нефехат-аль-онс»[56], сочинении поэта Джами о святых и праведниках, переведенном на турецкий язык Ламии Челеби[57], рассказывается о том, что художник Шейх Али из Тебриза, который прославился, работая в книжной мастерской Джиханшаха, правителя Кара-Коюнлу[58], сделал великолепные миниатюры к книге о Хосрове и Ширин, работа над которой продолжалась одиннадцать лет; при этом он поднялся до вершин мастерства, каких достигал разве что Бехзад, самый великий художник прошлого. Книга еще не была изготовлена и наполовину, а Джиханшах уже понял, что станет обладателем сокровища, равного которому нет в целом мире, и слава его и могущество необычайно возрастут. А надо сказать, что Джиханшах жил в постоянном страхе перед правителем Ак-Коюнлу[59] молодым Узун-Хасаном, которому завидовал и которого объявил своим главным врагом. И вот Джиханшаху пришло в голову: а что, если после завершения великого труда Узун-Хасан задумает создать книгу еще более великолепную? И кому же он ее закажет, как не Шейху Али, который вполне может повторить свое творение, а то и превзойти самого себя? Эти мысли отравляли счастье Джиханшаха, не способного смириться с мыслью, что кто-то может оказаться счастливее его. И вот, решив, что никто, кроме него, не должен владеть великой книгой, он задумал сразу же после завершения работы над ней умертвить Шейха Али. Но одна добросердечная красавица-черкешенка из гарема подсказала ему, что мастера достаточно просто ослепить. Джиханшаху это предложение понравилось, и он рассказал о нем окружавшим его льстецам. Известие об этом дошло и до Шейха Али, но он не сбежал в Тебриз, бросив книгу недоделанной, как поступил бы на его месте какой-нибудь заурядный художник, и даже не замедлил работу, чтобы оттянуть злосчастное мгновение, и не рисовал скверно, чтобы книга вышла не безупречной, – напротив, он стал работать с еще большим рвением и пылом. Жил он один, работал дома: после утреннего намаза брался за кисть и рисовал кипарисы, коней, драконов, прекрасных принцев и влюбленных до полуночи, когда при свете свечей начинали слезиться усталые глаза. Он мог долго рассматривать миниатюру, принадлежащую какому-нибудь из старых мастеров Герата, а потом, не глядя на лист, нарисовать точно такой же – чаще всего так и делал. И вот книга была закончена, и мастер, как он и ожидал, был сначала осыпан похвалами и золотом, а потом ослеплен острой иглой, которой скрепляют тюрбан. Не успела еще утихнуть боль, как Шейх Али покинул Герат и явился к Узун-Хасану. «Да, я слеп, – сказал художник, – но вся красота книги, которую я делал одиннадцать лет, живет в моей памяти – каждый штрих пера, каждый мазок кисти. Моя рука может все это нарисовать снова. Повелитель, я готов сделать для тебя самую великолепную, небывалую книгу. Грязь этого мира более не смущает мои глаза, и поэтому по памяти я способен изобразить все красоты, созданные Аллахом, в их первозданной чистоте». Узун-Хасан сразу же поверил великому мастеру, а тот, сдержав слово, сотворил для правителя Ак-Коюнлу самую великолепную, небывалую книгу. После того как Узун-Хасан разгромил войска Кара-Коюнлу у озера Бингёль и казнил Джиханшаха, всем стало ясно, какой духовной силой обладает эта новая книга. Правда, потом победоносный Узун-Хасан проиграл Мехмеду Завоевателю[60] сражение при Отлукбели, и теперь эта книга, так же как и та, что Шейх Али из Тебриза сделал для Джиханшаха, находится в сокровищнице нашего султана. Кто видел, тот знает.
Ба
Блаженной памяти султан Сулейман Законодатель[61] ценил каллиграфию больше, чем миниатюру. Поэтому невезучие художники, которым выпало жить во времена его правления, любили рассказывать эту историю, чтобы доказать, что рисунок важнее написанных слов; однако любой, кто внимательно ее выслушает, заметит, что на самом деле в ней говорится о слепоте и памяти. После смерти повелителя вселенной Тимура его сыновья и внуки повели между собой жестокие войны. Захватив чужую столицу, каждый первым делом приказывал чеканить деньги со своим именем и возносил благодарственную молитву в мечети, а затем начинал разбираться с захваченными книгами: одни страницы выбрасывали, другие вставляли, заново переплетали книги и писали новые посвящения очередному «повелителю вселенной», дабы всякий, кто посмотрит книгу, верил, что поименованный в посвящении и в самом деле владыка мира. Взяв Герат, Абд ал-Латиф, сын Улугбека[62], сразу же отдал приказ изготовить книгу в честь своего отца; но художников, каллиграфов и переплетчиков заставили работать в такой спешке, что вытащенные из разных сочинений рисунки и страницы с текстом перепутались. Абд ал-Латиф не мог преподнести своему отцу, большому любителю книг, это нелепое собрание листов, в котором рисунки не сочетаются с рассказом; поэтому он собрал всех художников Герата и велел им для начала определить, какой рисунок к какой истории относится. Но каждый художник говорил свое, лишь усугубляя путаницу. Тогда вспомнили об одном слепом старике, который работал над книгами для всех шахов и наместников, что правили Гератом за последние пятьдесят четыре года. Художники зашумели, некоторые даже стали смеяться над слепцом, но тот, равнодушный к насмешкам, попросил привести смышленого, но не умеющего читать и писать ребенка, которому не исполнилось еще семи лет. Просьбу немедленно выполнили. Старый художник положил перед мальчиком рисунки и попросил рассказать, что на них изображено. Мальчик рассказывал, а старик, подняв к небу незрячие глаза, внимательно слушал и затем говорил:
«Фирдоуси, „Шахнаме“, Искандер обнимает умершего Дару…[63] Саади, „Полистан“, история об учителе, влюбившемся в красивого ученика… Низами, состязание врачей из „Сокровищницы тайн“…»
Другие художники стали злиться, говоря:
«Да это самые известные сцены из самых знаменитых историй! Их и мы могли бы назвать!»
Тогда старик попросил положить перед мальчиком самые темные для толкования рисунки и снова внимательно стал его слушать.
«Фирдоуси, „Шахнаме“, Ормузд убивает каллиграфов, отравив их ядом… Мевляна[64], «Месневи», скверный рассказ о муже, заставшем жену с любовником в ветвях груши, и рисунок плохой…»
И так он определил содержание всех рисунков, хотя и не мог их увидеть, благодаря чему книгу наконец удалось составить и переплести.
Когда Улугбек со своим войском вошел в Герат, он захотел узнать у старого мастера, отчего тот, не видя рисунков, понял, к каким историям они относятся, а зрячие художники сделать этого не сумели.
«Причина не в том, что у меня, как у всех слепых, очень хорошая память, – сказал старик. – Истории запоминаются не только по образам, но и по словам».
Улугбек спросил, почему же тогда другие художники, знающие истории по словам, не смогли опознать рисунки.
«Они весьма высокого мнения о своем искусстве, – был ответ, – но не знают, что старые мастера рисовали, припадая к памяти Аллаха».
Откуда же об этом мог знать ребенок, осведомился Улугбек.
«Он и не знает, – пояснил старик. – Но мне, старому и слепому, ведомо, что Аллах создал мир таким, каким его хотел бы видеть смышленый семилетний ребенок. Ибо сначала Аллах сотворил мир, который можно увидеть. А потом дал нам слова, чтобы мы могли рассказать друг другу о том, что видим. Мы же сделали из слов истории и решили, что рисунки нужны для разъяснения историй. На самом же деле рисовать – значит напрямую обращаться к памяти Аллаха и видеть мир так, как видит Он».
Джим
Художники всегда боялись слепоты и пробовали предупредить ее. Известно, например, что среди арабских мастеров некогда было принято на рассвете подолгу смотреть на запад, на линию горизонта, а столетие спустя большинство художников Шираза ели по утрам на пустой желудок грецкие орехи, растолченные с лепестками роз. В те же самые годы одряхлевшие искусники Исфахана, повально страдавшие слепотой, полагали, что она наступает от солнечного света, и потому работали в полутемных углах, куда не дотянуться солнечному лучу, по большей части при свечах. У узбеков, в мастерских Бухары, художники по вечерам промывали глаза водой, над которой прочитал молитву шейх. Самый же простой выход, несомненно, нашел живший в Герате Саид Мирек, учитель великого Бехзада. Он считал, что слепота не наказание, а последняя милость, которую дарует Аллах художнику за то, что тот посвящает всю свою жизнь сотворенной Им красоте. Ибо рисунок – это попытка понять, как видит мир Аллах; однако достичь цели, увидеть несравненный образ художник может только на исходе полной трудов жизни, когда одряхлеет и ослепнет – и начнет вспоминать. Иными словами, только память слепого художника способна приоткрыть нам, каким Аллах видит мир. Всю жизнь художник набивает руку, чтобы в старости, когда из воспоминаний и темноты явится этот образ, рука сама смогла сделать дивный рисунок. Как пишет историк Мирза Мухаммад Хайдар Дуглат, оставивший жизнеописания гератских художников того времени, Саид Мирек, желая пояснить свое понимание рисунка, утверждал, что и самый бездарный художник рисует по памяти. Ведь даже если в голове у него совсем пусто и он надумает рисовать лошадь, глядя на настоящего скакуна, как это делают теперь европейские художники, он не сможет смотреть одновременно и на лошадь, и на бумагу, на которой рисует. Сначала художник смотрит на лошадь, а потом переносит на бумагу образ из своей головы. Пусть между взглядом на лошадь и взглядом на бумагу проходит мгновение – художник рисует не лошадь, которую видит, а лошадь, которую помнит. Это и служит доказательством тому, что, как бы ни был бездарен художник, рисунок возникает только благодаря памяти. Итак, в то время художники Герата считали, что все деяния их юности и зрелости – не что иное, как приуготовление к ожидающей впереди счастливой слепоте и работе по памяти; поэтому и все рисунки, исполненные для шахов и их сыновей, любителей книги, они воспринимали как пробу пера и кисти, как упражнение. Они трудились без передышки, рисовали день за днем, вглядываясь при свете свечей в лежащие перед ними страницы, – для них это была счастливая возможность достичь слепоты. Мастер Мирек иногда изображал на ногте, рисовом зернышке или даже на волоске пышное дерево со всеми его листьями, умышленно приближая наступление слепоты, а иногда осторожно отодвигал ее, творя на бумаге радостные сады, залитые солнцем, словно пытался определить самое подходящее время для прихода счастливой темноты. Когда ему было семьдесят лет, султан Хусейн Байкара[65], желая вознаградить великого мастера, открыл перед ним двери своей сокровищницы, где под замком помимо оружия, шелка, бархата и золота хранились тысячи книг. Три дня и три ночи Саид Мирек рассматривал при свете свечей в золотых подсвечниках дивные страницы прославленных книг, украшенные миниатюрами старых гератских мастеров, а на четвертый день ослеп. Великий мастер принял это со спокойствием и покорностью, как весть, принесенную ангелом. После этого он навсегда замкнул уста свои и никогда уже не брался за кисть. Мирза Мухаммад Хайдар Дуглат объясняет это тем, что художник, узревший просторы, что лежат в бессмертном времени Аллаха, уже не может вернуться к страницам, которые делают для простых смертных, и говорит: «Там, где память слепого художника достигает Аллаха, царят совершенное безмолвие, счастливая тьма и бесконечность пустых страниц».
Я, конечно, знал, что, задавая мне вопрос мастера Османа о слепоте и памяти, Кара хочет не столько узнать ответ, сколько осмотреться в комнате, оглядеть вещи и рисунок, и все же я обрадовался, увидев, как вдумчиво он меня слушает.
– Слепота – это счастливый мир, куда нет доступа шайтану и где нет места преступлению, – сказал я ему.
– В Тебризе, – заметил Кара, – есть художники, работающие в старом стиле, которые под влиянием истории про мастера Мирека считают слепоту благодеянием Аллаха и самым большим приобретением художника. Они стыдятся, если не слепнут, дожив до преклонных лет, и, опасаясь, как бы это не сочли доказательством их бездарности, притворяются слепыми. А некоторые под влиянием все той же истории (или оглядываясь на Джамала ад-Дина из Казвина), желая воспринимать мир подобно слепым, неделями без еды и питья сидят в темноте среди зеркал и рассматривают в тусклом свете свечи миниатюры старых гератских мастеров.
В дверь постучали. Я открыл и увидел на пороге миловидного ученика из нашей мастерской. Его красивые глаза были широко распахнуты. Он сообщил, что тело нашего собрата Зарифа-эфенди найдено в заброшенном колодце, что заупокойную молитву будут читать в мечети Михримах во время третьего намаза, и побежал передавать известие дальше. Да сохранит нас Аллах!
15. Меня зовут Эстер
Хотела бы я знать, любовь ли делает людей глупыми, или влюбляются только глупцы? Столько лет уже хожу со своим узлом и занимаюсь ремеслом свахи, а ответа на этот вопрос не нашла. Покажите мне того, кто, влюбившись, становится сообразительнее и хитрее. Особенно мужчину. Уж я-то знаю: если мужчина хитрит, расставляет ловушки, прибегает к обману, значит он ни капельки не влюблен. А наш Кара-эфенди уже потерял хладнокровие. Даже когда со мной говорил про Шекюре, совершенно собой не владел.
Когда мы встретились на базаре, я наплела ему, будто Шекюре только о нем и думает, только о нем и расспрашивает, никогда прежде ее такой не видела, – словом, то, что я говорю всегда и всем. Он так на меня смотрел, что мне стало его жалко. Письмо он попросил отдать Шекюре «как можно быстрее». Влюбленные глупцы воображают, будто любовь требует какой-то особой спешки, и, выказывая, как горячи их чувства, вкладывают оружие в руки своих возлюбленных; а те, если умны, медлят с ответом. Вот и выходит, что поспешность в любви лишь стопорит все дело.
Так что Кара-эфенди должен мне спасибо сказать, что я его письмо сначала отнесла в другое место. Замерзла я, пока ждала его на базаре. Дай, думаю, зайду по пути к одной из моих доченек, согреюсь. Доченьками я называю девушек, которых выдала замуж, передавая их письма. Эта тощая девица так мне благодарна, что каждый раз, когда я прихожу, так и вьется вокруг меня, да еще и парочку акче дает. Сейчас она ждет ребенка, рада-радешенька. Я с удовольствием выпила липового чая, который она для меня заварила. Когда она выходила из комнаты, я посчитала монеты, которые дал мне Кара-эфенди. Двадцать акче.
Затем я отправилась дальше. Пробираться по переулкам непросто: грязь замерзла, того и гляди ноги переломаешь. Когда я добралась до нужного дома, мне захотелось пошутить.
– А вот шали из Кашмира, лучше не бывает! – закричала я. – Батист, достойный султана! Бархат для поясов из Бурсы! Египетская бязь с шелковой кромкой, для рубашек лучше не найти! Батистовые покрывала и простыни, разноцветные платки!
Дверь открыли, я вошла. Внутри, как всегда, пахло неубранной постелью, сном, пережаренным маслом и затхлой сыростью. Вселяющий ужас запах стареющего неженатого мужчины.
– Чего раскричалась, старая карга?
Я ничего не ответила, только достала письмо и протянула ему. Он скользнул ко мне, словно тень, схватил листок и шагнул из полутемной прихожей в соседнюю комнату, где всегда горит лампа. Я остановилась на пороге.
– Отец твой дома?
Он не ответил: был увлечен чтением. Ладно, пусть читает. Лампа стояла у него за спиной, так что лица я не видела. Добравшись до конца письма, он начал читать заново.
– Ну, – спросила я, – что пишет?
Хасан прочитал вслух:
Дорогая Шекюре-ханым! Я тоже многие годы живу мечтой об одном-единственном человеке, поэтому понимаю и ценю, что ты ждешь своего мужа и думаешь только о нем. Чего еще можно ожидать от такой честной и чистой женщины, как ты? (Тут Хасан расхохотался.) В ваш дом я пришел затем, чтобы поговорить с твоим отцом о делах книжных, – а не для того, чтобы смущать твой покой. Такое мне и в голову не приходило. И я вовсе не думаю, что ты подала мне какой-то знак или, тем более, к чему-то меня поощрила. Когда ты, словно луч солнца, показалась в окне, я воспринял это лишь как милость, ниспосланную мне Аллахом. Ибо одного только счастья видеть твое лицо мне достаточно. («Это он стащил у Низами», – сердито бросил Хасан.) Но раз уж ты пишешь, чтобы я к тебе не приближался, скажи: разве ты грозный ангел, чтобы я боялся приблизиться к тебе? Послушай меня, послушай: ночами в мрачных и пустых караван-сараях, где, кроме меня, угрюмого хозяина и нескольких разбойников, давно заслуживших казнь, не было ни души, я смотрел в окно на голые вершины гор, осиянные лунным светом, пытался заснуть под вой одинокого – такого же одинокого, как я! – волка и мечтал о том, что придет день и ты вот так, нежданно, покажешься в окне. Послушай: сейчас, когда я зашел к твоему отцу по делу, связанному с книгами, ты возвращаешь мне рисунок, сделанный мной в детстве. Для меня это знак того, что я нашел тебя. Я знаю, это не знак смерти. Я видел одного из твоих сыновей, Орхана. Бедный сирота. Я буду ему отцом!
– Молодец, хорошо написал, – похвалила я. – Прямо поэт!
– «Разве ты грозный ангел, чтобы я боялся приблизиться к тебе?» – повторил Хасан. – Эти слова он украл у Ибн Зерхани[66]. Я лучше пишу. – Он достал из кармана свое собственное письмо. – Отнесешь это Шекюре.
Вместе с письмом он дал деньги – впервые мне сделалось как-то не по себе, когда я брала их. В слепом упрямстве этого человека, никак не желающего понимать, что ему не добиться взаимности, было что-то отвратительное. Словно желая укрепить меня в этом ощущении, Хасан впервые за долгое время отбросил учтивость, с которой обычно говорил о Шекюре, и грубо сказал:
– Передай ей, что, если мы захотим, приведем ее сюда силой, – кадий будет на нашей стороне.
– Что, так и сказать?
Хасан помолчал немного.
– Нет, не говори.
Лампа вспыхнула ярче, осветила его лицо, и я увидела, что он потупился, как сознающий свою вину ребенок. Да, я знаю, как он страдает, поэтому и уважаю его любовь, поэтому и ношу его письма. А не из-за денег, как думают.
Я уже выходила из дома, но Хасан задержал меня на пороге.
– Ты говоришь Шекюре, как сильно я ее люблю? – спросил он с волнением в голосе. Глупый вопрос.
– Разве ты не пишешь об этом в своих письмах?
– Скажи, как мне переубедить ее и ее отца?
– Будь хорошим человеком, – посоветовала я и направилась к двери.
– В моем возрасте уже поздно, – проговорил Хасан с искренней горечью.
– Ты теперь много денег зарабатываешь, Хасан Чавуш. Это делает человека хорошим, – утешила я и вышла.
В доме Хасана было так темно и тоскливо, что мне показалось, будто на улице стало теплее. Солнечные лучи слепили глаза. И я пожалела Шекюре – хоть бы ей улыбнулось счастье. Но и этого бедолагу, оставшегося в сыром, холодном и темном доме, тоже немного жаль. Вот и не собиралась этого делать, а свернула на рынок пряностей в Лалели – надеялась, что запахи корицы, шафрана и перца меня успокоят, но ошиблась.
Взяв у меня письма, Шекюре первым делом спросила про Кара. Я сказала, что он охвачен жестоким любовным огнем. Это ей понравилось.
– Все, даже женщины дома за вязанием, говорят сейчас о том, кому и зачем понадобилось убивать бедного Зарифа-эфенди, – перевела я разговор на другое.
– Хайрийе, приготовь халвы и отнеси бедняжке Кальбийе, вдове Зарифа-эфенди, – велела Шекюре.
– На похороны сойдутся все эрзурумцы, народу будет очень много, – продолжала я. – Родственники говорят, что кровь убитого не останется неотмщенной.
Но Шекюре уже начала читать письмо Кара. Я очень внимательно и сердито вгляделась в ее лицо. У этой женщины большой жизненный опыт, так что она не позволяет чувствам проступать на лице. Я молчала, понимая, что ей это нравится: молчу, значит, придаю письму Кара большое значение. Когда она кончила читать и улыбнулась мне, я, чтобы сделать ей приятное, была вынуждена спросить:
– Что пишет?
– Влюблен в меня. Как в детстве…
– А ты что думаешь?
– Я – замужняя женщина. Жду мужа.
Думаете, я обиделась – попросила меня помочь, а сама лжет? Напротив, я даже успокоилась. Если бы все девушки и женщины, которым я ношу письма и даю наставления о жизни, были бы так же осторожны, как Шекюре, это здорово облегчило бы дело, а некоторые из них вышли бы замуж куда удачнее.
– А другой что пишет? – спросила я.
– Письмо Хасана мне сейчас читать не хочется, – ответила Шекюре. – Он знает, что Кара вернулся в Стамбул?
– Он даже не знает, кто это такой.
– Ты разговариваешь с Хасаном? – спросила моя красавица, подняв на меня свои черные глаза.
– Разговариваю, потому что ты этого хочешь.
– Ну и?..
– Он страдает. Очень тебя любит. Даже если твоему сердцу мил другой, от Хасана будет непросто отделаться. Видя, что ты принимаешь его письма, он преисполнился больших надежд. Бойся его. Он готов не только вернуть тебя в дом, но и признать, что его брат мертв, а потом взять тебя в жены.
Я улыбнулась, чтобы смягчить угрозу, прозвучавшую в последних словах, и не показаться сторонницей этого горемыки.
– Хорошо, а другой что говорит? – спросила Шекюре, но знала ли она сама, кого имеет в виду?
– Художник?
– Что-то у меня в голове все перепуталось, – вдруг пролепетала она, испугавшись, должно быть, своих мыслей. – А дальше, боюсь, все еще больше запутается. Отец стареет. Что нас ждет впереди, что будет с моими детьми-сиротами? Я чувствую, что к нам приближается какая-то беда, что шайтан готовится обрушить на наши головы несчастья. Эстер, скажи мне что-нибудь хорошее, порадуй меня!
– Не бойся, милая моя Шекюре, – проговорила я, и душа у меня затрепетала. – Ты такая умная и красивая. Придет день, и ты ляжешь в постель с красавцем-мужем, обнимешь его, забудешь все свои горести и станешь счастлива. Я читаю это в твоих глазах.
Такая во мне поднялась нежность, что даже слезы на глаза навернулись.
– Да, но кто будет этот муж?
– Разве твое мудрое сердце не подсказывает тебе?
– Оттого я и несчастна, что не понимаю голоса своего сердца.
Наступила тишина. На какое-то мгновение мне показалось, что Шекюре нисколько мне не доверяет и искусно пытается это скрыть, а заодно разжалобить меня, чтобы я сболтнула что-нибудь лишнее. Поняв, что сейчас она на письма отвечать не будет, я ухватила свой узел и сказала на прощание слова, которые говорю всем девушкам, даже косым:
– Если ты пошире откроешь свои прекрасные глаза и будешь смотреть в оба, ничего плохого с тобой не случится, даже не думай! – И была такова.
16. Я – Шекюре
Раньше, когда приходила торговка Эстер, я каждый раз надеялась, что неведомый мужчина моей мечты решился наконец действовать и написал письмо, от которого забьется изо всех сил сердце такой женщины, как я, умной, красивой, выросшей в хорошей семье, овдовевшей, но очень порядочной. Увидев очередное письмо от одного из обычных моих воздыхателей, я хотя бы набиралась терпения и сил, чтобы ждать возвращения мужа. Теперь же после каждого прихода Эстер мысли путаются у меня в голове и я чувствую себя еще более несчастной.
Я прислушалась к звукам вокруг. Из кухни доносится бульканье кипящей воды и запахи лимона и лука: Хайрийе варит кабачки. Шевкет и Орхан во дворе, у гранатового дерева, сражаются игрушечными саблями, до меня долетают их крики. Отец в боковой комнате, там тихо. Я открыла и прочитала письмо Хасана – опять ничего внушающего надежду. Я только больше стала его бояться и похвалила себя за то, что смогла воспротивиться его домогательствам, когда мы жили с ним под одной крышей. Потом взяла в руки письмо Кара – осторожно, словно это хрупкая вещь, которая может разбиться, – перечитала его, и мои мысли снова пришли в смятение. Больше читать не было сил. Вышло солнце, и я подумала: если бы однажды ночью я разделила ложе с Хасаном, никто бы об этом не узнал, кроме Аллаха. Он так похож на моего пропавшего мужа – одно лицо. Какие же глупые и странные мысли лезут порой в голову! Солнечные лучи, лившиеся из дверного проема, согрели меня, и я вдруг ощутила всю свою разгоряченную кожу, все тело, до налитых сосков. Тут вошел Орхан.
– Мама, что ты читаешь? – спросил он.
Я, помнится, говорила вам, что не в силах была и дальше читать принесенные Эстер письма, – так вот, это неправда. Но на этот раз я и в самом деле сложила письма, спрятала их за пазуху и сказала Орхану:
– Ну-ка иди ко мне! Ох, какой ты тяжелый, большущий-то какой стал! – Поцеловала его и прибавила: – И холодный как ледышка.
– А ты, мама, такая жаркая! – сказал он и прислонился спиной к моей груди.
Нам обоим нравилось сидеть вот так, крепко прижавшись друг к другу, и молчать. Я ткнулась носом в его шею, поцеловала ее и обняла сына еще крепче. Так мы посиживали в тишине довольно долго, пока он не сказал:
– Мне щекотно.
– Скажи мне, пожалуйста, – произнесла я без тени улыбки, – если бы перед тобой возник падишах джиннов и пообещал исполнить любую твою просьбу, о чем бы ты попросил? Какое самое большое твое желание?
– Чтобы Шевкета с нами не было.
– А еще? Ты хочешь, чтобы у тебя был отец?
– Нет. Когда я вырасту, я сам на тебе женюсь.
Постареть, подурнеть, даже остаться без мужа и впасть в нищету не самое плохое, что может случиться в жизни, подумала я. По-настоящему плохо, когда никто тебя не ревнует. Я ссадила пригревшегося Орхана с коленей и, размышляя о том, что такой скверной женщине непременно нужно выходить замуж за хорошего человека, пошла к отцу.
– Когда наш всемилостивейший султан увидит завершенную книгу, он наградит вас, – сказала я, – и вы снова поедете в Венецию.
– Не знаю, – проговорил отец. – Это убийство меня испугало. Должно быть, наши враги очень сильны.
– Мне известно, что мое нынешнее положение тоже придает им смелости, способствует появлению ложных домыслов и безосновательных надежд.
– Ты о чем?
– Мне как можно скорее нужно выйти замуж.
– Что? – воззрился на меня отец. – За кого? Да ведь ты замужем! Что за странная мысль! Кто пожелает на тебе жениться? Даже если такой и найдется, даже если он будет человеком разумным, не думаю, что мы сможем так уж легко его принять, – объявил мой отец, человек весьма разумный, и заключил: – Тебе, разумеется, известно, какие серьезные затруднения нам придется преодолеть, прежде чем ты сможешь выйти замуж.
Наступило долгое молчание. Потом отец снова заговорил:
– Ты что, хочешь уйти и бросить меня, Шекюре?
– Вчера во сне я видела, что мой муж умер, – произнесла я, но не заплакала, как подобало бы женщине, в самом деле увидевшей такой сон.
– Для того чтобы понять рисунок, нужно уметь его прочесть. Точно так же и со снами.
– Думаете, мне нужно рассказать вам этот сон?
Повисло напряженное молчание. Мы улыбнулись друг другу, как люди, поспешно обдумывающие все выводы, которые можно сделать из сказанного ими.
– Я, конечно, могу истолковать твой сон так, что твой муж и в самом деле умер, и поверить в это – но твои свекор и деверь, а также кадий, который должен будет прислушиваться к их мнению, потребуют других доказательств.
– Уже два года прошло с тех пор, как мы с детьми перебрались сюда, а свекор и деверь не могут настоять на том, чтобы я вернулась.
– Поскольку отлично знают, что вели себя не безупречно. Но это не означает, что они согласятся признать тебя незамужней.
– Если бы мы с вами принадлежали к маликитскому или ханбалитскому мазхабу[67], – сказала я, – то кадий признал бы меня незамужней только потому, что со времени исчезновения мужа прошло четыре года, да еще назначил бы мне содержание. Но мы, по воле Аллаха, ханафиты, и нам такой выход из положения заказан.
– Только не рассказывай мне про помощника ускюдарского[68] кадия, который, мол, шафиит. Очень сомнительные дела они там творят.
– Все стамбульские женщины, у которых мужья пропали на войне, идут к нему со свидетелями, а он, будучи шафиитом, не спрашивает, как давно пропал муж, хватает ли средств к существованию, знакома ли ты со свидетелями, а сразу объявляет тебя незамужней.
– Откуда ты набралась всего этого, доченька? Кто тебя разума лишил?
– Пусть меня сначала признают вдовой, а потом, если найдется человек, способный лишить меня разума, на него, разумеется, укажете мне вы, и я ни в коем случае не буду противиться вашему выбору.
Мой хитрый отец, увидев, что дочь не менее хитра, часто заморгал. Одно из трех: или он попал в затруднительное положение и пытается быстро измыслить какую-нибудь хитрость; или на самом деле готов расплакаться от безнадежности и грусти; или только делает вид, что вот-вот заплачет, чтобы выбраться из затруднительного положения.
– Значит, хочешь забрать детей и уйти, а старый отец пусть остается один, да? Знаешь, я боялся, что меня убьют из-за нашей книги, – он так и сказал: «наша книга», – но теперь, когда ты собралась меня бросить, я и сам хочу умереть.
– Милый отец, разве не вы сами твердили, что я не избавлюсь от притязаний моего бестолкового деверя, пока меня не признают вдовой?
– Я не хочу, чтобы ты меня покинула. Кто знает, может быть, твой муж еще вернется. А если и не вернется, нет ничего плохого в том, что ты считаешься замужней. Главное, что ты живешь в этом доме вместе со своим отцом.
– Я и не хочу ничего другого, только жить с вами в этом доме.
– Дорогая моя, разве ты только что не говорила, что желаешь как можно скорее выйти замуж?
Вот так оно всегда: спорю с отцом, а в итоге сама начинаю верить, что не права.
– Говорила.
Я опустила глаза, сдерживаясь, чтобы не заплакать. Потом, осмелев от сознания своей правоты, спросила:
– Что же, я так никогда и не выйду больше замуж?
– Я мог бы смириться с твоим новым замужеством, если бы ты жила где-нибудь неподалеку. Кто он, человек, который хочет взять тебя в жены? Согласится он жить здесь?
Я молчала. Мы оба, разумеется, знали, что отец не смог бы уважать зятя, согласного поселиться в его доме, стал бы его изводить и унижать так коварно и изощренно, что я и сама бы уже не захотела жить с этим человеком.
– Ты ведь знаешь, что в твоем положении выйти замуж без согласия отца, почитай, невозможно? Так вот, я этого не желаю и согласия своего не даю.
– Я не замуж хочу, а чтобы меня признали вдовой.
– Вот выйдешь за какого-нибудь мерзавца, которого ничего не волнует, кроме его собственной выгоды, и будет он тебя мучить и обижать. Доченька, ты же знаешь, как я тебя люблю. Да и книгу нам надо закончить.
Я молчала. Я была так зла, что, если бы заговорила, шайтан подбил бы меня бросить прямо в лицо отцу, что мне известно о том, как по ночам он приводит в свою постель Хайрийе, – а разве дочери пристало говорить старому отцу такое?
– Кто хочет на тебе жениться?
Я смотрела в пол и молчала, не от смущения, а от злости, и только еще больше злилась оттого, что никак не могла ответить. Перед глазами рисовалась смешная и отвратительная картина: отец в постели с Хайрийе. На глаза навернулись слезы, но я не заплакала, а сказала:
– Как бы кабачки на кухне не подгорели.
Я дошла до лестницы, юркнула в свою комнату, окно которой, всегда закрытое, смотрит на колодец, в темноте на ощупь быстро расстелила постель и рухнула на нее. Ах как славно было в детстве, когда тебя обидят, броситься на постель и в слезах забыться сном! Никто меня не любит, кроме меня самой, и от одиночества мне так горько, что я плачу, а вы, слыша мои всхлипы и стоны, приходите мне на помощь.
Немного погодя я обнаружила, что рядом, положив голову мне на грудь, лежит Орхан и тоже горько плачет. Я крепко прижала его к себе.
– Не плачь, мама, – сказал он. – Отец вернется с войны.
– Откуда ты знаешь?
Он молчал. Но я, прижимая его к груди, чувствовала такую любовь, что все мои печали забылись. Сейчас я усну, обняв хрупкое худенькое тельце Орхана, но прежде хотела бы сказать вам вот что: мне очень жаль, что я, разозлившись, сболтнула про отца и Хайрийе. Нет, я не солгала, но все равно мне очень стыдно, так что, пожалуйста, забудьте об этом, как будто я ничего не говорила, как будто вы ничего не знаете о том, чем занимаются отец и Хайрийе, хорошо?
17. Я – ваш Эниште
Тяжело быть отцом взрослой дочери, ох тяжело. Я слышал, как Шекюре рыдает в своей комнате, но ничего не мог поделать, так и сидел с «Книгой о Судном дне» в руках и пытался читать. На одной из страниц этой книги говорится, что через три дня после смерти душа, получив позволение Аллаха, отправляется взглянуть на тело, в котором жила. Увидев тело в жалком состоянии, в могиле, в крови и гнилой воде, душа скорбит и плачет: «Бедная моя плоть, бедное мое любимое тело!» Я подумал о печальном конце Зарифа-эфенди: как, должно быть, огорчилась его душа, когда явилась навестить тело и обнаружила его не на кладбище, а на дне колодца.
Как только рыдания Шекюре затихли, я отложил книгу о смерти в сторону. Надел еще одну шерстяную рубашку, шаровары на кроличьем меху, потуже затянул теплый войлочный пояс и вышел из дома. У ворот мне встретился Шевкет.
– Деда, ты куда?
– На похороны. Иди в дом.
Я шел к городской стене по пустым заснеженным улицам, мимо пепелищ и гнилых, покосившихся, грозящих того и гляди рухнуть домов, в которых живут бедняки; шел по окраинным кварталам, минуя огороды, поля и встречающиеся между ними лавки шорников, седельщиков, кузнецов, торговцев скобяными изделиями и конской упряжью. Шел долго, осторожными старческими шагами, стараясь не поскользнуться и не упасть.
Не знаю, почему заупокойный намаз решили читать в мечети Михримах, что в Эдирнекапы, в дальнем конце города. Добравшись до мечети, я обнял братьев покойного. Выглядели они сердито и сурово, но при этом растерянно. Обнялись мы и с художниками, и с каллиграфами, поплакали друг у друга на плече. Когда приступили к намазу, откуда ни возьмись вдруг опустился густой свинцовый туман и окутал все вокруг. Я никак не мог отвести глаз от носилок с телом покойного, поставленных на каменную плиту, и испытывал такую злобу на подлеца, который совершил это убийство, что даже слова заупкойной молитвы перепутались в голове.
После намаза, когда носилки подняли на плечи, я остался среди художников и каллиграфов. Мы, снова заплакав, обнялись с Лейлеком, забыв, как ночами, когда мы до самого утра работали над книгой при тусклом свете лампы, он говорил, что работы Зарифа – дешевка, и убеждал меня, что тот совершенно не умеет сочетать цвета (чтобы рисунок выглядел богато, Зариф-эфенди повсюду добавлял лазури), а я, соглашаясь с ним, вздыхал, что делать нечего, других подходящих людей нет. Мне очень понравился дружеский и полный почтения взгляд Зейтина. Потом он обнял меня, и это мне тоже пришлось по нраву, ведь человек, умеющий обнимать, – хороший человек; и я снова подумал, что из художников и каллиграфов он больше всех верит в мою книгу.
На ступенях ведущей во двор лестницы я столкнулся с главным художником, мастером Османом; оба мы не знали, что сказать друг другу. Это было странное и неловкое мгновение: неподалеку зашелся в рыданиях один из братьев покойного, какой-то любитель покрасоваться снова завел молитву.
– Какое кладбище? – спросил мастер Осман, чтобы не молчать.
Меня охватило волнение: почему-то показалось, что если я отвечу «не знаю», это будет выглядеть проявлением враждебности, поэтому я не задумываясь обернулся к человеку, спускавшемуся по лестнице рядом со мной, и спросил:
– Какое кладбище? Эдирнекапы?
– Эйюп[69], – сердито буркнул молодой бородач.
– Эйюп, – повторил я, обернувшись к мастеру Осману, но он, не хуже моего слышавший ответ, бросил на меня такой взгляд, что сразу стало понятно: ему не хотелось бы затягивать беседу.
Конечно же, мастер Осман затаил на меня злобу за то, что наш султан именно мне поручил изготовить книгу, которую я называю тайной. Кроме того, под моим влиянием султана стала занимать европейская манера рисования. Один раз он даже заставил мастера Османа сделать копию его портрета, написанного одним итальянцем. Я знаю, что мастер Осман винит меня в том, что ему пришлось заняться этой отвратительной для него работой – он называл ее «пыткой», – и не зря винит.
Я остановился на середине лестницы и посмотрел на небо. Потом, убедившись, что остался в самом хвосте шествия, продолжил спускаться по обледеневшим ступеням. Едва я успел одолеть две ступеньки, как кто-то взял меня под руку: Кара.
– Очень холодно, – сказал он. – Вы не замерзли?
Нисколько не сомневаюсь, что это он растревожил Шекюре. И та уверенность, с которой он взял меня под руку, это подтверждает. Всем своим видом он словно говорил: смотрите, я двенадцать лет работал, почтенным человеком стал. Ступеньки кончились. Про то, что он узнал в мастерской, пусть расскажет после.
– Иди, сынок, вперед, догоняй их, – предложил я.
Он удивился, однако виду не подал. С невозмутимым лицом отпустил мою руку и пошел. Мне даже походка его и та понравилась. Если я отдам ему Шекюре, согласится ли он жить в нашем доме?
Выйдя через ворота Эдирнекапы за пределы города, я увидел далеко внизу почти теряющееся в тумане погребальное шествие, в голове которого двигались носилки с телом; художники, каллиграфы, подмастерья спускались по склону к Золотому Рогу. Они шли так быстро, что уже успели одолеть половину дороги, ведущей из заснеженной долины в Эйюп. По левую руку в тумане и безмолвии курилась веселым дымком труба свечной мастерской. У подножия городской стены вовсю работали бойни, поставляющие мясо в Эйюп мясникам-грекам, и кожевенные мастерские. Идущий оттуда запах мертвечины распространялся по долине, что простиралась до едва различимых в тумане куполов мечети Эйюп и кипарисов, растущих на кладбище. Пройдя еще немного, я услышал веселые крики детей, доносящиеся из нового еврейского квартала в Балате.
Когда мы спустились на равнину, ко мне подошел Келебек и сразу с обычной своей горячностью приступил к тому, о чем хотел поговорить.
– Это сделали Зейтин и Лейлек! Им, как всем прочим, было прекрасно известно, что у нас с покойным не самые лучшие отношения. И про то, что это не тайна для других, они тоже знали. Каждый из нас видит в других соперников, надеющихся встать во главе мастерской после мастера Османа. Более того, наши враждебные чувства уже несколько раз выплескивались наружу. Теперь они надеются взвалить вину на меня. Во всяком случае, главный казначей, а по его наущению – и султан отвернутся от меня, нет, от нас!
– Кто такие «мы», о которых ты говоришь?
– Мы – это те, кто говорит, что в мастерской должны сохраняться прежние нравственные устои, что нельзя сворачивать с пути, указанного старыми персидскими мастерами, что не за всякую работу нужно браться только ради денег. Мы хотим, чтобы вместо оружия, войск, пленников, побед наши книги вновь посвящались изложению старых легенд, преданий и историй, чтобы никому неповадно было отходить от старых образцов, чтобы подлинные мастера не работали в лавках на базаре, не унижались, рисуя по требованию первого встречного все, что тот пожелает. Наш сиятельный султан признает нашу правоту и воздаст нам по справедливости.
– Не возводи сам на себя пустой клеветы, – сказал я, чтобы оборвать разговор. – Уверен, в мастерской нет и не может быть никого, кто посмел бы пойти на такое. Все мы братья. Если кто и сделает несколько изображений того, чего мы раньше не касались, – нестрашно. Из-за чего враждовать-то?
Едва я договорил, как мне снова, как при первом известии об исчезновении Зарифа-эфенди, стало совершенно ясно: убийца – один из лучших художников дворцовой мастерской и сейчас он находится среди идущих впереди меня людей, которые уже поднимались на холм, к кладбищу. В тот миг я был уверен, что убийца продолжит творить зло и что он – враг моей книги. И очень может быть, что, придя домой, он примется за работу над одной из ее страниц. Не влюблен ли Келебек в мою дочь, как большинство из приходящих ко мне художников? Вот сейчас, принимаясь излагать свои взгляды, неужели он забыл, что я порой просил его сделать рисунки, прямо им противоречащие? Или он издевается надо мной?
Нет, не может быть, чтобы издевался. Келебек, как и другие мастера, несомненно, благодарен мне, ведь, когда из-за войн и растущего равнодушия султана поток денег и подарков, изливавшийся ранее на художников, иссяк, единственным существенным источником дополнительного дохода стала для всех них работа над моей книгой. Я знал, что они ревнуют меня друг к другу, и по этой причине (хотя не только по этой) приглашал их к себе домой в разное время. С чего бы им относиться ко мне враждебно? Все мои художники люди зрелые и, если уж и так вынуждены питать приязнь к человеку за то, что он дает им возможность заработать, могут найти и какие-нибудь другие, более достойные причины его любить.
Чтобы не затягивать молчания и не возвращаться к тягостному предмету, я заметил:
– Молодцы какие! Несут тело наверх так же быстро, как спускали под гору.
Келебек широко, по-доброму улыбнулся:
– Это от холода.
«Мог ли этот человек убить? – думал я. – Скажем, из зависти. Кто следующий – я? Придумает какой-нибудь предлог: Эниште, мол, возводил хулу на нашу религию. Но ведь он же большой мастер, настоящий талант, зачем ему убивать? А старику, между прочим, подобает не только с трудом подниматься по склону, но и меньше бояться смерти. Желания слабеют, в постель к рабыне ложишься не с волнением, а будто тебя заставляет кто». Внутренний голос вдруг подсказал мне решение, которое я тут же сообщил Келебеку:
– Я остановлю работу над книгой.
Тот обернулся ко мне:
– Что?
– Она приносит несчастье. Да и султан перестал платить. Передай Зейтину и Лейлеку.
Он, наверное, хотел еще что-нибудь спросить, но мы уже дошли до места похорон, окруженного частыми кипарисами, высоким папоротником и могильными камнями. Вокруг самой могилы стояла большая толпа, так что только по доносившимся молитвам и зазвучавшим с новой силой рыданиям было понятно, что тело как раз сейчас предают земле.
– Лицо-то, лицо получше откройте, – сказал кто-то.