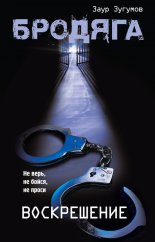Философия крутых ступеней, или Детство и юность Насти Чугуновой Карышев Альберт

Настя вздохнула и заиграла с первого такта. Корнилова послушала и огорчилась.
– Нет, это не конкурсное исполнение! Ты хочешь победить?
– Хочу.
– Тогда перестань вздыхать и хмуриться. Чтобы победить, надо играть не просто лучше других, а на голову выше, нет, на две головы. Понимаешь меня?
– Понимаю. Это вот так? – Настя подняла скрипку над головой. – А как тогда на ней играть, если выше головы?
Взрослые засмеялись, девочка тоже.
– Чудачка! – сказала Лариса. – Играть на голову выше других, значит, играть лучше соперников, а на две головы выше – много лучше. Это образное выражение. Ну, продолжай. Виктор Александрович, – обратились она к концертмейстеру, – вы пока обождите.
Пианист с клочковатой бородой, одетый по-спортивному в рифлёный свитер и лыжные брюки, откинулся на спинку стула, свесив руки, протянув под фортепьяно ноги в тёплых ботинках. Повернув лысоватую голову, он подмигнул Насте. Девочка стала проигрывать трудные места конкурсной вещи и не остановилась, когда в класс, припадая на хромую ногу и опираясь на палочку, тихо вошёл заведующий струнно-смычковым отделением Кругляков. Послушав, как трудится ученица, понаблюдав, как гоняет её педагог, он произнёс глухим от природы голосом:
– По-моему, Лариса Владимировна, вы слишком строги. Настя играет неплохо. Мне понравилось.
– Не мешайте, Валерий Николаевич, – ответила Корнилова.
– Хорошо, не буду, – и он вышел так же тихо, как вошёл.
– Играй, Настя! Играй! – подстёгивала Лариса девочку. – Исправляй огрехи! Следи за музыкальностью исполнения! Что ты такая безрадостная?
– Чему радоваться-то?
– Нет, не нравится мне твой настрой! И игра не нравится!
– А Валерию Николаевичу понравилось.
– Очень хорошо. Он отличный педагог. Но учти: он педагог твоей соперницы Светы и не может не желать победы собственной ученице…
Настя морщила лобик, куксилась, но раз за разом переигрывала то, что требовала переиграть Корнилова. Концертмейстер скучал, позёвывал. Андрей Иванович жалел внучку и боялся, что она расплачется, как плакала, случалось, особенно, в первый год обучения, от боли в кончиках пальцев, от усталости в руках, плечах, ногах. Ближе к концу урока девочка набело завершила только небольшую часть произведения и успешно исполнила её с пианистом. Потом она стала работать небрежно, сердито, наконец решительно отошла от пюпитра и положила скрипку со смычком на стол.
– Не хочу больше играть. Я устала.
– Урок не кончился. – Лариса прихлопнула в ладоши и посмотрела на часы.
– Не хочу! Не буду! Ручки болят!
– Встряхни их! Вот так! Меньше станут болеть! Как же ты научишься играть, если, чуть что бросаешь скрипку? Ну-ка, бери её!
– Не буду!
Девочка спрятала руки за спину, пошла к деду и села рядом с ним за стол, проявляя уже знакомое педагогу великое упрямство, за которым, если попытаться его переломить, мог последовать взрыв.
– Хорошо, – сказала опытный педагог. – На сегодня хватит. Поработай дома самостоятельно. Вспомни всё, о чём мы с тобой говорили. Не ленись. Дружи со скрипкой. Но играй лишь до тех пор, пока хватает сил думать и исправлять ошибки. Ты способная, мужественная, всё преодолеешь. Зимних каникул у нас с тобой не будет, станем готовиться к конкурсу.
11
Солнечным холодным воскресеньем Алексей Чугунов с сумкой, полной мороженой трески, зашёл к родителям и дочке. Стоя у порога в мохнатой шапке набекрень и в распахнутом стёганом полупальто, крытом чёрной плащевой тканью, он отводил глаза от обступивших его близких и конфузливо улыбался.
Передав тяжёлую сумку отцу, посоветовав вынести рыбу на балкон, на мороз, он сунул руку в карман, достал белого игрушечного котёнка, пушистого, коротколапого, и протянул Насте. Пискнув от радости, она поцеловала котёнка в нос, а Алексей, стараясь не дышать на ребёнка винными парами, поцеловал её. С игрушкой в руке Настя прижалась к родителю. Когда он снял шапку, пальто и переобулся в тапочки, девочка встала обеими ногами на его ступни и прижалась крепче.
– Я твоя пиявка, – сказала она. – Я к тебе припиявилась.
И на его ступнях вместе с отцом пошла в гостиную, попятилась.
– Чувствую себя так, словно вернулся домой из дальних странствий, – заговорил Алексей, поставив дочку на пол, поворачиваясь туда-сюда и оглядывая комнату. – Всё мне тут родное, знакомое, но что-то есть новое.
В гостиной он в детстве спал на диване, учил уроки за столом, а повзрослев, дважды собирал на столе чемодан: уходя служить в армию и отбывая в Москву учиться в университете. В комнате поменялись стенные обои, но остальное как будто сохранилось в прежнем виде: те же и на старом месте диван, стол, стулья, зелёный ковёр над диваном, три шкафа, набитые книгами, один из которых, развёрнутый поперёк комнаты, отделял рабочий угол отца. На боковине этого шкафа, на гвоздике, как всегда, висела гитара в сером тканом чехле… «Сколько было тогда хорошего! – думал Алексей и чувствовал комочек в горле. – Разговаривали по душам, вслух читали, отец пел под гитару, а мы с мамой подтягивали. Случалось, рядились в какие-то тряпки и разыгрывали смешные сценки – помню, инсценировали рассказы Чехова: «Хирургия», «Злоумышленник», «Унтер Пришибеев»… Вернуть бы ненадолго пору детства. Только бы отец не был таким суровым и углублённым в себя, каким бывал часто».
– Красивый ты у меня, папочка, – сказала Настя, заглядывая родителю в лицо, когда Алексей сам сел и дочку посадил себе на колени. – Любуюсь тобой. Дедушка, бабушка, правда, мой папа красивый?
– Правда, – ответила Вера Валерьяновна и добавила: – Голубой джемпер твоему папе очень к лицу. Он хорошо сочетается с коричневым костюмом и каштановыми волосами. Причёска у папы аккуратная, модная.
Алексей провёл ладонью по своим волнистым волосам.
– Любимая женщина постригла. Мастерица на все руки. И шьёт, и стрижёт, и готовит…
Взрослые увидели, что Настя поняла последние слова отца. Приоткрыв рот, она растерянно похлопала глазами и, как птица на ветке, повертела головой. Незаметно от Насти Вера Валерьяновна взглядом показала Алексею: думай, что говоришь при ребёнке. Но сама она едва не спросила опрометчиво: «Когда ты нас познакомишь с новой избранницей?»
– Похудел ты, сынок, – сказала Вера Валерьяновна. – Трудно тебе приходится? Как дела с работой?
– А вон там моя работа, – с поддельной весёлостью Алексей кивнул на дверь балкона, выходившую в гостиную. – Папа вынес её на мороз. Я теперь рыбный человек. Специалист по обеспечению земляков свежей рыбой.
– Торгуешь, что ли? – спросил Андрей Иванович.
– Ну да, торгую под началом опытных людей. Мы наняли подержанный грузовик. Ездим, закупаем рыбу там, где она дешевле, а у себя в городе продаём дороже. Заработаю и открою собственное дело.
– Значит, журналистика побоку, псу под хвост? – опять заговорил старший Чугунов. – Поразительно! Недавно я виделся в Москве с известной тебе особой, закончившей, как и ты, университет. Она тоже бросила журналистскую профессию, толком не позанимавшись ею. Что происходит? Неужели вам не совестно и не жаль свою высокую образованность?
Он стоял перед сыном, присевшим рядом с матерью на диван. Настю Алексей продолжал держать на коленях.
– Я не насовсем бросаю журналистику, – ответил сын. – Только временно отставляю её на второй план. Раз подвернулся случай хорошо заработать, по-моему, глупо его упускать. Будут деньги – будут журналистика и всё остальное.
– Ошибаешься. Ничего не будет. Превратишься в махрового спекулянта и назад не вернёшься. Только дело, к которому склонен от природы и которому честно служишь, приносит удовлетворение, успех и, возможно, неплохой заработок. Пусть не покажутся тебе мои слова высокопарными. Или пусть лучше они буду высокопарными, чем я не скажу то, что думаю, и не попытаюсь заставить тебя опомниться… Ты увлёкся заурядной спекуляцией, требующей не обширных знаний, а ловкости, изворотливости и умения считать деньги! Неужели могут радовать большие деньги, полученные не за добросовестный общественно-полезный труд, а за спекуляцию? По-моему, они должны унижать, вызывать беспокойство и чувство вины!..
Алексей пересадил дочку со своих колен на диван.
– Хорошо, постараюсь объяснить, – терпеливо произнёс он. – Вы с мамой, наверно, помните, что в Москве я работал в ведомственной газете, в «Водном транспорте», и достиг в ней должности ответственного секретаря. Когда летом вернулся в Григорьевск, то попусту ходил по редакциям местных газет. Не было в них для меня достойного штатного места, а сделаться внештатным корреспондентом я отказался: платят мало, а дел много. И почему я, журналист с опытом, должен быть внештатным?.. В поисках работы встретился с бригадой, занятой скупкой и перепродажей свежей рыбы. Кое-кто из старых знакомых меня с нею свёл. Рыбники взяли меня в долю… Ты пойми, папа, некоторые твои представления устарели. Посмотри, в какое время живём. У вас с мамой советское воспитание. Меня вы тоже воспитывали по своему образцу, но я ещё молод и чувствую дух времени. Знаю, вы, мои родители – люди честнейшие, но в какой-то мере, извини, вы зациклились на показательной честности. Все цвета делятся для вас на белые и чёрные. Других не видите. Торгуя рыбой, можно и хорошие деньги зарабатывать, и оставаться порядочным человеком…
– Нет, мы с матерью видим все цвета и оттенки, – сказал Андрей Иванович и сел у гостиного стола, сложив на груди руки. – Это тебе рупоры новой пропаганды внушают, будто люди нашего поколения – «упёртые» консерваторы и идиоты. Да, можно, торгуя рыбой, оставаться честным человеком, но то, как ты ею торгуешь, нечестное дело, а обыкновенная спекуляция. Рыбаки, продающие улов, вот честные торговцы рыбой.
– Бизнесом я занимаюсь, – хмуро защищался Алексей. – Классическим предпринимательством. Бизнес теперь поощряется. Спекуляция – тоже бизнес. Это в советское время она считалась уголовщиной, потому что ложно осмысливалась. Перепродажей товаров во все века приобретался капитал. И купцы русские, которых сейчас прославляют, занимались спекуляцией. И в государственной торговле движение товара от изготовителя к потребителю в какой-то мере связано со спекуляцией, с наценками на сортировку, перевозку и другие работы… Между прочим, папа, вот ты бы мог приобрести капитал без спекуляции. Ты писатель-праведник, но, согласись, кому нужна сейчас праведная литература? А ты бы взялся да написал то, за что платят деньги. При твоей беглости пера это тебе, я думаю, ничего бы не стоило. Приобрёл бы капитал, и спокойно пиши и печатай за свои деньги, что хочешь, рассчитывай на время, когда тебя станут читать. Скорее всего, ни вас с мамой, ни меня уже на свете не будет… Неужели вам не надоело бедствовать? Разве вы не заслужили того, чтобы жить прилично? Говоришь, что преданность общественно-полезному делу вознаграждается успехом и заработком. Но велики ли твои успехи, добился ли ты признания и много ли заработал? И вообще, кто ты такой? Я не обидеть тебя хочу, знаю, что ты сам по себе личность, но по нынешним понятиям ты – никто…
– То, что ты мне советуешь – хуже спекуляции. Ну, довольно! – оборвал сына Андрей Иванович. – Надоело тебя слушать. По-моему, ты ещё никогда не говорил так много, пламенно и желчно. Должно быть, сказывается то, что ты в кураже. Мать твоего возбуждения не заметила… Вижу теперь, что ты настоящий предприниматель, точнее, бизнесмен. Всё переиначил, что я тебе толковал, извратил в своё оправдание. Но моих дел и нашего с матерью образа жизни больше так грубо не касайся…
Алексей покраснел, нахохлился, но смолчал.
12
Похмурившись и посопев, как прилюдно отчитанный самолюбивый мальчишка, он захотел уйти, встал, шагнул, но Настя, вскочив с дивана, кинулась отцу на шею.
– Папочка, миленький, не уходи! – просила она тоскливой скороговоркой. – Ты так редко ко мне приходишь! Я по тебе скучаю!.. А мама где?
Он послушался, сел и вновь посадил дочь себе на колени.
– Хорошо, я с тобой ещё побуду. Ты только успокойся.
– А мама где? – повторила девочка. – Приедет она ко мне или нет? Я ей звонила, спрашивала, она обещала!.. А тётя, которая тебя стригла, она кто? Ты у неё живёшь, да? Почему не у мамы? Почему не рядом со мной?..
– Я тебе потом всё объясню, – отвечал Алексей. – А сейчас давай поговорим о чём-нибудь другом.
– Расскажи папе, как занимаешься в музыкальной школе, как готовишься к конкурсу юных скрипачей. Сыграй что-нибудь на скрипке или пианино, – сказала Вера Валерьяновна, отвлекая девочку от её драматических вопросов, опасаясь, что Настя растравит себе ими душу и впадёт в истерику – это с ней уже случалось.
– Хорошо я в музыкальной школе занимаюсь, – вяло ответила Настя. – Не хочу играть. Я устала.
Она сложила руки на коленях и отрешённо глядела в сторону, а у Алексея с матерью завязался разговор о ней. Вера Валерьяновна хвалила Настю отцу, называя её опрятной и аккуратной, доброй и заботливой, умной и талантливой, стойкой к холоду и физической боли. Она хотела, чтобы дочь понравилась Алексею и он привязался бы к Насте.
От Андрея Ивановича их тихий разговор скоро отдалился. Старший Чугунов ушёл в свои мысли. Взволнованный мировоззренческим столкновением с Алексеем, он думал о сыне и старался понять, когда так сильно разошёлся с ним во взглядах, почему возникла в их отношениях напряжённость, какие сын, когда был моложе, совершал поступки, неприятные его родителям.
Ему вспомнилось, как Алексей, студент-журналист Московского университета, летом заехал домой и привёз в гости москвичку Ирину, свою однокурсницу. Она удивила Чугуновых худобой и бледностью, что, как потом оказалось, было не природным её качеством и не следствием тяжёлой болезни, а «писком моды», необратимым результатом упорного самоизнурения. Девушка уклонялась от прямого общения с родителями друга, мало говорила, но по незначительным поводам коротко импульсивно смеялась, при этом, старшие замечали, её зеленоватые широкого разреза глаза не становились весёлыми.
Молодёжь разного пола Чугуновы к ночи разделили: девушку устроили спать в гостиной, а Алексея на раскладушке в родительской спальне.
Рано утром, когда все ещё спали, Андрей Иванович встал с постели, чтобы на рассвете, пока вокруг была полная тишина, покорпеть над рукописью. Собираясь уйти со своими бумагами в кухню, он подумал о том, что их надо осторожно, не будя гостью, взять из гостиной, с письменного стола. Тут он заметил, что сына на раскладушке в родительской спальне нет, и решил, что Алексей тоже выспался и, может быть, пьёт в кухне чай. Он пошёл проверил, но в кухне сына не было. Не оказалось его и в ванной комнате. Тогда старший Чугунов предположил, что Алексей ушёл подышать свежим воздухом – это ведь большое особое удовольствие: беззаботно пройтись спозаранку по ещё малолюдным улицам родного города. Тихо приоткрыв дверь в гостиную, нацеливаясь прошмыгнуть на цыпочках к письменному столу, он увидел, что девушка на диване лежит не одна. Услыхав движение открывающейся двери, любовники с головой накрылись синим байковым одеялом в пододеяльнике и затаили дыхание. Образ высокого бугра на постели – замерших под одеялом, но от дыхания шевелящихся тел – потом часто виделся отцу Алексея…
Андрей Иванович растерялся. Вместо того чтобы сразу отступить, уйти посоветоваться с женой, осмыслить увиденное, он в первые мгновения, пока им руководили только воспитанные с детства понятия морали, успел громко, зло произнести: – «Вот что, друзья мои, здесь вам не публичный дом! Ищите его где-нибудь в другом месте! С грязи начали, грязью и закончите!..»
Тем же утром сын с подругой заторопились в Москву, хотя намечали погостить в Григорьевске, зайти в древние храмы, искупаться в загородной речке. Ирина схватила сумочку и выбежала на улицу. Алексей кинулся за подругой. Вера Валерьяновна сразу не могла взять в толк, почему молодежь вдруг сорвалась с места и уехала…
Позднее Андрей Иванович спрашивал себя, верно ли он поступил. Долгое время он пребывал в смятении и думал: «Это же подлость – привезти девицу для постельного пользования, а родителям объявить, что она славный университетский друг и товарищ!» «Нет, не следовало действовать сгоряча, – спорил он с собой. – Надо было поступить мудрее. Мой сын – взрослый человек, отслужил армию, учится в университете, где-то подрабатывает и ни от кого не зависит. А я его разнёс, как шкодливого мальчишку, и в присутствии девицы». Вера Валерьяновна, когда он ей всё рассказал, удивилась, но отнеслась к происшедшему без паники: «Ничего страшного. Роман – естественный для их возраста, и, может быть, они по-настоящему любят друг друга». Её разумный взгляд на вещи не успокоил Чугунова.
Уже на выпускном курсе как-то Алексей опять заехал домой и, помявшись, сообщил родителям, что «его девушка» беременна, что она стыдится и укоряет его, а он не знает, что делать. Не столько огорошило Андрея Ивановича известие о положении Ирины, сколько поразил вопрос сына: «Что теперь делать?» По разумению старшего Чугунова, соблазнитель обязан был жениться на обольщённой девушке, только так он мог не прослыть негодяем. Это Андрей Иванович и объявил сыну. «Да, – подтвердила Вера Валерьяновна. – У ребёнка должен быть отец». «А если я её не люблю?» – «Ты не имеешь права взваливать на девушку всю ответственность за рождение и воспитание твоего ребёнка. Это не по-мужски, не по-человечески». «Она не была девушкой, когда мы сошлись», – ответил Алексей, и его грубое откровение, высказанное так просто, без оглядки, словно речь шла не о глубоко потаённых, а о вполне житейских делах, сильно смутило, покоробило родителей. «Можешь говорить и думать что угодно, – сказали они ему напоследок, – но ты был с Ириной в близких отношениях, и у неё от тебя родится ребёнок. Ты – отец…»
Из-за разных неувязок бракосочетание Ирины и Алексея состоялось лишь через полгода, осенью. Невеста уже ходила с большим животом. На свадьбу она надела платье очень широкое, но не скрывающее бремя. Прямые жидковатые волосы невеста собрала в пучок на затылке, перетянув их тонкой чёрной резинкой. С помощью косметики она постаралась сделать лицо миловиднее, но крем и пудра не сгладили болезненную одутловатость её лица и плохо замаскировали на нём родовые пятна. А рядом с подурневшей молодой женщиной сидел во главе свадебного стола настоящий красавец Алексей Чугунов, плечистый, кареглазый с прозеленью, тёмноволосый и чернобровый. Вера Валерьяновна, украинка, полтавчанка, была и теперь хороша собой, а сын чертами походил на мать.
На редкость малочисленная собралась в доме Шитиковых свадьба. Шитиковы не хотели, чтобы многие видели невесту беременной. С их стороны была только младшая сестра Татьяны Ивановны Клава, очень похожая на старшую, а Ирина с Алексеем позвали двух сокурсников. С Андреем же Ивановичем и Верой Валерьяновной никто из друзей поехать в Москву не смог, а вся их близкая родня умерла, погибла или сгинула в войну. Один из сокурсников жениха и невесты, Влад, явился на свадьбу нетрезвым, небритым и нечёсаным, в потрёпанном и рваном на колене джинсовом костюме, в несвежей рубахе, распахнутой на волосатой груди. С трудом сохраняя устойчивость, покачиваясь над столом, он произнёс удивительный тост: «Нас мало. Мы незаметны в толпе, но мы велики. За нас, господа!» – и, картавя, закатывая бараньи глаза, прочёл из Николая Глазкова:
- Мне простите, друзья,
- Эту милую странность,
- Но не выпить нельзя
- За мою гениальность!..
Выпив рюмку, Влад спросил у хозяйки иголку с ниткой и удалился зашивать рваные джинсы, потом, слышно было, встал под душ. «Гений! Он гений!» – повторяла молодёжь и обнималась, и хихикала, выпивала и закусывала, курила на балконе и опять усаживалась за раздвижной стол, торцом направленный к балконной двери. Старших молодёжь не принимала во внимание, только Алексей под растерянно-печальными взглядами родителей проявлял мелкие знаки неловкости: молча показывал на сверстников и пожимал плечами. Новобрачная устала и пошла отдыхать…
Когда младенец родился, Андрей Иванович с Верой Валерьяновной опять уехали в Москву – встретить из роддома мать с новорожденным, отметить важное семейное событие, поддержать молодых добрым словом и кое-какими подарками. В общем любовании внучкой, в совместной заботе о ней старшие Чугуновы и Шитиковы нашли общий язык. Но лишь пять месяцев оставалось у молодожёнов до государственных экзаменов в университете, до того времени, когда Ирина с Алексеем увезут Настю из Москвы в Григорьевск. Тут и нарушатся добрые связи между сватами, и сложатся натянутые вежливые отношения. У Андрея же Ивановича с пониманием того, что молодые бросили ребёнка, появится неприязнь к Алексею. Впрочем, думалось Чугунову, сына он, пожалуй, ещё раньше за что-то временами недолюбливал. Трудно разобраться – за что: многое надо вспомнить и осмыслить. А теперь ещё к антипатии прибавилось и возмущение тем, что Алексей ударился в торговлю.
13
– Ничего у тебя не получится, – сказал Андрей Иванович, возвратившись из прошлого в настоящее и вспомнив, что не всё договорил сыну.
– Почему? – сразу понял Алексей и оставил разговор с матерью.
– Ты неспособен торговать. В тебе течёт кровь твоих родителей, а мы не барышники и никогда не смогли бы в них превратиться. Среди ближайших наших предков тоже барышников не было. Пока состоишь в бригаде и тобой управляют ловкие люди, ты ещё будешь уметь спекулировать, но, если откроешь собственное дело, тебя живо слопают тигры и акулы рынка.
Сын рассмеялся.
– Посмейся, – сказал Андрей Иванович.
– Извини, папа. От тебя мне досталось богатое воображение… Я так ярко представил себе тигров и акул, занимающихся бизнесом… Понимаю твоё беспокойство. Возможно, в торговом деле я в конце концов прогорю, но до того времени надеюсь скопить денег и начать жить на проценты. Надоела бедность, необходимость считать копейки. Хочу стать зажиточным и ещё успеть сделать что-нибудь стоящее.
– Можешь не успеть. Избранное тобой занятие – короткий путь к деградации личности. Но хватит о твоих коммерческих делах. Я сказал о них своё мнение, больше не хочу говорить. Не сообщай нам с матерью про свои успехи и неуспехи в торговле рыбой или чем-нибудь ещё. И… не приходи больше подшофе.
Веру Валерьяновну задел жёсткий ультиматум Андрея Ивановича сыну, и она с обидой на мужа подумала: «Разве это хорошо, когда дети не сообщают родителям о своих делах?»
– Подо что папочке не надо приходить? – спросила Настя, морща лобик.
– Какая дотошная! – ответил дед. – Просто твой папа не очень здоров. Ему нельзя было выходить на улицу. Сегодня холодно.
Девочка потянулась ко лбу отца, пощупала его рукой и коснулась губами, как это делала бабушка, проверяя, нет ли у внучки жара.
– Высокая температура, – сказала она. – Выпей таблетку и ложись в постель. Я тебя никуда не отпущу.
– Нет, мне надо идти, – сказал отец.
– К той женщине, которая тебя постригла?
– Да. Её зовут Викторией.
– Раньше ты жил с мамой в Москве и вам было вместе хорошо. Только меня с вами не было. Вы меня к себе не брали. Почему ты и мама теперь живёте в разных городах, а я ни у тебя, ни у мамы?
– Мы с ней по некоторых причинам раздружились и пока не знаем, у кого ты должна жить, – отвечал Алексей, оглядываясь на родителей. – Пожалуйста, не возобновляй разговор о маме. Мне нелегко объяснить тебе обстоятельства нашей размолвки. Хочешь, познакомлю с Викторией? У неё тоже есть дочка, твоего возраста.
– Не хочу. Ты у них живёшь, а я буду всегда у дедушки с бабушкой.
Настя соскочила на пол с колен отца, но осталась возле родителя, повернувшись к нему спиной.
«А почему ребёнок не должен спрашивать тебя о своей матери? – подумал Андрей Иванович, косясь на Алексея. – Конечно, загнанный в тупик, ты хочешь от расспросов дочери поскорее отделаться, но так, чтобы в её глазах остаться достойным человеком».
– Скоро Новый год, – произнесла Вера Валерьяновна, снова отвлекая ребёнка от смятения.
– Папочка! Ты ко мне на Новый год придёшь? – спросила Настя, поворачиваясь к отцу.
– Обязательно.
– Приходи! Я буду ждать!
– Конечно. А теперь, извини, мне пора.
– Ладно, – сказала девочка.
– До свидания, – поспешил он проститься с ней и родителями.
14
Рязань, где весной должен был состояться конкурс юных скрипачей и виолончелистов, от Григорьевска лежит не слишком далеко, но дальше, чем Москва. При советском государственном строе Чугуновы свозили бы внучку на конкурс за счёт государства, теперь же для этого следовало, по подсказке Ларисы Корниловой, частным образом раздобыть средства. Скромный семейный бюджет Чугуновых складывался из двух небольших стариковских пенсий, выплачиваемых с задержками до полугода, и незначительных сумм от Шитиковых. Из такого ничтожного бюджета на случайные нужды выкроить деньги было трудно. Казалось естественным попросить помощи у сына, но он опять звонил редко; возможно, уклонялся от просьб родителей, так как ещё не встал на ноги. Чтобы ко времени поездки иметь необходимые деньги, Чугунов взялся собирать их заранее. Прежде всего Андрей Иванович решил возобновить отношения с местной газетой «Григорьевские ведомости», где раньше нередко печатался и неплохо зарабатывал.
По центральным улицам курсировали троллейбусы. Сойдя с троллейбуса, Чугунов пошёл по долгому узкому проулку, на котором снег не убирался очистительной техникой, но был уплотнён колёсами машин и ногами пешеходов. Отсветы низкого зимнего солнца переливались на уплотнённом снегу, как на глазури. В середине проулка, с двух сторон застроенного типовыми скучными пятиэтажками, стоял параллелепипед в четыре этажа, с высоким парадным крыльцом, над крыльцом были прилажены к серым кирпичам пластиковые доски с названиями старых и новых газет. Держась за железный поручень, Чугунов поднялся по каменным ступенькам на широкую площадку и вошёл в застеклённую дверь. На четвёртом этаже, в «Григорьевских ведомостях» его буднично встретил редактор Хромов. Он сидел в своём кабинете за большим столом боком к окну с кремовыми занавесками, курил и с карандашом в руке читал газетную вёрстку. Андрей Иванович сел против него. Хромов через стол протянул ему руку.
– Здравствуйте. Рад видеть. По какому делу к нам? Что-нибудь принесли?
– Принёс. Давно уже я у вас не был, – ответил Чугунов и положил на стол машинописные листы, соединённые канцелярскими скрепками. – Вот, статья и рассказ.
– Ну-ка! Интересно, о чём в наше смутное время пишут серьёзные писатели.
– Посмотрите. – Андрей Иванович подвинул листы Хромову. – Статья – про помойки на улицах. Сейчас грязь прикрыта снегом, но всё, что я описал поздней осенью, ярко проявится ранней весной. Рассказ же, если коротко, о любви.
– О любви?
– Да. Мелодраматический финал любви двух хороших людей. В Великую Отечественную они потеряли друг друга. Каждый считался погибшим, но прожил долгую трудную жизнь и в конце её остался одинок. В старости два одиноких человека встретились. С прототипами рассказа, ныне покойными, я был знаком. Сюжет известный, классический, но, мне кажется, я внёс в него нечто новое, своё сокровенное.
– Да-а… – протянул Хромов, человек с волосами по плечи, в вязаной кофте на пуговицах, нестарый, но болезненно темнолицый и сморщенный от неистового курения. – Сюжет мне нравится. О такой любви сейчас вроде уж и не пишут, всё норовят – с душком, со сценами…
– Но вы и не самоновейшая газета, а в добром смысле консервативная, с «душком» не печатаете, – сказал Андрей Иванович.
– Поэтому нас пробуют выжить с рынка печатной продукции. Жёлтая пресса наседает. Слава Богу, читатели ещё поддерживают, но неизвестно, что будет дальше. Хорошо, всё оставляю у себя, – сказал Хромов, пробегая глазами первые строчки рассказа. – Думаю, в скором времени и статью, и рассказ напечатаем. Я знаком с вами давно; уверен, как попало, не напишете. Только вот что, Андрей Иванович…
– Что?
– Я полагаю, не зря вы к нам явились. Вас ведь в столице охотно печатают, в больших журналах. Стало быть, сильно нуждаетесь. Так?
– Так. Внучку весной на конкурс в Рязань повезу. Она обучается игре на скрипке. Надо и струны хорошие купить, и смычок более качественный, а это всё стоит дорого и продаётся только в Москве. И на поездку в Рязань нужны деньги. Собираю, где могу… Но я вообще немало у вас печатался, «Ведомостями» не пренебрегал.
– Это верно. Но я-то вот о чём. С заработками у нас стало туго, Андрей Иванович. Тираж газеты резко упал и продолжает падать. Мы изо всех сил выкарабкиваемся.
Чугунов помолчал и ответил:
– Что ж… Всё равно что-нибудь да заплатите. В наших семейных доходах важен всякий рубль. Нет, в пору дикой инфляции рубль уже ничего не значит. В магазине счёт идёт на сотни тысяч.
– Мало заплатим, – предупредил Хромов. – Может быть, очень мало, и то со скрипом, с опозданием.
– Ничего. У вас немного получу, и ещё где-нибудь. Соберу с миру по нитке.
– В новых газетах платят больше, – сказал редактор, – но там ваши произведения не возьмут.
– В новые я не собираюсь обращаться. И кроме газет есть у меня, куда пойти с протянутой рукой.
– Как вы, некоммерческие писатели, в нынешних условиях выживаете? К коммерческим издательствам, я думаю, вас не подпускают, а государственных остались, наверно, единицы, да и те перестраиваются.
– Жаловаться не стану, – сказал Андрей Иванович. – Серьёзным писателям – вы меня к ним отнесли – никогда не было легко. Но, конечно, на душе у нас нынче пакостно. Литература становится занятием коммерческим, лучшие журналы и газеты сделались бедными, писатели обнищали, потеряв свои гонорары, заработанные изнурительным трудом.
– И ещё один к вам вопрос, – сказал Хромов. – Пишут и показывают, что Союз писателей распадается на два непримиримых лагеря, которые из зубов вырывают друг у друга журналы и издательства. Правда ли, что так всё и происходит, как пишут, говорят и показывают? Или это журналистская провокация для стравливания писателей, для наращивания тиражей и рейтингов?
– Ну, я не только читал об этом в газетах, слышал по радио и видел по телевизору, – но и знаю со слов московских друзей-литераторов, участвовавших в защите своих интересов. К сожалению, всё правда.
Несколько раз у Хромова на столе звонил телефон. Редактор брал трубку и глухим спокойным голосом коротко объяснял звонившим, что занят. Ему хотелось ещё побеседовать с Чугуновым. Но скоро Андрей Иванович поблагодарил его за внимание и ушёл.
15
В тот же день он успел позвонить директору завода железобетонных изделий Нестеренко и договорился с ним о встрече. На следующее утро Андрей Иванович собрался по-парадному и уехал к Нестеренко на завод.
Выписав пропуск, он миновал проходную с турникетом, со старичком в форме ВОХРы, зашёл в аккуратное кирпичное здание заводоуправления и поднялся в приёмную директора. Секретарша доложила о Чугунове и позвала его в кабинет. Нестеренко сидел во главе длинного стола заседаний, обставленного стульями. Знакомый Андрею Ивановичу светлый большой кабинет был отделан дубовыми панелями. Посреди стола, отражаясь в жёлтой полировке, красовалась тяжёлая хрустальная ваза. Директор, мужчина крупный, свежий, бодрый, нёс на лацкане блестящего синего костюма красный флажок депутата Верховного Совета СССР, и выглядел он крепким, уверенным в себе хозяином, не зависящим от социальных потрясений. Он встал из-за стола и, приветливо улыбаясь, пошёл навстречу Чугунову, обнялся с писателем и, рассматривая его, сказал:
– Что-то неважно выглядите. Похудели. Забот много? Мало отдыхаете? Ночные творческие бдения?
– Забот хватает, – ответил Чугунов. – Случаются и ночные бдения. А вы, судя по вашему виду, чувствуете себя прекрасно.
– Да, я в спортивной форме. На здоровье не жалуюсь. Ем с аппетитом, по утрам делаю зарядку, тридцать раз поднимаю двухпудовку. Кто из вас, писателей, хоть пять раз поднимет? Ну-ка, давайте посоревнуемся! – сразу предложил Нестеренко.
Двухпудовка давно лежала у Нестеренко в кабинете за рабочим креслом. Директор зашёл за кресло, вытащил её на красно-зелёную ковровую дорожку, расстеленную по шахматному паркету, снял пиджак и повесил на спинку стула. Схватив гирю за дужку, он несколько раз вскинул её над головой, задирая плечо и растягивая брючную подтяжку. Способностью поднимать двухпудовку он при случае любил блеснуть.
– Попробуйте, – сказал он, передавая двухпудовку писателю.
Андрей Иванович отказываться не стал, с усилием вскинул гирю два раза и, тяжело дыша, опустил на пол.
– Тридцать раз, конечно, не подниму, – сказал он. – С вами тягаться не берусь.
Нестеренко был доволен и великодушно похвалил Чугунова:
– Нет, вы ничего. За письменным столом, конечно, физических сил не наберёшься… Вам, я вижу, не терпится поговорить со мной о чём-то серьёзном, давайте сделаем это за чаепитием. Спустимся в буфет и посидим в укромном углу. День у меня сегодня, в общем, не приёмный, и после планёрки выдались свободные минуты. Я их вам посвящу.
Они с Чугуновым спустились в буфет. Директор покровительствовал людям от литературы и искусства. Он учредил для них свою заводскую премию и дважды отметил ею книги Андрея Ивановича. Тут они и познакомились, а после того, как Чугунов прочёл рукописные стихи Нестеренко и сказал, что у автора есть «искра», которую при желании можно развить, директор с писателем сошлись ближе и встречались дружески.
В закусочной буфета они сели в нише у окна с цветными стёклами. Витраж отображал жар-птицу в духе старинного лубка и в единстве с рисунками на темы русских сказок, украшавшими стены закусочной. Посетителей в эти часы не было. Буфетчица в белом фартучке с рюшками и в кружевной наколке оживилась при виде директора с гостем. Она просеменила с подносом к их столику и расставила чайные приборы, сахарницу с песком, вазочку с шоколадными конфетами, чайнички с кипятком и заваркой. Вернувшись за стойку, она нарезала и разложила на мелких тарелках белый хлеб, сыр, колбасу и лимон, и тоже принесла к столику.
– Ничего себе! – вырвалось у Андрея Ивановича, привыкшего к чаепитию скромному, с домашним вареньем, простой конфеткой. – Стол богатый, конечно, потому, что за ним сидит директор. Но всё же поразительно видеть в заводском буфете такое богатство в то время, когда до основания рушится государственная экономика!
– Безусловно, дополнительный лоск – для нас с вами, – ответил Нестеренко. – Я угощаю представительного гостя за счёт директорского фонда. Буфетчица заранее знает, что в таких случаях нужно подать. Но у нас в буфете и столовой всех обслуживают прилично и сравнительно недорого. Мы берём на базе хорошие продукты и для работников завода снижаем стоимость питания за счёт своих резервов. Высокая прибыль производства позволяет это делать. А культуры и ответственности в деле я требую от каждого подчинённого, в том числе от персонала буфета и столовой. Зайдите в столовую, поинтересуйтесь: обеды вкусные, питательные, столы чистые, повара и раздатчики вежливые. К нам стремятся попасть на работу, поэтому народ подбирается достойный. У нас, к примеру, нет пьяниц, мы их увольняем. Производство железобетонных плит рентабельно, тем более при введении новых технологий и современных видов плит: облегчённых, с разными полезными наполнителями. Зарабатываем мы, повторяю, неплохо. Люди довольны.
– Звучит как сказка, – произнёс Чугунов. – Каким же заказчикам по карману ваши изделия, если предприятия останавливаются, а народ в стране нищает?
– Не совсем так, Андрей Иванович. Верно, бедных предприятий и людей больше. Но богатых с каждым днём прибавляется, не будем сейчас выяснять, откуда у них берутся деньги. Возникают частные строительные организации. Плиты наши покупают для возведения и коттеджей, и высотных жилых домов. Я умею вести дело, поддерживаю инициативы, договариваюсь с поставщиками, смежниками, иностранными фирмами. На руководящей должности чувствую себя в своей тарелке.
– Неужели и с иностранцами сотрудничаете? Удивительно, что они кому-то из наших директоров в перестройку доверяют. Российская продукция сегодня может быть конкурентоспособной?
– Представьте себе. Я вот исхитрился продавать за рубеж свои изделия. Говорю, – я на своём месте. Недаром, народ избрал меня в Верховный Совет.
Нестеренко положил сыр на хлеб и, пока говорил, ел бутерброд, запивая сладким чаем с лимоном. Чугунов тоже угощался, но, слушая директора, думал о том, как бы ему завернуть в бумагу и унести для внучки сыра и колбасы. Жаль, ей нельзя было есть шоколадные конфеты.
– Я хотел с вами посоветоваться, – изменил Нестеренко направление разговора. – Бог мне вас послал. Если можно, сперва вы меня послушайте, я – коротко.
– Охотно слушаю, – сказал Чугунов.
– Думаю книжку моих стихов издать. Не возьмётесь ли, Андрей Иванович, отредактировать рукопись? Помнится, вы меня однажды похвалили.
– Хорошо, я посмотрю. Кое-что присоветую, но имейте в виду: я не поэт. Надо, чтобы глянул специалист и при необходимости снял с вас стружку. В писательской организации у нас есть отличные поэты. Я им покажу ваши стихи.
– В пятьдесят с лишним лет неловко слыть начинающим поэтом, – сказал Нестеренко. – Но напечатать свои опусы хочется. Не для широкой публики, а для себя, детей, внуков и друзей, тиражом экземпляров сто, не более. Значит, договорились?.. Какое у вас ко мне дело? Выкладывайте, не стесняйтесь.
– Пришёл просить денег.
– Много ли и для чего?
– Они мне понадобятся к апрелю. Нужно оплатить нашу с внучкой поездку на конкурс юных скрипачей. Это её первый конкурс. Кроме дорожных и гостиничных расходов необходимо кое-что купить для скрипки. Конкурс пройдёт в Рязани.
– Только и всего?
– Да.
– Ну, эту вашу просьбу легко исполнить, – сказал директор. – Здесь требуется небольшая сумма. Допьём чай, и я распоряжусь выдать деньги из нашего фонда поддержки культуры. Сейчас же и получите в кассе. Зачем ждать до апреля?
– Всё так просто?
– Конечно.
– Ну, спасибо.
– Это ведь не роман издать, – продолжал Нестеренко. – Печатание книг, знаю, стоит дорого. Кстати, Андрей Иванович, могу оказать вам финансовую помощь в издании новой книги. Обращайтесь, если потребуется, пока я в силах помочь. За государственный-то счёт вы, похоже, не очень много в рыночных условиях напечатаете.
– Прямо манна с неба на меня свалилась! – смеясь, произнёс Чугунов. – Хорошо. Я запомню. Ещё раз спасибо.
– А нет ли у вас на примете делового человека, способного организовать книжное издательство и руководить им? – спросил директор.
Андрей Иванович придержал чашку с чаем у рта.
– Вы шутите?
– Не шучу. Собираюсь при заводе создать книжное издательство. Нужен человек поворотливый, энергичный, разбирающийся в литературе и изучивший книжный рынок. Я бы поставил его на оклад директора издательства и в первую очередь поручил бы ему выяснить конъюнктуру книжного рынка. Некоторое время он работал бы на конъюнктуру, а накопив денег, печатал бы хороших писателей.
– Ваши слова сердце радуют. Хотел бы я, чтобы издательство при заводе заработало. Но такого человека, какой вам нужен, среди писателей найти трудно, – сказал Чугунов. – Он должен будет пренебречь творчеством, иначе с головой отдаться издательскому делу не сможет. Но я подумаю. Дело заманчивое. Я бы привлёк к нему своего сына. Он журналист, окончил Московский университет, молодой, бойкий. Работал в Москве в газете, вернулся в Григорьевск. Поговорю с ним после Нового года, но не знаю, что из этого выйдет. Он успел заняться мелким бизнесом.
– Убедите сына и приведите ко мне потолковать, – сказал Нестеренко.
– Хорошо, попробую. Я был бы рад видеть его директором книжного издательства. Это ли не удача, не перспектива для молодого журналиста и его отца-писателя?
16
Со скрипкой под мышкой и смычком в руке Настя выглянула за дверь своей комнаты и прокричала:
– Баба! Деда! Идите! Где вы там?
Вера Валерьяновна ослабила газовое пламя под кастрюлей, потёрла руки о кухонный передник и поспешила к внучке. Андрей Иванович отложил шариковую ручку и вылез из-за письменного стола.
Досадное впечатление Насти от встречи с отцом почти ею забылось, но ярко запомнилось ей обещание отца прийти на Новый год с подарками. Дожидаясь праздника, девочка улыбалась, напевала песенки и с подъёмом разучивала конкурсные пьесы. «Я подарю папе музыку», – думала она.
– Исполняется пьеса «Прялка»! – торжественно объявила Настя в подражание какой-нибудь ведущей концерта, мелькающей на экране телевизора, и сказала по-своему, по-детски: – Послушайте, как я конкурсную музыку играю.
Встав в усвоенную позицию скрипачки и глянув в ноты на напольной подставке, девочка выдержала паузу и легко, красиво побежала по грифу пальцами, повела по струнам смычком. «Прялку» сочинил польский композитор Артур Рубинштейн, однофамилец великого русского композитора, написавшего оперу «Демон». Стремительная музыка Артура подражала монотонному жужжанию, поскрипыванию прядильного колеса и шелестению веретена в руке старинной пряхи. Бабушка с дедом благоговейно слушали, подавленные музыкальным величием внучки, её виртуозной игрой на скрипке. А солнце, нацелившись в подмороженное окно, со спины озаряло маленькую скрипачку. Контуры Насти размывались лучами, волосы её золотились, и казалось, что девочка вышла из солнечного света.
– Ну как? – спросила она, закончив играть и горделиво вкинув голову. – Вам понравилось?
– Очень, очень, очень понравилось! – ответила Вера Валерьяновна. – Милый котёнок! Ты так меня растрогала своей игрой, что и выразить не могу! У нас с дедушкой самая умненькая и талантливая внучка!
– В самом деле, неплохо, – подтвердил Андрей Иванович. – Вещь интересная. Я каждый день твои упражнения слышу, но не перестаю удивляться тому, что ты, маленькая девочка, исполняешь такую замысловатую музыку. Мне кажется, если бы я занимался скрипкой, то никогда бы не выучил эту «Прялку».
– Правда?
– Правда. И за бездарность меня бы выгнали из музыкальной школы.
– А почему ты хвалишь меня, а сам как будто не всё говоришь? – спросила Настя, вглядываясь в деда.
– Всё, что хотел, я сказал. Мне, как и бабушке, твоя игра очень понравилась.
– Нет, ты не всё сказал!
– Другое говорить необязательно. Ты лучше меня чувствуешь то, о чём я не договорил, поэтому и спрашиваешь.
– Говори!
– Да ведь обидишься.
– Говори! Говори, что не так!
– Ладно. Мне показалось, будто в двух местах ты играешь не совсем чисто. Как-то не вполне ясно и убедительно.
– Где? В каких местах?
– Не могу указать пальцем в нотах, читаю их плохо. – Дед увидел, что провоцирует взрыв неукротимого Настиного темперамента; отступать однако было ему поздно. – Но произведения, какие ты помногу раз проигрываешь, я поневоле запоминаю и на слух улавливаю ошибки. Лариса Владимировна тебе на них указывала.
– А-а-а! Не знаешь! Не знаешь, а говоришь!
– А ты сыграй медленно, с чувством, толком и расстановкой, и я скажу, где надо тебе остановиться и исправить.
– Не буду! Я выучила хорошо!
– Не волнуйся, Настенька, голова заболит, – оглядываясь на мужа, заговорила Вера Валерьяновна. – Отдохнёшь и проверишь, как звучит твоя «Прялка».
– Ты сказала, она у меня звучит хорошо!
– Сказала… И ты, правда, играешь чудесно. Но всё же послушайся деда. Он понапрасну замечание не сделает. Не упрямься, повтори.
– Пусть сам повторяет! – Девочка скорчила деду гневную рожицу и показала язык.