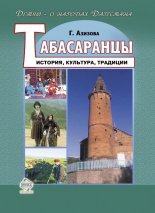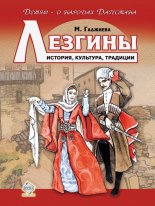Перехваченные письма. Роман-коллаж Вишневский Анатолий
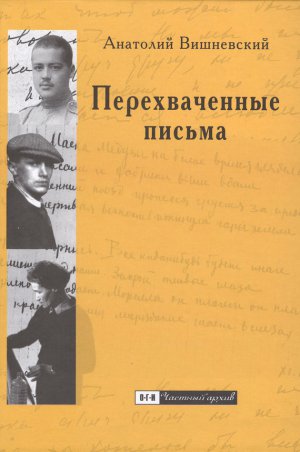
Полная неудача. Пилявский вчера не принимал, а Горькая еще не вернулась из Москвы. Таким образом, думаю, что нельзя рассчитывать больше на скорое освобождение Николая. Большое тебе спасибо за предложение продать шинель, это нам будет большим подспорьем, за нее уже дают 1100, но я не могу отдавать меньше, как за 1500, а Губарев надеется продать и за 2000. Затем Губарев спрашивает, не разрешишь ли ты продать оленьи сапоги, которые тебе подарили в Ярославле, они совсем новые, и он думает, что за них дадут не менее 600. Папаху твою Губарев отнес Николаю, но если ты дорожишь папахой, я думаю, ее можно будет взять у Николая, а ему дать его шапку.
Ика больше не ходит в больницу из-за сыпного тифа. Николай Иванович хочет ее устроить в учреждение, где он получил место, это в архиве военно-походной канцелярии. Состав там самый приятный, начальник — Зуев, бывший полковой адъютант. Эти дни нам опять грозило переселение: пришли красноармейцы и объявили, что будет производиться вселение в квартиры. Тогда мы решили переселиться в одну квартиру с Николаем Ивановичем, а нашу предоставить товарищам, но больше никто не появился, так что, может быть, этого и не будет, хотя в здешнем районе вселение производится.
Горькая, наконец, вернулась, вчера я была у нее на приеме, и секретарь ее мне сказала, что вам обоим в ближайшие дни будет сделан допрос. Таким образом, дело, наконец, сдвинется с мертвой точки, на которой оно так долго стояло. Дай Бог, чтобы это не оказалось фальшивой надеждой, а действительно бы так и было. Горький, по-видимому, в силе и проявил свое влияние. Так освободили маленького Оболенского, и это несомненно тоже сделал Горький. Вообще я со вчерашнего дня воспряла немного душой. Может быть, Бог даст, наступит перелом в наших мучениях. Крепко, крепко обнимаю тебя, мой милый.
Из писем января 1919
Дорогая Вера, поздравляю с днем рождения. Пишу каждый вторник и субботу, но не все письма доходят, заставляют писать крупно, одну открытку мне вернули. Чувствую себя ничего себе, только очень похудел, очень ослаб и постоянные боли в пояснице. Два раза в день гуляю по 1/2 часа. Перешел в камеру №108, где находится Ник. Ив. Добровольский, присяжный поверенный и гласный Петроградской Городской Думы прошлого состава, человек симпатичный. Сапоги оленьи, конечно, надо продать.
Скажи Губареву, чтобы аккуратно осматривал белье. Нижнюю рубашку я получил сильно порванную, придется вернуть, не надевая, часто без пуговиц. Знаешь ли, где Николай? Я ничего от него не получаю. Как-то вы справляетесь, болит сердце за вас, сам я здоров, только очень слаб. Целую тебя и всех.
Вчера был у доктора, который, вследствие чрезвычайной слабости и упадка сил, хотел перевести меня в госпиталь на Голодай. Я просил отложить, боясь главным образом, что тебе трудно будет доставлять туда передачу, без которой и там невозможно просуществовать. Разузнай, как там, взвесь и выясни все и напиши скорее, пытаться мне перебраться туда или нет.
Насчет Голодая я вот что узнала. Там кормят лучше, конечно, чем в тюрьмах, и даже, говорят, недурно, хлеба дают по 1 ф. в день. Что дальше для нас, этим тебе смущаться не следует, потому что туда на двух трамваях можно совершенно удобно доехать. Но обратная сторона та, что там очень скученно и даже, как это ни странно для больницы, грязно, полно насекомых и пренахальная команда из матросов. Хуже же всего то, что там царит сыпной тиф, от которого умирают, как мухи, так что для организма уже ослабленного водворяться туда прямо было бы опасно. Очень советую этого не делать, оставаться на Шпалерной, где мы надеемся тебя подкормить усиленными посылками, которые, для нас теперь не так трудны. Некоторые продукты, которые совсем было исчезли, вновь появились, а другие несколько подешевели.
От Кота имею сведения, что он здоров и бодр, теперь с ним Тараша и Жорж, чему я рада за него. Не знаю, в курсе ли ты последних внешних событий, но теперь и мне начинает казаться, что избавление к нам может прийти с Запада и как будто не в очень отдаленном времени. Будем надеяться, а пока будем сохранять бодрость духа, которая так необходима. Крепко тебя целую, извести поскорее о твоем здоровье.
Из писем декабря 1918 — января 1919
Пользуюсь несколько рискованным способом, чтобы дать о себе сведения, — ибо боюсь, что начинаю принимать для вас характер египетской мумии, сношения с которой ограничивались тем, что ей от времени до времени приносили пищу. Итак, поздравляю бабушку и Ику с рождениями, благодарю бабушку за карандаши — я иногда рисую ими.
Эта тюрьма имеет характер пересыльной, здесь не заживаются. Осужденных на каторжные работы отправляют партиями в Вологду, больных — в местный лазарет. Я признан больным и избежал Вологды. Однако, принимая во внимание, что, по письмам оттуда, там живется недурно, — в избах, почти на свободе, лучше кормят — хочу подать заявление, что выздоровел и чтобы меня отправили со следующей партией, — ибо отправляют буквально всех, кроме больных и стариков, и всем, кто здесь, уже вынесен приговор, всегда заочный, так что до отправки судьба неизвестна. Отбывание наказания считается с момента приступления к работам; предварительное заключение не считается, так что лучше торопиться. Так ли это все по твоим сведениям, или мне лучше ждать? Если так, то пришли рукавицы и валяные сапоги, и тогда я подам заявление о желании быть отправленным на принудительные работы.
Засим пришли хороший полный Служебник, где была бы вся Всенощная, Обедня и пр. (как видишь, я стал мистиком), а потом — это не так к спеху — латинско-русский словарь и книгу Овидия «Tristia» или «Metamorphoseis» с Фоэтоном (или Вергилия). Лучше сокращать пищу телесную, чтобы не пренебрегать духовной; посему я и сокращаю почти куренье.
Живу теперь, к несчастью, не в одиночной, а с сожителем. Он довольно молчалив, но все же лучше было одному, как первые три недели здесь, — тем более, что теперь все время под замком. Охрана довольно хорошая, самочувствие тоже.
От пленения Вавилонского день 111-й.
Сегодня вечером угнали новую партию в Вологду — почти всех. Я опять выскочил как больной. Следующая партия будет, вероятно, недели через две — и тогда вопрос, как мне поступать, проситься туда или продолжать болеть? В конце припишу адрес, через который мне можно доставить ответ. Постарайся узнать, к чему я присужден, — а что это так, у меня нет никаких сомнений; здесь, в нашем asylium'e[10], — только приговоренные к чему-нибудь. Извести меня о папа. Лиц старше 50 лет на работы посылают редко, в виде исключения. Возможна ли комбинация, что его пошлют? Тогда нам хорошо, конечно, быть вместе, причем туда, кажется, можете приехать и вы: сосланные выписывают семьи и извещают, что там сносно в продовольственном отношении.
Припиши от меня в Москву привет по случаю праздников. Поздравляю тебя и всех здешних с таковыми. Что делают Жорж, Параша, Кики де Кака?
Черт, как меня раздражает стоящий сзади и, кажется, читающий через плечо сожитель, шикарный присяжный поверенный Гензель. Он получает колоссальные посылки, жрет, как свинья, и никогда не делится. По утрам моет ноги одеколоном! Слава Богу, отошел, гнусный жидюга, делает вид, что не читал…
Последнюю свечу опять конфисковали, больше их не надо посылать. Тебе может быть интересно услышать новости нашего Шильона? Я был несколько раз на работах — от пиленья дров и разноса их по квартирам (на одной из них мне дала сострадательная кухарка несколько сухарей; в другом месте я украл несколько крупных картофелин) — до стирки казенных тюфяков. Паука еще не дрессировал, но убил много блох. Мы добиваемся всенощной и обедни на праздники. Умер строгий надзиратель (от пьянства), и теперь ослабления в режиме — днем почти не запирают. Слушая рассказы про дороговизну на воле, я не понимаю, как вы достаете посылки.
Итак, Вятка, Вологда, хвойный лес, копанье в снегу и изба с 2 фунтами хлеба… Все это довольно соблазнительно после подвалов. Кстати, ты заметила грандиозность нашего здания внутри? Оно похоже на храм, вокзал, фабрику, купальни на курортах, и также холодно и сыро. Боюсь, что письмо это так не содержательно, что ты прекратишь заходить за обратными передачами. Книг я почти не отсылаю, хотя все прочел, так как они в чтении — теперь еще прибавились Жорж и Тараша, новые чтецы. Je donne tout et ne reois rien, je fais tout et on ne me fait rien[11], как говорила бабушка в доброе старое время. Поздравь ее с праздниками. Как то проводит папа свое рожденье?
На меня находят часто воспоминания раннего детства, в связи с чем я написал и отделал следующий chef-d'uvre[12]:
- Ах, когда бы можно было
- Умереть и возродиться
- Под другими небесами
- В новой, лучшей стороне.
- Я глядел бы с изумленьем
- На неведомое солнце;
- Ветры, молнии и бури
- Волновали бы меня.
- Новый день и время года
- Я встречал бы, точно праздник;
- Зимней ночью сон тревожный
- Мне мешать бы не посмел.
- За таинственной калиткой
- Открывал бы я нежданно
- То чулан, то коридоры
- Или сад моих отцов.
- И заботой окруженный,
- Я бы племени родного
- Узнавал привычки, веру
- И наследственный язык.
- Вот впервые за усадьбу
- Повели меня. Увидел
- Я работы полевые
- И ленивые стада…
Est-ce que ce sont des vers?[13] — спросили бы прадеды.
Bigre oui[14], И очень хорошие. Они меня трогают до истерики. Пока до свидания. Вот еще что, самое важное: перед отправкой на работы разрешают иногда звонить по телефону, и родственники приезжают на вокзал с теплыми вещами и таковыми же пожеланиями. Целую.
Боливар
Благодарю тебя за неожиданную рождественскую посылку. Она мне доставила огромное удовольствие. Вообще эти дни я празднично настроен: в начале недели убирали и чистили церковь, где с Троицы не было службы. Потом говел, в Сочельник исповедывался, 25-го причащался.
Доброе начальство принесло в коридор две сосны, на одной из них несколько электрических ламп и куски ваты. Кроме того, 25-го получили по ложке каши, кроме обычного супа. C'est touchant[15].
Продолжаю думать о работах — это, по-видимому, единственный и простой способ выйти на относительную свободу. Однако не слишком тороплюсь, боясь холодов, — а так недели через три, когда морозы спадут и зимы останется уже немного. Хочу отослать мой шикарный френч, продайте его — он мне больше не нужен, а деньги пригодятся в Вологде. Мне же взамен пришлите рубаху вольноопределяющегося (теплую, суконную), а если ее не найдете, то ту, которую я носил в Зиновьеве, полотняную (не китель).
Кончаю письмо, так как тушат свет. До свиданья, целую тебя, привет всем.
Даниил Заточник
Я сплю действительно на досках, но от сего не страдаю, благодаря мешку. Постельного белья не надо — не во дворце ведь, — а носильное белье — раз в две недели. En prison comme en prison[16]. Но у меня нет рукавиц; пришли потеплее, на работах я без них мерзну.
Как грустно со Шпалерной! По слухам, там много строже, чем здесь.
В Вологду выписывались уже семьи — но не как правило, кто как попадет.
Русская Мысль мне очень нравится, не знал, что такой хороший журнал. Это наше Revue des Deux Mondes.
Итак, с Новым годом. Настроение у меня ровное. Читаю Библию Жоржа. Если можно, пришли и мне таковую, покомпактнее, на русском языке. Они, кажется, недороги.
У входа в Трубецкой бастион какой-то неунывающий остряк начертил надпись ворот ада («Оставь надежду…» и т.д.). Это произвело на меня удручающее впечатление, и я думал, что масса шансов не выйти из этой клоаки. И вот, однако, вышел и не без юмора вспоминаю те сентябрькие дни. Да послужит это предзнаменованием и для будущего.
Больше обедни не разрешили, но и на том спасибо. Репрессий не ждем, на Арсенальной же за одну попытку запросить о всенощной церковь была немедленно обращена в кинематограф и зал для танцев.
До свиданья, крепко целую тебя[17].
Иоанн VI
Я была на кухне, готовя что-то из обычного овса — того самого, которым кормят лошадей. Его выдавали нам вместо хлеба. Мне удалось достать большую соленую селедку, и я пропустила все, сырой овес и селедку — с головой, костями и всем остальным, — через мясорубку. Я только что положила все это в большую кастрюлю и залила водой, когда внезапно дверь кухни отворилась, и вошел Кот. Я едва не уронила кастрюлю на пол от изумления. Неужели это Кот? Это было похоже на чудо.
О том, что происходило за сценой, мы узнали только много позже.
На следующий день после визита к Стасовой мама узнала, что единственный в мире человек, которого любит эта женщина, — ее родная сестра Яковлева. И что в это время Яковлева умирала от испанки. Мама поспешила к ней. Вначале ее не пустили, но потом, она каким-то образом прошла, приблизилась к постели умирающей, упала перед ней на колени и стала молить за сына. Она попросила Яковлеву сказать о ее просьбе сестре, когда та придет, оставила свое имя и вернулась домой.
После маминого ухода больной стало очень плохо. Было ясно, что она долго не проживет. Женщина, которая ухаживала за ней, срочно послала за ее сестрой. Когда та пришла, Яковлева стала без конца твердить ей одну и ту же фразу: «Верни матери ее сына! Верни матери сына!» В конце концов Стасова вышла в соседнюю комнату и там спросила, о какой матери и о каком сыне говорит ее сестра. Ей показали мамину записку. Любовь к сестре перевесила все, она вернулась к постели больной и сказала. «Хорошо, мать получит своего сына. Я сделаю то, о чем ты меня просишь».
Умирающая женщина улыбнулась с признательностью. С этого момента она пошла на поправку и через несколько дней была здорова.
Глава 3
РАЗГРУЗКА ТЮРЬМЫ
Из писем января 1919
От Татищева Дмитрия, камера 108
Здесь, Церковный пер, 6, кв. 12
Вере Анатольевне Татищевой
Давно не имел писем, последнее получил прошлый вторник — с радостной вестью о Николае. Как-то живете вы? Ужасно тяжело так мало о вас знать. Я могу писать только два раза в неделю, вы можете чаще, пусть пишут девочки. Вы, кажется, можете писать мне и закрытые письма, конечно, будут здесь цензурировать.
Два раза не брали отсюда моих обратных посылок. Здесь недовольны тем, что им приходится носить вниз и обратно наверх, а так как я знаю, что вам приходится здесь долго дожидаться, то не лучше ли определить один день в неделю, когда я буду их приготовлять, но тогда уж пусть их берут. Назначим пока понедельник, потом напиши, какой день тебе удобнее.
Чувствую себя крепче и сытее, благодаря увеличенным посылкам и больничной порции, которую мне назначили, но только у меня теперь распухли ноги, почему я был сегодня у доктора.
Если тебе трудно присылать такие передачи, что несомненно, то имей в виду, что можно обратиться в Датский Красный Крест, от которого некоторые знакомые здесь получают передачи; они хотя и не могут заменить вполне домашние, могут помочь, их присылают 2–3 раза в неделю, в дни, когда нет общих передач.
Из писем февраля 1919, из Москвы
Мое дело с поступлением в Красную Армию, кажется, налаживается, по-видимому, завтра буду принят. Здесь трудно с квартирами — холодно и переполнено, почему я еще не обосновался. Провел ночь на Сивцевом, сейчас пишу от Екатерины Николаевны, которая тебе шлет привет.
Передала ли ты мое письмо Стасовой? Если нет, это надо сделать как можно скорее. Для папа готовится еще посылка — столько же хлеба и 1 ф. сала. Но и здесь все бедствуют, пожалуй, не меньше петроградского. Петр болен и многие другие тоже — от истощения.
В общем здесь довольно приятно, погода солнечная, морозная, довольно бодрящая. Я усиленно занимаюсь чтением, хожу в Третьяковскую галерею, был на патриаршей обедне. Встречаюсь со старыми друзьями. Меня усиленно откармливают и балуют.
Вчера у меня были две приятные неожиданности: получил ваши письма с посылками и откомандирован на завод, о чем давно мечтал. Сегодня уже выезжаю. По приезде напишу.
Я нес это время караульную службу, которая в общем не была обременительна; раз только морозило сильно, больше 20° с ветром, так что ночью было трудно выстоять. Зато хорошо питался и имел удовольствие наслаждаться Кремлем и переулками в чудные солнечные дни. Тишина здесь потрясающая, трамваи, к счастью, стоят, везде масса снегу, как в деревне. На заводе, куда я еду, находится Иннокентий.
Кончаю письмо и отправляюсь на вокзал. Вокруг суета — готовят провизию на дорогу.
Из писем февраля 1919
Благодарю за прекрасные последние посылки, чудный пирог, прекрасные каши, сало, мясо, хлеб. Все это меня очень подкрепило, и я чувствую себя лучше гораздо, одно время был совсем слаб, очень изнурен. Только трудно тебе не только все это доставать, но и самой всегда носить теперь, что девочки заняты. А где Губарев?
Переезд Николая к матери, насколько могу судить отсюда, одобряю, уверен, что вы хорошо решили.
С сегодняшнего дня дни посылки писем отсюда изменились, кроме того предложено писать крупно и только самое необходимое.
Так как электричество горит у нас всего 1 1/2 часа в сутки, то, если не очень трудно, пришли свечу, а то очень уж длинные ночи.
Из писем февраля 1919 Теткинский завод[18].
Я живу в деревне, в прекрасной местности, на реке Сейм. У нас с Иннокентием большая комната — я его адъютант, народ здесь приятный, погода очаровательная, пищи дается столько, что при всем желании не могу всю поесть.
Что касается до службы, то штабная работа происходит между 10 утра и 5 — как у Ирины, но дела сравнительно немного, так я сейчас имею возможность писать тебе, сидя за моим адъютантским столом. Часто вспоминаю вас на Спасской, 2 и стыжусь своего благополучного жития. Но из-за дальности расстояний и совершенного отсутствия оказий в Петербург, мы с Иннокентием ничего не можем прислать. О дальнейших моих планах пока ничего не могу сказать, по всей вероятности, долго останусь здесь.
Из писем марта 1919
После выздоровления Николая ты писала, что надеешься и веришь, что скоро будет другая радость. Напиши, пожалуйста, совершенно откровенно, продолжаешь ли ты надеяться или вряд ли можно в скором времени ожидать [два слова невозможно прочесть — поверх них стоит штамп: Просмотрено. Комиссаръ дома предварит. заключенiя]. Здесь вполне тепло, кроме нескольких дней с месяц тому назад, когда испортилось отопление и мы мерзли…
Свечки получил, благодарю, только горят они очень уж скоро. Свечи теперь особенно важны, так как электричества нам совсем больше не дают. Чувствую я себя ничего себе, только опять стал несколько слабее, очевидно, вследствие недостатка питания.
Датскую посылку получил один раз, но на них теперь рассчитывать нельзя; стали неаккуратны, то пришлют один раз в неделю, то две недели совсем не присылают, и вообще посылки не представляют основательного интереса. Твои последние хороши, благодарю. Получаемых в понедельник и среду вполне хватает, пятничную иногда не удается растянуть на три дня. Не стесняйся присылать махорку, если табак дорог. Совсем плохо со спичками, прошу хоть одну коробку в неделю.
Прошу белья, полотенце, воротничков. Хорошо бы просматривать белье, а то в последний раз я получил совершенно рваную рубашку и подштанники без единой пуговицы, пришлось самому шить, оторвав пуговицы от сменных. Тогда была иголка и нитки у моего сожителя, а теперь нет. У меня новый сожитель, инженер с Путиловского завода.
Твою открытку от 25 марта я получил вчера, на ней сделана надпись, что надо писать крупнее, прими это к сведению. Поясница моя гораздо лучше, кашель почти прошел, вообще чувствую себя лучше. Деньги я просил внести один раз, так как здесь тратится мало, газета, парикмахер и кой-какие мелочи, но если тебе не очень трудно, то внеси еще раз в пятницу рублей 50, это на случай перевода меня в другой город, что последнее время практикуется довольно часто.
1/14 марта 1919
Как ты поживаешь? Ходишь ли на службу? Полагаю, что у вас продолжается голодовка, хорошо хоть что кончились морозы. Здесь весна, вчера я даже видел первый намек на зеленую траву. Совершаю большие прогулки, уже давно забросил пальто. Хочу обратиться к тебе со следующим предложением: если не будет предвидеться ничего лучшего и если я буду все еще здесь, весной ты возьмешь отпуск, и я приеду или пришлю кого-нибудь, чтобы привезти тебя в здешние Палестины откормиться и отдохнуть на лоне природы — а потом Ику (или наоборот). Ты здесь не пропадешь — здесь деревня, белые хаты, большая река с островами и знакомые люди.
Вот еще аттре[19] для тебя: масса собак. Я завел было ощенившуюся суку, чтобы иметь свежее молоко к утреннему чаю, и сперва все шло хорошо; но раз, когда я ее доил прямо в стакан с горячим чаем, она сорвалась с места, обварила задние ноги и теперь убегает, когда видит меня за две версты.
Из писем марта 1919
Моя жизнь без перемен, если не считать того обстоятельства, что я феноменально толстею, приводя в неописуемое удивление всех, кто не видит меня хотя бы несколько дней подряд. Продолжаю жить с Иннокентием, который очень приятен. По вечерам здешняя молодежь собирается за чаем, и Иннокентий рассказывает о «батюшке Николая Дмитриевича».
Может быть, если Ст[асова] узнает обо мне, это придаст энергии и для дальнейшей медицинской деятельности? Тем более что, как говорит поэт:
- Tell that I'm a soldier
- Of the red army,
- But not about the sugar
- Aid it will be right!…[20]
Из писем апреля 1919
Сейчас меня переводят на Гороховую, 2. Доставляй, пожалуйста, туда жидкую пищу: молоко, суп в бутылках, жидкую кашу в бутылках. Твердое там отбирают; без передач, говорят, очень голодно. Можно приносить папиросы, но не больше 75 штук за раз.
Сегодня увозят меня в Москву вместе с Бор. Васильчиковым, Макаровым, Крейтоном. Сижу в вагоне поезда, отойдет в 6–8 часов вечера. Скверно, что не дали ни тех небольших денег, которые были на Шпалерной, ни возможности захватить больше белья и еды.
Умоляю тебя ничего не предпринимать в смысле собственного передвижения. Во-первых, переезжать теперь нельзя, во-вторых ты нужна девочкам, меня же поручите матери, сестрам. Да хранит вас Бог, мои дорогие, обнимаю тебя, девочек.
Прибыли благополучно вчера к вечеру, сразу повезли в Бутырскую тюрьму. Пока поместили всех прибывших вместе, в очень большую камеру, и сегодня, кажется, будут распределять. По первым впечатлениям, содержание и кормление лучше, чем в Петрограде. Сейчас напишу на Сивцев Вражек, буду просить доставлять кое-что. Не волнуйся, не беспокойся. Огляжусь, напишу подробнее.
Надежды на то, что гораздо лучше и больше, чем в Петрограде, кормят, не оправдались. Сидим по-прежнему в карантине, 51 человек в одной камере, ничего нового, никакого просвета.
Сегодня Тун приходила справляться, не здесь ли я и, узнав, что здесь, оставила свой завтрак, — так мне сообщили, передавая его [последние слова не очень разборчивы из-за стоящего поверх тоже не очень разборчивого, размазанного штампа: Заведующiй пересыльнымъ отделенiемъ. Помощник начальника]. Таким образом, связь с ними налажена. Если бы ты могла присылать иногда папиросы или табак, все равно что, было бы очень хорошо, а то с куревом здесь беда, а бросить курить в той обстановке, в какой я нахожусь, очень тяжело.
Как ты смотришь на наш перевод в Москву? Во всем можно найти и хорошую сторону, в переводе моем хорошо, что хоть заботы о моем пропитании и тяжесть три раза в неделю носить мне передачи отпала от тебя и перешла на Сивцев Вражек.
Нового ничего, здоровье мое также ничего себе. Конечно, в обстановке, в какой мы находимся, не раздеваясь вот уже 11 дней, спим на голых нарах втроем на двух, чувствовать себя вполне хорошо нельзя. Передачу приносят мне через день, за что я очень благодарен.
Карантин наш кончился, и нас перевели в разные камеры. Я нахожусь с Васильчиковым и Крейтоном в камере, в которой всего нас находится 14 человек, но надеемся, что нас поместят втроем в одиночной камере. Передачи Тун приносит через день, что очень удобно и приятно для меня, но должно быть тяжело для Тун, так как тюрьма далеко от Сивцева Вражка и трамваи, кажется, не ходят. Тяжело, что не имею непосредственных известий о вас, только Тун сообщает, что у вас все благополучно. Не получил ни одного письма от тебя и не знаю, получаешь ли ты мои. Что то делается у вас и что ты намерена предпринять? Как бы хотелось знать.
Москва, Сивцев Вражек, 30, кв. 8
Вере Анатольевне Татищевой
Сегодня нас троих перевели в 14 коридор, камеру № 12, где я встретил С. Дм. Евреинова и некоторых других знакомых. В камере нас теперь 21 человек. Чувствую себя удовлетворительно, тяжело сидеть в такой большой компании, но мы продолжаем надеяться на перевод в одиночку. Вчера заключенный священник служил всенощную и 12 Евангелий, сегодня также всенощную с плащаницей, завтра исповедуюсь. Служба проходит или в коридоре, или в одной из камер. У меня опять распухли ноги, может быть, от потери привычки стоять.
Из писем мая 1919
Вчера написал Туну и начал перечисление книг, которые хотел бы прочесть и перечесть. Это на случай только, если эти книги находятся у вас под руками, иначе присылай, что найдется, по своему усмотрению[21].
Большая для меня радость была узнать сегодня, что вы благополучно приехали и таким образом вы и ближе и вместе. Очень я последнее время беспокоился относительно того, как вам удастся переехать, хотя и получал твои открытки из Петрограда.
Получаются ли известия от Николая и благополучен ли он? Я чувствую себя ничего себе, настолько хорошо, насколько можно себя чувствовать в моем положении, которому скоро минет девять месяцев. Хоть нас в камере в околотке 25 человек, но я порядочно читаю, как ты можешь судить по присылаемым и отсылаемым книгам.
Из писем июня 1919
Датский Красный Крест так и не доставил сегодня обычной посылки. Носятся слухи, что они вынуждены будут прекратить доставку передач.
На обратной передаче писать много нельзя, и кроме того страшно всегда торопят и едва дают время проверить получку и уложить отсылаемое. Простоквашу я, во избежание порчи, съедаю в тот же день, а что касается молока, то оно очень скоро киснет, но у меня не пропадает, потому что я его также обращаю в простоквашу, когда оно становится негодным для питья как молоко. Ты пишешь, что трудно доставать книги, которые я просил. Это не важно, присылайте какие-нибудь, русские или французские.
С нетерпением буду ждать известий о том, как решится судьба девочек, а если они поедут на огородные работы, пусть они подробно напишут мне, как они там живут, что делают и где именно находятся. Очень мне тяжело было узнать, что и ты вынуждена искать какую-нибудь работу, боюсь, что тебе будет не по силам после всего перенесенного и пережитого за эти годы. Нельзя ли еще подождать?
Из писем июля 1919
Ты хлопочешь о свидании, но если и будет разрешено, то теперь вряд ли иначе, как через две решетки. Меня перевели из околотка, здесь меньше еды и меньше прогулок, что разумеется грустно, впрочем, и в околотке еду уменьшили за недостатком продуктов.
Если вчера тебе показалось, что я волнуюсь, то не думай, что это всегда так, это произошло от радости видеть вас всех, в общем я скорее спокоен нравственно, и если бы не увеличивающиеся к вечеру отеки ног и боль в них при первых шагах после того, как я лежу или сижу, что доктора объясняют ревматизмом, то и физически чувствовал бы себя ничего себе. Напиши, сколько нашла у меня сигар и понемногу, штук по 5–6, присылай, если есть.
Вот уже одиннадцатый день не имею от тебя открыток, последнюю получил 6-го. Очень надеюсь, что это не предвещает чего-нибудь дурного, знаю, что это может произойти и от почты, и от цензуры, но тем не менее на душе неспокойно. Все ли здоровы и все ли благополучно? Не скрывай от меня ничего и неприятного. Лучше знать, чем думать, что что-нибудь скрывают. Многое приходит тогда на ум, и бывает тяжело.
Пишу у открытого окна, вид из камеры на Петровский парк, видны Яр, Бега, Александровский вокзал. Из других камер по вечерам слышно пение, игра на скрипке, на гитаре. Окна открыты у нас и днем, и ночью.
Из писем августа 1919
Когда узнаешь цены на разные вещи, зубная щетка, например, то страшно становится просить о чем-нибудь, но к сожалению, мыло у меня подходит к концу, и я чувствую, что скоро придется просить прислать кусок хоть какого-нибудь мыла. Очень досадую на себя, что раньше не написал, что сюртук штатский и жилет к нему без брюк мне совсем не было бы жаль, если бы ты продала, а по нынешним временам за него можно было бы получить порядочно денег. Разумеется, если тебе нужны деньги, то продавай и прочие мои вещи. Чувствую себя удовлетворительно, духом бодр.
Вчера, 5-го августа, мне доставили передачу в шестом часу, и сейчас после пошел страшный ливень. Кто попал под ливень, удалось ли укрыться или пришлось промокнуть до костей? Грустно, что изменилась погода, хотя жаловаться на лето нельзя, в общем оно было прекрасное.
Возвращаюсь к записке, которую ты пишешь. Она могла бы пригодиться в случае суда, впрочем, не имею никаких оснований думать, что таковой будет. Пользоваться же ей так, как ты предполагала, я думаю, не следует.
Что делать, что тебе пришлось взять службу, хорошо еще, что, как ты пишешь, условия, не очень тяжелые, и раз тебе это не в тягость, и даже приятно проводить так утра, что я понимаю, то я, конечно, ничего не имею против.
Ужасно, что приходится переносить бедной Ирине с передачами… Страшно меня мучит, сколько вам трудов, хлопот и сколько стоят мои передачи, когда и без того вам живется так тяжело… Если приходится платить по 1 рублю за папиросу, то доставляй только в том количестве, в каком выдают по карточкам, — папиросы, или табак, или махорку, все равно. Буду окончательно отвыкать от курения, и теперь курю уже гораздо меньше.
Неужели Ирине пришлось простоять целый день под дождем в среду? К вечеру я узнал, что до трехсот передач не было принято и было отправлено обратно. Не совсем ясно представляю себе, где приходится находиться приносящим передачи, но, кажется, чуть ли не на улице, в таком случае это ужасно в такие дождливые дни, как был в последнюю среду. Лучше мне оставаться без передачи, чем знать, что кто-нибудь из вас целый день мокнет под дождем. С ужасом думаю об осени.
Из писем сентября 1919
Ты спрашиваешь, как я в новой обстановке с переменой камеры. Могу сказать, что на прогулке (а гуляют вместе целым коридором, т.е. человек около 150) преимущественно слышны разговоры на французском, английском, немецком, польском и др. языках, из этого ты можешь судить о составе заключенных в коридоре №2. Чувствую я себя очень бодро, так что обо мне в этом отношении не беспокойся, лишь бы у вас все было благополучно. Очень жаль, что тебе приходится менять службу, которая по-видимому была подходящая, на другую, неизвестную.
Сегодня ровно год, как я сижу. Со вчерашнего дня в нашей камере появился доктор среди заключенных, австрийский военнопленный, таким образом, мы и днем, и ночью обеспечены медицинской помощью. Сейчас 9 1/2 часов, через полчаса лягу спать, так как я ложусь очень рано, часов в 10, встаю в 7.
Окна у нас по-прежнему открыты и днем и ночью, без этого было бы очень тяжело.
Сегодняшним днем начинается серия наших семейных праздников, которые опять приходится проводить врозь. Особенно грустно нам будет 12-го. Буду мысленно переживать много хороших годов, прожитых нами, и не теряю надежды, что и еще выпадут на нашу долю радостные дни.
Новости, доходившие от отца и других наших друзей из тюрьмы, были не слишком плохими. Мы могли носить им передачи с едой и папиросами, обменивались небольшими записками, что также несколько успокаивало. Некоторые из заключенных могли даже приходить домой в конце недели. Условия в московской тюрьме были, как кажется, намного лучше, чем в Петрограде.
Но затем случилось ужасное. Каплан стреляла в Ленина[22]. Он был легко ранен, а ее тут же схватили, но на этом большевики не остановились. Воцарился террор, и начались репрессии против невинных граждан, которые не имели никакого отношения к инциденту. Никто не мог понять, почему это делалось, как, впрочем, никто не мог понять и самих причин этой смертоносной революции…
Очень скоро до нас дошли сведения, что мой отец со многими другими государственными деятелями был расстрелян в ночь с 13 (26) на 14 (27) сентября 1919 года. Как обычно, когда совершались подобные зверства, ничего определенного не сообщалось. Всех держали в неведении, до нас доходили только слухи. Не стану говорить о том, через какое испытание мы прошли. Каждый день оставлял все меньше и меньше надежды, пока, наконец, нам не сказали всю правду.
11/24 сентября 1919. № 46
Дорогая Вера, сегодня получил от тебя письмо и от Туна, оба эти письма доставили мне большую радость проглядывающим в них хорошим вашим настроением. Поздравляю тебя с третьим нашим семейным праздником в этом месяце, днем твоего Ангела, больше всего желаю, чтобы этот день никогда не проводить так грустно врознь и всего, всего наилучшего. Благодарю за Лескова и жду следующей книги с продолжением. «Некуда» читаю с удовольствием.
12/25 сентября. Здесь я прервал писание, так как пришли за мной и повели в контору тюрьмы на допрос. Продолжаю писать.
12 сентября — день такой счастливый, который второй год приходится проводить так грустно. Допрос был не длинный и, как мне сказал допрашивающий, предпринят на предмет разгрузки тюрьмы[23].
Из его слов можно было заключить, что я могу быть переведен или в лагерь, или даже в другой город. Вот в этом втором случае мне необходима верхняя одежда, которой, как ты знаешь, у меня с собой здесь нет, а так как зима на дворе, то я думаю, своевременно прямо переходить на полушубок, который здесь мне еще и не нужен, но в дороге очень пригодится, также и барашковая шапка, не мешало бы и шерстяные носки. Боюсь, как бы перевод не состоялся так же внезапно, как из Петербурга, и придется ехать без теплых вещей. Если ты считаешь, что предположение мое правдоподобно и вероятно, то пришли мне эти вещи и скорее сообщи о получении этого письма. Целую тебя и всех. Дм. Татищев.
ЧАСТЬ II
БАТАЛЬНЫЕ И ТЮРЕМНЫЕ СЦЕНЫ
Глава 1
РУССКАЯ РУЛЕТКА
Частушка
- Офицер молодой, погон беленький,
- За границу тикай, пока целенький!
— Товарищ командир, красноармеец Николай Ларищев (так была переделана моя фамилия в московском штабе) является по случаю прибытия во вверенный вам полк.
В Москве, через знакомого офицера, я записался в «Главсахар» — воинская часть по охране сахарных заводов — и был направлен в район Харькова. В окрестных лесах шалили банды «зеленых». Это были анархисты, мы должны были по возможности их вылавливать и защищать от них заводы, куда их привлекал не столько сахар, сколько производившийся там также спирт.
К весне наш дом наполнился женщинами, это были семьи начальников, приехавшие подкормиться из голодающей Москвы. Мой батальонный повеселел и начал устраивать пикники с водкой и украинским салом. Однажды вечером наша компания ехала в лодке по разлившейся реке. В это время мы увидели бегущего вдоль берега красноармейца: «Товарищ командир, идите скорей, ребята Пашку прикончили!» Действительно, во втором батальоне вспыхнули беспорядки, комячейка не доглядела и вот, к сожалению, только что убили комбата Пашкова — да, до смерти, сгрудились, окружили и закололи штыками.
Через день Пашкова торжественно хоронили. Красные знамена, оркестр, «Вы жертвою пали», но также и духовенство из местной церкви. А вечером приехала комиссия — дивизионные политруки и с ними случайно оказавшийся в Харькове сам военком Дыбенко.
Это был бывший балтийский матрос, по слухам, жестокий, по виду высокий, спокойный, превращавшийся в интеллигента.
Дыбенко сказал, что хочет поговорить с каждым из нас наедине и пошел в канцелярию. Первым был вызван батальонный, за ним Миша, потом я. Дыбенко стоял спиной к окну и стал задавать, как Суворов, короткие отрывистые вопросы. Я старался отвечать в том же тоне.
— Какие иностранные языки вы знаете?
Я ответил.
— Почему вы решили работать в «Главсахаре», а не в Комиссариате иностранных дел, где могли бы принести больше пользы?
Я промолчал, и он не настаивал.
— Хорошо ли было поставлено в Лицее изучение международного права?
— Неплохо, профессор Пиленко знал свой предмет.
— Какого вы мнения об убитом Пашкове?
— Он был начальник требовательный к себе и другим, но по характеру человек неуживчивый и тяжелый.
— Значит он не годился для должности командира?
— Ему было бы лучше работать где-нибудь при штабе, а не среди солдат, которые его не любили.
— Почему они его не любили?
— Потому что он их не уважал.
— Хорошо. Подумайте о чем мы говорили. Пока можете идти.
Эти намеки Дыбенко, по виду настроенного дружелюбно, заставили меня задуматься. Оказывается, им известна моя биография и то, что я записался в армию не под своей фамилией, что было бы опасно и в менее смутные времена. Затем мне дают совет покинуть военную службу и найти другую работу в центре, то есть возвращаться в опасную Москву. Очевидно, во мне подозревают врага, может быть, шпиона. Сейчас им не до меня, — в эти дни войска Деникина прорвали фронт и шли на Харьков, — но надо ждать, что скоро мной займутся по-настоящему. Последние слова: «пока можете идти» — не есть ли это предупреждение, почти угроза? Но может я преувеличиваю опасность? Несмотря на все, что о нем рассказывают, он все же, как будто, меня предупредил: убегай, пока не поздно.
Я решил спросить совета у батальонного, что мне предпринять: ждать на заводе прихода деникинцев или идти к ним навстречу.