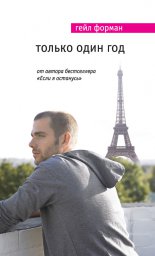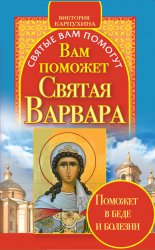Учитель Давыдов Алил
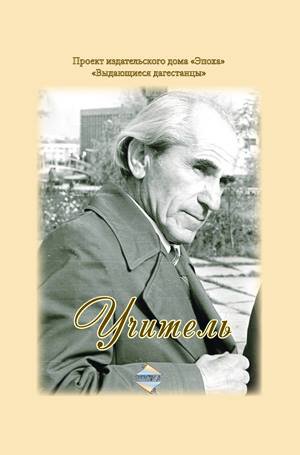
Ему едва не оторвало руку, еще на солеварне, цепью от ворота: никто не заметил, что цепь захлестнула его руку, а ворот вращали два человека, поднимая из скважины узкие, длинные бадьи с рассолом. Он сам был виноват – сунулся поправить цепь…
– Ты теперь женишься на мне?
Нечай покачал головой. Она что, не видит, кто перед ней? Даже если ей трудно предположить, что он беглый колодник, то угадать в нем человека, у которого проблемы с законом, не составляет труда. Добропорядочные обыватели под бой не попадают. И на запястьях у него тоже остались шрамы – особо строптивым колодникам кандалы надевали без матерчатых прокладок, и через несколько дней металл проедал кожу до кровоточащих язв.
Дарена заплакала. Тихо, глотая слезы. А что она хотела? Нечай почувствовал злость и раздражение и снова захотел уйти. Он облился водой, смывая пот и кровь, и, не вытираясь, натянул на себя штаны.
– А что ты, милая, думала? Слухи по Рядку распускала…
– Ты вообще меня не замечал! – обижено выкрикнула она.
– Я никого не замечал.
– Я… я сразу, как тебя увидела, поняла, что хочу только за тебя… Знаешь, сколько парней ко мне сватались?
– И знать не хочу. Наплевать мне, – Нечай злился, и ее слезы его только раздражали.
Она зарыдала громко, подвывая по-бабьи.
– Я никому не скажу, не бойся… – немного смягчившись, сказал он.
– А я скажу! Я тятеньке скажу! Он тебя заставит! После этого – точно заставит!
Нечай хмыкнул: напугала!
– Дура, – вздохнул он, – только ославишь себя на весь Рядок.
– И пусть! Пусть!
– Одевайся. Домой тебя отведу, – Нечай надел рубаху.
– Не пойду! Не хочу! – заорала она во все горло.
– А ну-ка успокойся, – сказал он, – нечего передо мной ваньку валять. Зачем я тебе сдался? Ты что, не видишь, кто я? А?
– А кто ты? – она на секунду успокоилась.
Нечай сплюнул и пошел в предбанник:
– Одевайся, сказал. А то и вправду одна домой пойдешь.
День пятый
Вдоль леса еще лежит снег, а на дороге – глубокая грязь. В лесу за Нечаем остаются мокрые, стойкие следы, и он выходит на дорогу. Он нарочно выбрал это время, когда лошадям трудно его догонять. Надо только успеть дойти до деревни, и там можно спрятаться. Дикий край, где от деревни до деревни – сутки хода.
Он не сразу слышит топот коней, а когда слышит – бежит вперед. Это бесполезно, но он все равно бежит. Он не хочет верить, что все кончилось, он отказывается это понимать. Он бежит тяжело и медленно, разбрызгивая грязь по сторонам, обливая ею серый пористый снег. Это его второй побег, и ему ничего больше не остается – только бежать.
Они ловят его сетью, потому что Нечай кидается на обнаженные клинки. Теперь он знает, что его ждет, и лучше умереть сразу, здесь, почти на свободе. Но умереть ему не дают. Сеть стягивает лодыжки, и Нечай валится в ледяную грязь. Он хочет утонуть, он втягивает в себя холодную жижу, но инстинкт жизни оказывается сильней – Нечай кашляет и продолжает дышать. Он катится под ноги лошади, подставляя голову, но милосердное животное останавливается – оно не хочет убивать человека.
Его везут назад, перекинув через седло – он не может шевелиться. Он еще на что-то надеется, но дорога назад занимает одно короткое мгновение. И за это мгновение истерика прекращается, и на смену ей приходит ватный, вяжущий страх. И много часов этого страха тоже оборачиваются коротким мгновением, когда его, прикованного к стене с раскинутыми руками, освобождают и ведут за цепи на обеих руках к приехавшему из монастыря благочинному. Впрочем, и без благочинного все ясно: за побег полагается нещадное битье кнутом, и ни за какие мольбы и увещевания, ни за какие обещания и слезы, благочинный его не отменит. Поэтому Нечай молчит и качает головой, когда ему предлагают исповедаться. Для благочинного Нечай – дикий зверь, который требует усмирения. Он и есть дикий зверь: полусумасшедший, измученный, отчаянный, придушенный страхом за свою шкуру.
Ему едва хватает сил сохранить лицо, когда на глазах остальных колодников его подводят к врытой в землю скамье. И если бы палач был милосерден, то мог бы убить его одним ударом. Но он этого не сделает. Он оставит Нечая в живых. Палач его даже не покалечит, чтобы через месяц-другой Нечай снова мог спускаться в шахту, или крутить жернова, крошащие руду. Умирают слабые. Нечай – молодой и сильный.
Он не сопротивляется, он смотрит на лица колодников – они опускают глаза. Страх трепещет внутри, страх требует что-нибудь сделать, страх хочет прекратить это любой ценой. И когда лицо плотно прижимается к дереву, зажатое руками с обеих сторон, страх льется на занозистые доски отчаянными слезами – их никто не увидит. Разве что дрожащие плечи выдают Нечая – но ему теперь все равно.
Он проснулся от страха и от слез. Ему всегда снился именно тот, последний, третий раз. Главное – вовремя проснуться: до того, как кнут полоснет по спине, клочьями срывая кожу вместе с мясом, до задушенного досками крика и до бесконечного ожидания следующего удара – ожидания, наполненного ужасом, от которого сходят с ума.
Горячая печь и мягкая овчина… Никаких досок. Не стоило спать лежа на животе, ему всегда снился этот сон, когда он засыпал лежа на животе. Впрочем, на какой бы бок Нечай не повернулся, от снов ничего хорошего ждать не приходилось. Не этот кошмар, так другой. Ему всегда снилось прошлое, в таких подробностях, которых наяву он и припомнить не мог. Например, он успел забыть, что кидался под копыта лошади. Грязь, которую вдыхал – помнил, а лошадь – нет. И собственный страх наяву вспоминался совсем не так остро. Помнил, что боялся, но что настолько… А ведь действительно, так и было. И дрожал так, что колени и локти по скамейке стучали, и слезы лил.
Нечай повернулся набок – едва ли он проспал больше двух часов. Голова, слегка подлеченная Мишатой, снова раскалывалась. Зачем же он вчера столько выпил? Он вспомнил, зачем, и сон сняло как рукой. В дьяконы рукоположить! Нечаю очень хотелось сказать самому себе, что он ни за что на это не согласится, но на самом деле он отлично понимал: из двух зол – монастырская тюрьма или служба дьяконом – надо выбирать службу и не ерепениться. Он снова почувствовал отвращение к себе. Усмирили… Пяти лет хватило, и двадцати не понадобилось…
Утром Полева бегала на рынок, вроде как за рыбой, на самом же деле – послушать, о чем толкуют в Рядке и самой рассказать, что видела и слышала. Нечай притворялся спящим, когда она вернулась, захлебываясь новостями. Рыбы она не принесла.
– Ты знаешь, за что твой братец получил десять рублей? – начала она прямо с порога, – он Туче Ярославичу помогал ловить оборотня! Шестерых человек оборотень на клочки разорвал, одного с лошади стащил. А наш-то пешим шел!
Мишата перестал стучать топором.
– Ой, батюшки! – мама, месившая тесто, бросила кадушку и села на лавку, – да как же это…
– А вот так. А оборотня так и не поймали.
– Ой, сыночка мой… Да что ж он думал-то себе? Да зачем нам эти деньги! Это все ты, стерва! – мама поднялась, и, уперев руки в боки, пошла на Полеву, – ты ему глаза деньгами колешь, куском хлеба попрекаешь!
– Я, мама, о детях своих думаю, о внуках ваших! – Полева тоже уперла руки в бока.
– Конечно, где уж тебе о ком-то еще думать. Ладно бы голодали, а ведь все, слава богу, сыты и одеты. Неужели не видишь – мальчик настрадался! Да погляди, он же мерзнет все время, как будто до сих пор отогреться не может!
– Мальчик, тоже мне! Мужик здоровый! В трактире сидеть он не мерзнет, небось! Только как Мише помочь нужно он мерзнет!
– Да он… да он… – мама расплакалась, – да зачем нам эти десять рублей, если за них… Ой, мое дитятко! Да знала бы я… Да я б Туче Ярославичу…
– Да что б вы Туче Ярославичу?
Мама завыла и закрыла лицо руками. Нет, Полева на самом деле стерва. Ну зачем доводить свекровь? Нечай не мог слышать, как мама плачет, и потихоньку сполз с печки: в затылке заломило нестерпимо, стоило только подняться.
– Мам, ну что ты… – он доковылял до лавки, и обнял ее за плечи, – ничего же со мной не случилось…
Мама только сильней заплакала.
– Да будет вам… – проворчала Полева виновато, – и правда, ничего же не случилось.
– А как же… он же на службу звал… Не надо нам такой службы… в ноги ему упаду, в дворовые к нему пойду…
– Мам, ну не плачь… – Нечай беспомощно вздохнул, – не надо в дворовые к нему. Я сам с ним разберусь, правда.
– Да как же ты с ним разберешься? – мама прижалась к его груди, – Как? Ты понимаешь, кто такой Туча Ярославич? На его земле живем, того и гляди, холопами нас сделает…
– Мам, не надо, – подошел к ним Мишата, – не каждый же день Туча Ярославич оборотней будет ловить. Служба – она служба и есть. Да не убивайся ты так!
– Шестерых человек загубил почем зря, и дитятко мое тоже загубить хочет…
– Не шестерых, четверых только… – сказал Нечай, но маме было все равно.
– А ты тоже, – Мишата повернулся к Нечаю, – чем думал-то, когда соглашался?
Нечай оправдываться не стал. Мишата – как ребенок. От службы, значит, отказываться нельзя, а от остального – можно?
– Ты думаешь, я б без этого золота тебя на улицу выгнал? Дурак ты, братишка! – Мишата сплюнул.
Мама плакала долго, и Нечай не находил себе места. Черт дернул Полеву орать об этом на весь дом! Мама достала ему из печки горячей каши с маслом, и пока он ел, гладила его по голове, роняя ему на макушку слезы. Никакая каша в горло не лезла! И даже Мишата не стал ворчать про масло, хотя была пятница.
А стоило маме успокоиться, как Мишата ушел во двор, пилить новые колобашки, и на Нечая насели старшие племянники. Если мужиков в трактире Нечай с легкостью посылал куда подальше, то ответить грубостью прямо в восторженные детские глаза не смог. Если бы он знал, что история, рассказанная детям, через три дня обойдет весь Рядок, то не стал бы давать воли своей фантазии… Но сказка получилась замечательной: никто не заметил, как в дом вернулся Мишата, и как Полева навострила уши, просунув нос в дверь из хлева. Конные «гости» Тучи Ярославича бились с оборотнем не на жизнь, а насмерть, егеря с факелами гнали его к усадьбе. С клыков зверя капала кровь, сверкали глаза, он превращался в человека и прятался среди дворовых, а потом неожиданно вновь оборачивался волком, вызывая вскрики замерших от восторга мальчишек. Нечай и сам не заметил, что желает оборотню выйти из этой охоты победителем, и понял это, только когда племянник заорал во все горло:
– Ну! Беги же! Беги! Они же тебя убьют!
И оборотень убежал…
Туча Ярославич приехал сам, как и обещал, незадолго до обеда. Выглядел он усталым, слегка потрепанным, словно давно не спал. Но спину держал ровно, и опять прибыл верхом, только на этот раз один, без сопровождающих.
Мишата, услышав стук в высокое окно, выбежал навстречу – придержать коня. Нечай в это время лежал на печи и радовался, что больная голова полностью оправдывает его нежелание оттуда слезать.
Туча Ярославич зашел в дом, сняв шапку, скорей, чтоб не зацепить ею за притолоку, и осмотрелся. Впрочем, смотрел он без презрения, скорей – с интересом. Оценив обстановку, он по-хозяйски подошел к столу и сел на лавку, швырнув шапку перед собой.
Нечай потихоньку слезал с печи, а мама и Полева обеими руками пригибали вниз головы детей, потому что те от любопытства забыли, что боярину следует кланяться.
– А ну-ка подите все прочь отсюда, – сказал Туча Ярославич, – мне с вашим Нечаем надо один на один поговорить.
Мама побледнела, и Нечай испугался, что она сейчас станет падать боярину в ноги и проситься в дворовые. Но Мишата помог ей одеться и под руку вывел на крыльцо. Ребятишки с радостью бросили работу, девочки степенно вышли на двор вслед за матерью: в доме осталась только Груша у люльки и малые на печи.
– А эта? – подозрительно спросил Туча.
– Она глухонемая, – Нечай сел напротив, почесывая ноющий затылок.
– Смотри. Слышал, что было-то? Трое моих лучших егерей! И этот еще… племянник… троюродный. С лошади ведь его стащили. Остальные в усадьбе сидят, на двор выйти боятся. И никто ничего не помнит, трясутся только. Ты-то видел что-нибудь?
Нечай покачал головой.
– Сбежал? – усмехнулся Туча.
– Мертвым прикинулся. Лежал и не видел ничего. Слышал, как кричали.
– И больше ничего не слышал?
– Нет.
– Ладно. Живи. Повезло тебе, прям, как в сказке, – Туча Ярославич посмотрел на Нечая с подозрением, – будто помогал тебе кто-то…
– Никто мне не помогал, – быстро ответил Нечай.
– Ладно! Знаю я, кто в таких случаях помогает, – боярин махнул рукой, – а за смелость – спасибо. Люблю я таких. Не трясешься, я смотрю! Мои-то други и говорить толком еще не могут. Видели только пятно светлое, а что это за зверь был – не разглядели.
– Темно было… – Нечай пожал плечами, – да и испугаться не мудрено…
Туча нагнулся к Нечаю через стол и тихо сказал, оглядываясь на дверь:
– Одному егерю оборотень все мясо до костей обглодал, хоронить нечего. Остальным так, глотки порвал. Двух коней до сих пор найти не можем – неслись до самого болота, там, небось, и сгинули. И как тебе удалось в живых остаться?
– Не знаю. Повезло, – ответил Нечай.
– Хитрый ты, – серьезно сказал боярин, – ну да ладно. Захочешь – сам расскажешь. А не захочешь – и без тебя дознаюсь. Передал тебе староста, что служба у меня есть для тебя?
– Передал, – Нечай кивнул.
– Нравится? – боярин довольно прищурился.
– Нет, – Нечай напрягся и опустил голову.
Лицо Тучи Ярославича почти не изменилось, лишь прищур его превратился в настороженно суженные глаза.
– А что так? Не в дворовые зову – в помощники.
– Не хочу, – Нечай скрипнул зубами.
– Может, ты бога не любишь? – засмеялся Туча Ярославич.
Лучше бы он этого не говорил. Засаленные доски качнулись перед глазами, и образ в красном углу, освещенный лампадкой, насмешливо глянул на Нечая. «Если любишь бога, должен его уважать!» Щеки его загорелись, как от оплеухи, и от бессилия захотелось расплакаться. Что стоят клятвы десятилетнего ребенка? Парамоха не забивал его в колодки и не хлестал кнутом, не заставлял работать по восемнадцать часов в сутки, не гноил в яме и не морил голодом. Парамоха не гнал его босым на мороз, не спускал в шахту, не обваривал кипятком. Но те, кто его «усмирял» делали это именем бога, с его ведома и с его помощью. Ненависть и звериный страх… Нечай вскинул голову.
– Что я думаю о боге, я уже говорил… – тихо сказал он.
Туча Ярославич снова расхохотался.
– Ничего! Полюбишь! – он оборвал смех и сделался серьезным, – нечего ломаться. Нашелся тут! Скоро в город поеду, выправлю все бумаги, так Афонька сам тебя в дьяконы произведет, без волокиты. Ты руки мне целовать должен, а не кочевряжиться! В город, небось, боишься ехать?
Нечай скрипнул зубами.
– И смотри мне! Не хочет он! Захочешь – так поздно будет. И доискиваться не надо, что ты за птица, только за речи богохульные на архиерейский суд отправлю, так тюрьма тебе раем покажется! Понял?
Нечай прикусил губу.
– Вот то-то. И в церковь ходи, а то что это за дьякон у меня будет? Бога хулит, в церковь не ходит. В воскресенье чтоб был к исповеди! Сам проверю!
Нечай прикусил губу еще крепче и почувствовал под зубами кровь.
– Все понял? И рожу мне не криви! Из города приеду – позову, – Туча Ярославич поднялся и подтянул к себе шапку, – и на помощника своего не надейся – он мне теперь помогать будет!
Про помощника Нечай ничего не понял, да и не обратил на эти слова особого внимания: не до того ему было. Боярин широким шагом вышел вон и хлопнул дверью, а Нечай от злости так сильно ударил кулаком по столу, что надломилась дубовая доска. Руку рвануло тупой, разливающейся болью, но это нисколько не помогло. Нечай хотел шарахнуть по столу головой, но к нему подбежала Груша и обхватила сзади за пояс, прижимаясь щекой к спине: Нечай вздохнул и глухо, утробно застонал.
Родичи во дворе провожали Тучу Ярославича, и видеть их не хотелось. Нечай думал забиться на печь, пока они не вошли в дом, но решил, что его достанут и там, поэтому быстро оделся и потихоньку вышел во двор через хлев. Груша догнала его за сеновалом, где он ждал, когда, наконец, все успокоится.
Пить горькую Нечай больше не мог – с души воротило.
– Пойдем, что ли, леденчиков погрызем, – сказал он девочке.
Она кивнула головой, словно поняла. Туча Ярославич успел сказать Мишате, что сделает Нечая дьяконом, и тот долго кланялся боярину, благодарил – разве что сапог не поцеловал, когда держал благодетелю стремя. Мама обрадовалась и, вроде, успокоилась…
– Вот видишь, малышка… – с горечью пожаловался Нечай, – все довольны, все радуются… И никому не объяснишь.
Он вывел Грушу со двора, когда смолк тяжелый топот копыт по обледеневшей грязи – на улице подморозило, а снег все не шел и не шел.
– Он ведь и согласия моего не спрашивал, – говорил Нечай глухой девочке, – без меня меня женили… А даже если бы и спросил? Что бы я ему ответил? Как ты думаешь?
Груша засопела и потерлась об его бок.
– Вот и я не знаю. Знаешь, в монастыре, конечно, плохо было. На руднике особенно. Но я там говорил, что хотел. Хуже бы все равно не сделали… Разве что язык бы вырвали. У нас одному вырвали. Клещами. Раскольник он был, антихристами монахов звал, речи говорил. Дурак, конечно – какая разница, двумя или тремя перстами креститься? По мне так – никакой. Посолонь ходить или противосолонь? Мучеником за веру хотел стать, вот и стал. Умер он потом, в шахте его завалило. А другой раскольник, на солеварне еще, ему язык только подрезали. Он как начнет говорить – серьезно так, с пафосом – все смехом заливаются. Жаль его, конечно… он переживал, плакал даже…
У Нечая мурашки пробежали по плечам. Он часто рассказывал Груше о прошлом, он никому и никогда не рассказывал столько о себе, сколько ей. Раскольник с подрезанным языком раньше был протоиереем, служил в каком-то большом городе, в соборе, и слыл хорошим проповедником. Его потом забрали с солеварни и отправили куда-то на север, в монастырь на острове, где колодников годами держали в каменных мешках.
На рынке все говорили только о ночной охоте на оборотня – Нечай постарался пройти к лотку со сластями незамеченным, но ему это не удалось.
– Нечай! Ты чего в трактире вчера не был?
– Нечай, а правда, что Туча Ярославич с оборотнем голыми руками дрался?
– Нечай, постой, расскажи! Правда, одного егеря оборотень целиком сожрал? Или врут все?
Нечай отвечал им односложно и торопился. Но и баба, продававшая леденцы, не удержалась от вопроса:
– Давно тебя не видала. Или мои пряники разлюбил? Говорят, ты на оборотня охотился?
– Насыпь мне леденчиков на алтын, – Нечай не стал обращать на вопросы внимания и протянул ей тряпицу, в которую собирался положить сласти.
– Так какой он, оборотень? Большущий?
– С теленка, – Нечай сжал губы.
– Ой, лишенько! – баба присела, – а зубы? Говорят, у него зубы как ножи?
– Как сабли, – хмыкнул Нечай, – из пасти торчат и в землю упираются. Поэтому и след его всегда от волчьего отличить можно – две борозды пропахивает. Леденчиков насыпь.
– Да врешь ты! – баба захихикала и махнула на него тряпицей.
– Да зачем мне врать-то? Точно говорю, как есть.
Баба махнула на него тряпицей еще раз и начала сыпать на нее сухие, мелкие леденцы.
– Добавь немножко, маловато на алтын-то!
– Петушков бы взял, они дешевле.
– Вот и добавь пару петушков, не жадничай!
– Ладно, бери уж! Охотник! – баба протянула ему и Груше по петушку на палочке, – себе в убыток отдаю!
– Отдашь ты что-то в убыток, жди! – Нечай завязал леденцы в узелок, сунув петушка в рот.
– Завтра приходи – пряники мятные будут, свежие. Мой сегодня тесто поставил.
Нечай кивнул, сунул узелок в карман, и хотел уйти, но баба спросила вдогонку:
– А с Дареной-то у тебя серьезно?
Нечая перекосило – про Дарену он успел забыть. Вот еще напасть, мало ему своих неприятностей!
– Нет, нету у меня ничего с Дареной, так всем и расскажи. Надоели!
– Ой, скромный какой! – засмеялась баба, – смутился-то!
Нечай развернулся и потащил Грушу прочь. Его остановили еще раза три-четыре, но теперь в ответ на расспросы он только огрызался.
Потом они с Грушей забрались в овин неподалеку от водяной мельницы, и долго сидели на соломе, посасывая леденцы. Нечай жаловался ей на судьбу, и сделал несколько соломенных кукол, которых девочка рассаживала в кружок, разговаривала с ними по-своему, не сомневаясь, что куклы ее понимают: ей не надо было мычать и отчаянно жестикулировать, она просто шевелила губами.
– Что-то я замерз, – наконец, сказал Нечай, вполне успокоенный неторопливой беседой, – и пить хочется. Пойдем домой, а?
Груша кивнула и начала собирать кукол – они заняли обе ее руки, как охапка поленьев. Ну как она узнала, что он сказал? Нечай забрал у нее половину новых игрушек и помог слезть с настила вниз. Но стоило им выйти к реке, как Груша схватила его за руку и потянула к брошенной бане. Баня напомнила ему о Дарене, и идти туда вовсе не хотелось.
– Да чего мы там забыли, а? – посмотрел он на девочку просительно, но она помотала головой, уперлась ножкой в землю и попыталась сдвинуть его с места.
Нечай улыбнулся и пошел.
В бане было сыро, холодно и сумрачно, несмотря на ясный день и низкое, холодное солнце, заглядывающее в окно. Груша вывалила кукол у порога парной, и попыталась отодвинуть пустой бочонок от стенки. Нечай, не очень понимая, что она делает, помог ей в этом непростом деле, после чего она начала командовать им вовсю, показывая пальчиком, куда и что надо передвинуть. Он решил, что Груша собирается гадать, как третьего дня это делали девушки: перевернутый бочонок оказался посередине, а вокруг него встали скамейки. Но девочка подобрала брошенных кукол и долго рассаживала их как будто за столом. Куклы сидеть не хотели, и она прислоняла их лицами к бочонку.
– Обедать, что ли, будут? – спросил Нечай, а Груша выпросила у него оставшихся леденцов и разложила их перед куклами. А потом показала, как ложкой едят кашу.
– Ну я же говорю – обедать. Здорово. Пошли домой, а?
Она помотала головой и недовольно топнула ножкой, вытащила его за руку на крыльцо и показала пальцем на лес. Потом изобразила зверя, потом, двумя пальцами, идущего человека, вернулась в баню и снова показала, как едят кашу. Даже села на лавку, откинулась и погладила пузо.
– Зверь придет, съест наши леденчики и больше есть не захочет? – Нечай рассмеялся, – что-то я сомневаюсь. Маловато будет!
Груша собрала кукол в охапку, но леденцы трогать не стала, и когда Нечай хотел собрать их обратно в узелок, перехватила его руку и помотала головой.
– Ладно. Покормим зверюшек. Только сдается мне, они этим не питаются.
Леденцов Нечай жалел, но Груша так настаивала… Для нее ведь было важно, что он понял ее, гораздо важней всего остального. В конце концов, сластей можно купить еще.
– Ну, братишка, повезло тебе! – встретил его Мишата, – ты хоть спасибо Туче Ярославичу сказал?
– Ага, – сквозь зубы прошипел Нечай.
– Сынок, – мама сияла, – радость-то какая! Разве не об этом отец-то мечтал? Может, дьяконом побудешь, боярин тебя и батюшкой сделает? Отец Афанасий не молодой уже, да и не вечный…
Нечаю не хватило сил сказать ей, что никаким дьяконом он становиться не желает и радости в этом не находит. Он собрался заняться поручением старосты, тем более что тот давно прислал ему бумаги и чернил. Груша тем временем раздавала соломенных кукол сестрам. Старшая, Надея, не очень-то обрадовалась, зато малые пришли в восторг, рассадив кукол на печке. Досталась кукла и малому Кольке, но он быстро распотрошил ей голову и разобрал остальное на соломинки.
Одну куклу Груша собиралась положить в люльку к младенцу, но Полева раскричалась на весь дом:
– Куда? Такую грязь! Убери это немедленно!
Груша не слышала ее, и Полеве пришлось отобрать куклу насильно. Девочка расплакалась, и Нечай ее утешал, объясняя, что солома действительно не очень чистая, а малыш потянет ее в рот. В конце концов, она смирилась, и посадила куклу рядом с колыбелью.
Добыча перьев оказалась делом более сложным, чем Нечай мог себе представить. Как-то сложилось, что с домашней птицей он сталкивался редко, и четыре гуся, сидящие за загородкой в подклете, вовсе не собирались делиться с ним перьями. Они устроили настоящий переполох – норовили ущипнуть и громко орали, так что из дома на шум прибежала мама. Нечай к тому времени ухватил одного из них за длинную шею; жирный гусак махал крыльями, толкался неуклюжими красно-желтыми лапами, и Нечаю оставалось только отодвигать лицо, прикрывая его второй рукой.
– Ну что ты делаешь! – мама всплеснула руками, – ты же его задушишь!
– Мам, сделай с ним что-нибудь! Эта тварь щиплется!
– Что тебе надо от него, а?
– Перьев!
– Ах ты, Господи! Да вон же их сколько на полу валяется!
– Это короткие, мне надо подлинней.
– Отпусти птицу и уйди прочь отсюда, я сама принесу, когда они успокоятся.
– Ага, отпустишь его – он меня вообще заклюет, – Нечай расхохотался.
И как у мамы получилось через пять минут достать три замечательных пера? Не иначе, она знала, с какой стороны надо подходить к гусям. Нечай долго похохатывал, натачивая перья. В следующий раз снова придется просить маму, сам он ни за что не согласится сунуться к злобным птахам.
Как он не старался делать вид, что ничего не происходит, вся семья собралась смотреть, как он будет писать – для них зрелище было диковинное, особенно для детей.
– А ты все что угодно можешь написать? – спросил старший племянник, Гришка, который влез на скамейку коленками и придвинул голову к самой чернильнице.
– Конечно, – улыбнулся Нечай.
– А напиши, что Ивашка Косой – дурак!
Нечай едва не рассмеялся.
– Вот еще! Бумаги жалко. Я бы на заборе написал, но ведь прочитать все равно никто не сможет.
– А на что бумаги не жалко?
– На дело не жалко.
– А какое у тебя дело? – второй племянник, Митяй, последовал примеру старшего брата.
– Молодой еще в мои дела нос совать, – отмахнулся Нечай и шлепнул его пером по носу.
– А я? – спросил Гришка.
– И ты тоже.
– А если что-то написать, как другие поймут, что написано? – тихо, почти шепотом, спросила Надея.
– Кто умеет читать, тот поймет, – ответил Нечай.
– И мое имя можно написать?
– Можно, – вздохнул Нечай – бумага стоила по полушке за лист.
– Напиши, ну пожалуйста, – девочка робко вздохнула и глаза ее вспыхнули от восторга.
– Как тебя написать, Надея или Надежда?
– Нет уж, ты пиши «Надежда»! – вмешалась Полева и тоже подошла поближе, – пусть по-христиански будет, все по правилам.
Нечай отложил начатую страницу и написал на чистом листе и то, и другое. Надея захлопала в ладоши от радости.
– А меня? – тут же обижено спросила Митяй.
– И тебя, – успокоил его добрый дядька.
– И меня тоже, и меня! – закричал Гришка.
Нечай написал всех, и малых на всякий случай тоже, и полууставом, и красивой вязью. Он усадил Грушу на колени, и долго объяснял, что надпись на листе бумаги – это ее имя. Но больше всех удивлялись и радовались Полева с Мишатой. Как дети! Водили пальцами по строчке и переспрашивали:
– Вот это Аполлинария? А первая буква какая? А это? Михаил?
– Слушай, так ты и на моих бочках можешь написать, что это я сделал? – у Мишаты загорелись глаза.
– Могу, могу, – усмехнулся Нечай.
– А не сотрется?
– Выжечь нужно, – Нечай пожал плечами, – а лучше клеймо кузнецу заказать.
– А можно я тоже писать попробую? – перебил отца Гришка.
– Только если бабушка еще перьев принесет, – ответил Нечай, и тот тут же сорвался с места с криком:
– Бабушка! Бабушка, надо перьев еще!
Четверо племянников, включая Грушу, до позднего вечера рисовали на бумаге свои имена корявыми буквами, ломали перья и капали чернилами на стол.
– Не жми! – щелкал старшего по лбу Нечай, – сила тут без надобности. Бабушка за перьями больше не пойдет.
– Не жми! – хором повторяли за Нечаем Митяй с Надеей.