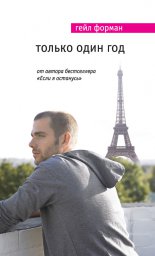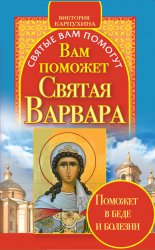Учитель Давыдов Алил
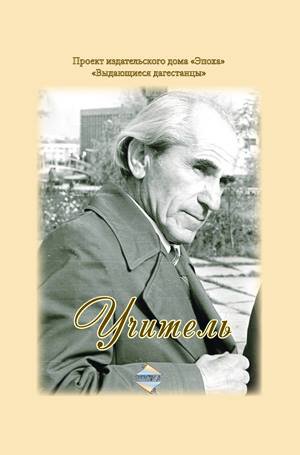
– Я не жму! – возмущался тот, – оно само!
– Само! Как же! – фыркал Нечай, глядя на расплющенное перо, которое снова надо было чинить ножиком.
Мишата не возражал против сожженных свечей, глядя на своих отпрысков, а когда те, наконец, улеглись спать, позвал Нечая на крыльцо, поговорить.
– Мне тут одна идея в голову пришла… – почесав в затылке, начал брат, – Я не знаю, конечно…
– Да говори, чего ты мнешься? – Нечай накинул полушубок.
– А писать кто угодно может научиться? – Мишата сунул ноги в сапоги.
– Кто угодно, – подтвердил Нечай.
– Слушай… Может, научишь моих пацанов, а? – голос его был просителен и робок, – Нет, если не хочешь – не надо, конечно…
– Да научу, чего мне стоит, – хмыкнул Нечай – в этом он не видел ничего сложного, это не в лес ездить, деревья валить.
– Правда? – брат обрадовался, как ребенок, – ведь грамотный человек всегда с куском хлеба будет, ведь так? И вообще, скажу кому – ведь не поверят!
Они сели на ступени крыльца.
– Я и бумаги куплю, и чернил, – оживленно продолжал Мишата.
– Чернил я сам сварю, подождать только надо, дня три-четыре. Книжку бы какую достать…
– Достану. Ямщикам закажу – из города привезут. Нечай, ведь это… Мои дети – и грамотными будут, а? – Мишата снова просиял.
Нечай вспомнил, как радовался отец, когда вез его в школу. Ведь тоже, наверное, гордился, что его сын будет грамотным… Вот и толку от этой грамотности!
– Да я и тебя могу научить, если хочешь, – Нечай улыбнулся.
– Не, куда мне – поздно уже. Да и дел много. Сейчас ночи долгие, ребятишкам – самое время.
День шестой
Соль ест язвы на запястьях и кровавые мозоли, протертые рукоятью ворота чуть ли не до костей. Это неправда, что раны от соли заживают быстрей, они просто не гноятся. Рукоять ворота мелькает перед глазами: вверх-вниз, к себе – от себя. От нее кружится голова, и Нечаю кажется, что не он крутит ворот, а ворот движется под его руками, надо только держаться за него покрепче, чтоб не упасть. Спину сводит от напряжения, будто кто-то тянет из нее жилы: медленно и упорно.
– Чего повис? – орет ему напарник, – крути давай, я не ломовая лошадь!
Напарник его, Феофан, тоже не силен – прелюбодей-расстрига, молоденький монах, который сбежал из монастыря с бабой-монахиней. Но он крутит ворот не меньше года, а Нечай – третий день.
Нечай хлопает глазами, надеясь разогнать головокружение, но рукоять ворота уходит вперед, ноги подгибаются, Нечай цепляется за нее, не успевает отодвинуться назад и получает рукоятью по зубам, снизу. Напарник останавливает ворот и ждет, пока он встанет на ноги. Из прокушенного языка течет кровь и Нечай отплевывается.
– Сейчас эту достанем, встанешь сюда, – говорит ему Алёшка – матерый мужик, разбойник – он едва поменялся местами с Феофаном.
– Да ладно, – Нечай хлюпает носом, – не надо.
Крутить ворот гораздо тяжелей, чем наклонять поднятую из скважины бадью и выливать рассол в желоб. Но и соленая вода при этом не льется в рукава, не мочит онучи, не плещет на грудь. А еще крутить ворот теплей, только очень больно мокрым рукам. Если бы от этого не кружилась голова!
Бадья ползет вверх медленно; гладкая, отшлифованная ладонями рукоять ворота снова мелькает перед глазами: вверх-вниз, к себе – от себя. И из этого сна нет выхода, он бесконечен. Тяжелый ворот и соль, которая ест язвы на запястьях и мозоли на руках. От этого сна можно сойти с ума: изо дня в день, из месяца в месяц бадья ползет вверх. Армяк покрывается льдом, коченеют мокрые ноги, и синие пальцы невозможно разогнуть. Кровь пачкает рукоять, и та трет ладони еще сильней. От усталости ломит кости. Вверх-вниз, к себе – от себя…
Нечай подтянул колени к животу – ему чудилось, что он спит в едва протопленной клети при солеварне, и во сне видит все ту же рукоять ворота, что и наяву. Пять часов сна не снимали усталости, и почти не согревали. Подмокший и замерзший хлеб не утолял голода, а колодезная вода имела солоноватый привкус. Нечай думал, что тело его тает с каждым днем, и, в конце концов, растает совсем, но к весне у него на плечах лопнул армяк. Мозоли зажили через месяц – пришлось оторвать от рубахи подол и обматывать руки тряпками. Зато потом ладони загрубели и стали крепче пяток.
На солеварне Нечай едва не сошел с ума. На руднике было хуже, гораздо хуже, но там часы и дни немного отличались друг от друга.
Мама, вставшая доить корову, накрыла его тулупом, сползшим на пол, и подоткнула его со всех сторон, погладив Нечая по голове.
– Спасибо, – шепнул он ей – счастье затрепыхалось в груди и поднялось к горлу болезненным комком.
– Спи, сыночка, спи, мой родненький. Бедный мой мальчик…
Нечай подумал, что с Тучей Ярославичем придется согласиться. Хотя бы ради мамы.
Он проснулся к завтраку и с наслаждением вдохнул запах дома – овчины, теплого хлеба, кислой капусты и парного молока.
Он слез с печи и вышел на двор, собираясь как можно скорей вернуться в дом и снова залезть на печь, но ему навстречу вышла Груша – одетая, в лапоточках, с платком, завязанным поверх ее собственного, маленького полушубка. Словно собиралась далеко идти.
– Привет, – Нечай подмигнул ей.
Девочка взяла его за руку, и начала жестикулировать, показывая то в сторону рынка, то на Нечая. Она силилась что-то сказать, и изображала губами непонятные слова, но была столь убедительна, что Нечай решил – надо ее послушать.
– Ты хочешь, чтобы мы пошли на рынок? – он пальцами показал, как они идут по улице.
Она обрадовалась, закивала, заулыбалась.
– Погоди, я оденусь, – он погладил ее по голове, – да и позавтракать не мешало бы.
Но завтракать Нечай не стал, пообещав маме, что скоро вернется.
Однако выяснилось, что Груша собиралась совсем не на рынок – когда они добрались до поворота с дороги, она потянула Нечая дальше, к реке, а потом – к брошенной бане.
– Хочешь наши леденчики забрать? – улыбнулся он, – ну, пойдем.
Но леденчики пропали. В бане со вчерашнего дня ничего не изменилось: перевернутый бочонок стоял на прежнем месте, в центре парной, вокруг него – скамейки. Словно никто сюда и не заходил. Только леденцов на бочонке не было. Груша улыбалась, показывала на бочонок, гладила живот и изображала зверя. Нечай не стал ее разубеждать – пусть думает, что леденцы съели кровожадные твари из леса. Сам он ничего не думал об этом – баня не запиралась, кто угодно мог прийти сюда и забрать сласти. Нечай даже поискал следы, но в полумраке ничего не разобрал. Только на пороге – или ему это показалось? – остался четкий след маленькой босой ноги. Он не стал его разглядывать, чтоб не разочаровывать Грушу – пусть думает, что из леса за леденцами приходили звери, а не мальчишки из Рядка.
На обратном пути им встретился Афонька. Нечай собирался пройти мимо и весело помахал попу рукой, сказав при этом:
– Здрасте, батюшка!
И даже поклонился с довольной улыбкой.
Но пройти мимо не удалось – Афонька остановился и поманил его пальцем.
– Говорят, Туча Ярославич тебя в диаконы хочет рукоположить? – вполне добродушно спросил поп.
– Может и хочет, я не знаю, – Нечай скривился.
– Вот и хорошо, – кивнул Афонька, – мне давно помощник нужен. А то все один да один. В служках бабка старая, еле шевелится: полы моет грязно, в углах пылища, воск для своей пасеки ворует – за новыми свечами в город езжу.
– Ага, – кивнул Нечай, – так может, служку помоложе завести?
– Все службы на мне, от начала до конца. В воскресенье продохнуть некогда, с утра до ночи кручусь, как белка в колесе. Добрые люди в воскресенье вот отдыхают, а я без отдыха остаюсь.
– Ничего, батюшка, зато добрые люди все остальные дни работают, – усмехнулся Нечай.
– А я, думаешь, на печи лежу? То крестины, то отпевание, то свадьбы как зарядят! А исповедовать среди ночи? А соборовать? На четыреста дворов – я один. Тяжело мне без помощника.
– С помощником делиться надо, батюшка! – посмеялся Нечай, – а ты еле концы с концами сводишь!
– Так тебе же Туча Ярославич деньги платить обещается, за службы в его часовне, так что тебе от моих копеечек ничего и не нужно будет!
– Знаешь, батюшка, что в народе про это говорят?
– Что?
Нечай нагнулся пониже, к самому уху Афоньки, и ответил:
– Простота – хуже воровства.
Афонька фыркнул и отодвинулся на шаг:
– Злой ты. Это потому что на проповеди мои не ходишь.
– Да что ж ты такого на проповеди можешь рассказать, чего я не знаю, а?
– Много чего, – уклончиво ответил поп и гордо задрал подбородок.
– Ладно, батюшка. Пойду я, – вздохнул Нечай, – счастливо тебе найти помощника.
Он повернулся и потянул Грушу за руку.
– Эй! – крикнул Афонька ему в спину, – Ты что думаешь, Туча Ярославич тебя дьяконом сделает и все? Кроме Тучи Ярославича еще благочинный есть, а над ним архиерей!
– Да я и к Туче Ярославичу в дьяконы не пойду, а к тебе в помощники – и подавно! – рассмеялся Нечай, оглянувшись. И нос к носу столкнулся с Мишатой, который вышел из-за поворота ему навстречу.
– Как это ты в дьяконы не пойдешь? – Мишата оторопел.
– А так: не пойду и все, – со злостью ответил Нечай.
– Да ты с ума сошел? – брат посмотрел на него растеряно.
– Да, я сошел с ума! – рявкнул Нечай, дернул Грушу за руку и направился к дому.
Но Мишата догнал его и развернул за плечо к себе лицом.
– А ну-ка стой! – лицо Мишаты было сердитым.
Честное слово, если бы Нечай не держал девочку за руку, то мог бы с разворота дать брату в зубы – его разозлил разговор с Афонькой, он совершенно не хотел никому ничего объяснять. И не любил, когда его трогают.
– Ты что говоришь, а? Как это ты не пойдешь?
– Не хочу, – Нечай сжал зубы.
– Ты понимаешь, что ты делаешь? Ты понимаешь, где ты после этого окажешься? Мало того, что весь Рядок о твоих богохульных речах толкует? Ты еще и против воли боярина пойти хочешь? В лицо ему плюнуть за его доброту? Да я б на его месте сам тебя в колодки забил и конюшни чистить отправил!
– Давай, забей меня в колодки, – прошипел, кивая, Нечай, – не первый будешь!
– Да уж по роже твоей заметно! – фыркнул брат, – Ты о матери подумал? А? Что с ней будет, ты подумал? Она тебя девять лет назад уже хоронила! Девять лет слезы по тебе проливала! От лени своей совсем с катушек слетел! Лучше б ты не возвращался, честное слово, матери бы легче было! Она ведь успокоилась уже, и теперь нате – все сначала!
– Значит, лучше бы не возвращался? Спасибо на добром слове! Прости уж меня, братишка, что я не сдох по дороге, что меня кнутом не насмерть забили, что повеситься силенок не хватило! – Нечай поклонился брату в пояс, делая вид, что снимает шапку, – следующий раз буду знать! Места в доме мало, я понимаю.
– Ты не передергивай! Дурак чертов! Обо мне ты подумал? О детях моих? Ты думаешь, ты будешь перед боярином ваньку валять, а он после этого нас в покое оставит? А? Не скучно на печи-то целыми днями лежать? Уж лучше службы и придумать нельзя, не в поле спину гнуть и не в кузнице молотом махать! Нет, и это тебе лень!
– Да не хочу я! Как ты не понимаешь? Не! Хо! Чу! Я из школы сбежал, чтоб дьяконом не быть! И на тебе – опять! Я лучше в кузнице молотом махать буду! Я… я из-за этого… если б ты знал, где я был из-за этого! И оставь меня в покое! Я сам разберусь, что мне делать!
– Ты, когда разбираться будешь, не только о себе думай! По мне – отправляйся куда хочешь, мне мать жалко!
– Да уж, по тебе, конечно – лишь бы отправить меня куда подальше. А жене твоей – и подавно!
– Да пошел ты, братец! – Мишата со злостью махнул рукой, развернулся и зашагал своей дорогой.
Нечай смахнул волосы со лба и скривился. Надо ж было поругаться посреди улицы… Но хорошо, что не дома. Еще неизвестно, что Мишата скажет маме. Он машинально погладил Грушу по голове и пошел домой, писать отчет для старосты. Настроение, как ни странно, только поднялось, и все крепче становилась мысль о том, что дьяконом он не будет.
Совершенно успокоившись, Нечай почти до обеда просидел над отчетом и успел написать пяток страниц, но только он решил передохнуть и погреться на печи, как в дверь постучали. Полева вышла в сени и строго спросила:
– Кто там?
Мишата еще не вернулся – торговался на рынке с пивоварами, которые покупали у него бочки.
Нечай почуял неладное сразу, еще до того, как Полева открыла дверь.
– Нечай, там Радей тебя выйти просит, – сказала она и хихикнула.
Хорошо хоть просит выйти, а не с топором кидается… Нечай выругался про себя, сполз с печки, накинул полушубок и сунул ноги в сапоги.
Колесник Радей ростом не уступал Мишате, но был половчей и поуже в плечах. Длинные руки с большими ладонями он всегда прятал за спиной, отчего сутулился и немного нагибался вперед. Волосы его поседели рано – Нечай помнил его седым еще до того, как уехал из Рядка.
– Пойдем на улицу, поговорим… – вздохнул Радей пока вполне мирно, только недовольно.
Хорошо, что не в доме – если Полева их подслушает, завтра весь Рядок узнает об их разговоре. Они вышли на улицу и присели на лавку возле забора.
– Ты… – Радей не знал, как начать, и Нечай по-своему его понимал, – ты это… Дарёнка моя… плачет второй день.
Нечай сжал губы.
– Мать допыталась, – продолжил Радей, – ну, побил я ее. А что толку? Ты бы это… Она же всем отказала, какие парни были! Она ж тебе – самое дорогое…
Нечай только вздохнул.
– Ну что ты молчишь? – вспыхнул вдруг колесник, – уговорил девку, а теперь в кусты?
– Я ее не уговаривал, я ее просто… – и Нечай употребил слово, которое не следовало говорить отцу опороченной дочери.
Радей вскинулся, и лицо его покраснело – не от стыда, от злости.
– Ах ты ж… – скрипнул он зубами, – ах ты ж сволочь!
– Знаешь что? Дарена твоя бесстыжая мне голышом на шею повесилась, что я должен был делать? Знал бы, что она так самое дорогое отдает – ни за что бы не взял!
– Врешь! Неправда это! Мне Даренка все рассказала, как дело было!
У-у-у… Нечаю и слушать не хотелось, что она рассказала отцу.
– И что ты хочешь? Чтобы я на ней после этого женился? Скажи спасибо, что я никому об этом не рассказываю, иначе ты ее только Туче Ярославичу в дворовые девки отдать сможешь.
– Так я еще и благодарить тебя должен? Так, что ли? – Радей вскочил на ноги.
Нечай тоже поднялся. Сейчас колесник полезет к нему с руками, нет никаких сомнений. Разрешить ситуацию миром все равно не удастся, не жениться же, честное слово, чтобы Радей успокоился.
– Послушай, – Нечай вздохнул, – я ее не уговаривал, веришь ты или нет. И жениться не собираюсь. Ни на ней, ни на ком другом. Разбаловал девку, привыкла, что все ей на блюдце с голубой каемкой тятенька преподносит, вот и творит глупости. И я из-за ее глупостей ни себе, ни ей жизнь ломать не стану.
– Да я тебя… Я тебя… – Радей вытащил руки из-за спины и сжал кулаки, – жизнь он себе ломать не станет! Девке ты уже жизнь поломал, или не понял еще?
– Кричи громче.
– Ты думаешь, это тебе с рук сойдет? Туче Ярославичу скажу – под батоги пойдешь!
– Давай. И всем остальным тоже скажи! – усмехнулся Нечай, – Куда ты только после этого дочку денешь?
Радей снова заскрипел зубами:
– Ну так я сам тебе шею сверну! Пусть меня после этого в колодки забьют, а ты жив не будешь!
Он замахнулся тяжелым кулаком, но Нечай, памятуя, как нехорошо вышло с Мишатой, легко перехватил его руку, аккуратно вывернул за спину, и пнул Радея ногой в мягкое место, отчего тот растянулся посреди улицы. Наверное, колесник не понял, как это произошло, потому что долго не вставал. Не следовало этого делать – ну, получил бы пару раз по зубам, глядишь, Радей бы и успокоился. А теперь он обидится еще сильней – где ж это видано, чтоб порядочного мужика ногами пинали да земле валяли?
– Вот как, значит? – Радей медленно поднялся, – ну, смотри! Я еще вернусь!
– Возвращайся, – кивнул Нечай и зашел во двор, хлопнув калиткой. Не иначе, вернется колесник с топором.
Но тут Нечай ошибся – колесник вернулся быстро, но не с топором, а с сыновьями. Нечай успел влезть на печь, когда Мишата, пришедший от пивоваров, сказал, что там его снова спрашивает Радей.
Нечай нехотя слез с печи и накинул на плечи полушубок – разбираться с Радеем совершенно не хотелось, но и затягивать выяснение отношений он не собирался: о том, что у колесника пятеро сыновей он просто забыл.
Мишата, все еще злой и угрюмый, поймал его в сенях и подозрительно спросил:
– А Радею что от тебя надо, а?
– Не твое дело, – хмыкнул Нечай.
– Ну, не мое – так не мое! – кивнул брат, снял сапоги и сел натирать их воском – он любил, что сапоги блестели.
Нечай вышел во двор и поежился от холода, не увидел Радея и решил, что тот ждет его на улице. Встретить там пятерых дюжих парней он не ожидал, но сразу догадался кинуть полушубок на забор.
На этот раз колесник ничего не говорил: они кинулись на Нечая все вместе, и устоять против них не было ни единого шанса. Но бился Нечай до последнего, раздавая зуботычины на право и налево – ни один из Радеевых сынов не ушел без расквашенного носа. Не надзиратели, привыкшие усмирять разбойников – мужики просто. Он расшвыривал их в стороны, как щенят, он пинал их ногами, если они держали его за руки, он вырывался из их захватов. Но при этом не чувствовал злости, которая частенько помогала побеждать в, казалось бы, безнадежных драках.
Кто-то выбил ему колено боковым ударом по прямой ноге, и это оказалось существенной потерей преимущества – на каждой руке тут же повисло по одному Радееву сыну, и колесник, наконец, получил возможность подойти к Нечаю спереди, для начала ударив в живот. Согнуться Нечаю не дали те, кто держал его за руки, и после этого Радей бил только по лицу, бил здорово, словно на самом деле хотел убить: Нечай мог лишь отворачиваться. Он едва не захлебнулся кровью из носа, Радей вышиб ему пару зубов – задних, коренных – отчего изо рта тоже потекла кровь, и отплевываться ею Нечай не успевал, глотая ее и кашляя. В глазах потемнело – он бы уже упал, если б его не держали.
– Вы что делаете! – услышал он сквозь шум в ушах, но удивиться сил не хватило – брат выбежал ему на помощь босиком, не надев даже полушубка, и свалил Радея с ног одним ударом кулака. Вслед за ним появились двое старших племянников, совсем мелочь еще, но без страха полезли в драку вместе с отцом. Нечай рванулся из последних сил, надеясь скинуть с себя тех, кто висел на руках, но те держали крепко. За калитку с визгом выскочила Полева, сжимая в руках ухват – собственно, она и решила исход драки, не разбираясь, кого и по каким местам лупит железными рогами. И мама заголосила на всю улицу:
– Помогите, люди добрые! Убивают ни за что средь бела дня! Помогите!
Один из парней, получив ухватом по спине, от испуга выпустил Нечая, и Нечай вырвался из рук второго, но повалился на колени, не удержав равновесия. На улицу выбегали соседи – хоть Радея и уважали в Рядке, Мишата жил ближе и, наверное, был родней. Надо отдать должное сыновьям колесника – они не сдались и тогда, когда на каждого из них пришлось по двое мужиков с соседних дворов. Нечай не видел, как их выпроваживали с улицы, только слышал их ругательства и обещания вернуться – кто-то из Радеевых успел пнуть его напоследок, и он валялся на земле.
Над ним, тоненько подвывая, склонилась мама. Нечай скрипнул зубами и стал подниматься – он не мог слушать, как мама плачет.
– Мам, – выдавил он, – да все нормально…
– Ой, мой сыночка! – завыла она, увидев его лицо, – ой, что ж это делается!
– Мам, ну перестань, – говорить было больно и неудобно – челюсть, вроде, не сломали, но разбили здорово.
Нечай сплюнул кровь, сел и осмотрелся: улица слегка покачивалась перед глазами. Мишата, все еще размахивая кулаками, вместе с соседями провожал Радеевых, а Полева, с ухватом в руках, хваталась за его рубаху, надеясь вернуть к дому – Мишата шел босиком. Племянники, покрикивая, бежали рядом с отцом – им все это понравилось. Народу на улице собралось – уйма, и если мужики уводили Радеевых, то дети и бабы смотрели по сторонам.
– Сыночка мой! Да что ж они за изверги!
– Мам, ну не плачь… – Нечай не знал, что ей нужно сказать, чтоб она хотя бы не причитала на всю улицу, – ну не надо, люди же смотрят… пойдем отсюда, а?
Он попытался встать: голова закружилась, как мельничное колесо, и в колене стрельнуло острой болью, едва он им пошевелил. Мама кинулась его поднимать, и Нечаю стало ее жалко – ну куда ей! Он старался не налегать на нее всей тяжестью, только немного опереться, чтоб не упасть – на ногу наступить было невозможно.
Мишата догнал их у ворот и подхватил Нечая с другой стороны. Их обошла Полева, загоняя сыновей в дом.
– Я ж тебя спрашивал! – обиженно сказал брат, – а ты что ответил? Сразу позвать не мог? Пока тебя в окно увидели!
– Да ладно… – Нечай снова сплюнул. Кровь из носа лилась на рубаху, но запрокинуть голову сил не хватило.
– За что хоть?
Нечай покачал головой.
– Небось, девку им спортил? Чего бы еще они вшестером прибежали!
– Мишата, Полеве не говори, а? Разнесет ведь по всему Рядку. Скажи, что я хотел, а она не далась… Может, поверят…
– Дурак ты, брат, – покачал головой Мишата.
– Да ладно. Она меня в баню заманила и голая мне навстречу вышла. Что еще с ней делать было?
Мама ахнула и перестала плакать:
– И из-за этой бесстыжей девки… Ах, Радей, ну я ему покажу! Да пусть только близко к нашему дому подойдет! Да как же не совестно-то ему! Распустил свою девку – а мой сынок отвечать должен?
– Мама, не надо ничего, я тебя прошу, – простонал Нечай.
– Еще как надо! Да я сейчас же к нему пойду! И Полеву позову!
– Ой, только Полеве не говорите, а? – взмолился Нечай.
– Чего это мне не говорить? – Полева вышла на крыльцо, распахивая перед ними дверь, – рубаху-то новую совсем испортил – не отстираешь теперь!
– Замолчи лучше, – тут же набросилась на нее мама, – не твоя, небось, рубаха!
Вслед за Полевой из сеней выглянула Груша и, увидев Нечая, замычала и затопала ногами, а потом, не давая им пройти, ткнулась лицом ему в живот и расплакалась. Руками Нечай держался за плечи мамы и брата, и не мог даже погладить ее по голове, чтоб успокоить.
– Ну, ну, не реви, – сказал он, и по голове девочку погладил Мишата.
Нечая уложили на лавку с запрокинутой головой, а Груша села на пол в ее изголовье и вцепилась в его руку, липкую от крови, мешая маме мыть ему лицо и прикладывать к ссадинам примочки. Надея стояла наготове: держала в руках чистые тряпочки и меняла воду в миске, в которой мама их мочила. Старшие мальчики заглядывали ей через плечо, а на печке хныкали малые.
– Как детки-то тебя любят, – сказала ему мама, – больно тебе, сыночка?
– Да нет, мам, ничего.
– Тебя Груша в окно увидела, уж так мычала, так ножками топала. Никто и понять не мог, чего она хочет, – мама погладила Грушу по голове, – пока Полева на улицу не выглянула. Так Грушу Надея держала, чтоб за Мишатой не выбежала.
К вечеру две пустые лунки на месте выбитых зубов все еще кровили, и мама говорила, что нужно прикладывать к щеке холод, но Нечай мог согласиться на что угодно, только не на это. Холода он не желал ни в каком виде. И хотя лицо горело от ссадин, ему вовсе не хотелось его охладить. Пусть лучше будет тепло. Нечай ощупал лицо: да, Радей, конечно, постарался. Особенно болезненной оказалась ссадина на левой скуле – шрам еще не зарубцевался окончательно. Его, случалось, били и крепче, но от этого раскалывающейся голове легче не становилось – его поташнивало от крови, которой он наглотался, болел расквашенный и распухший нос, и говорил он с трудом, словно в рот натолкали мелких, острых камушков.
Мама действительно пошла к Радею разбираться, хорошо, что не стала брать с собой Полеву. Пообещала опозорить Дарену на весь Рядок, если Радей еще хоть раз подойдет к Нечаю. Она была похожа на наседку, защищающую своего цыпленка, только цыпленком Нечай себя не чувствовал.
Его никто не защищал с тех пор, как он ушел из дома. Никто и никогда. Он не ожидал этого от Мишаты, и уж тем более – от Полевы. Это казалось ему странным и приятным до слез, похожим на теплую волну, согревающую грудь. Он бы предпочел думать, что брат его ненавидит, что он вовсе не рад его возвращению, из-за дома, конечно. Думать так было удобно. Но на самом деле выяснилось, что Нечай хотел совсем другого, он хотел, чтобы брат тоже его любил. Как мама, как Груша. Просто так, ни за что.
Там, в монастырской тюрьме, ему снилось детство, в котором все его любят. Ему снился дом, и мама, и отец, и Мишата, и ребята с улицы. Ему снилось, что Мишата приходит к нему, расшвыривает в стороны монахов, и забирает его домой: брат помнился ему высоким и очень сильным, он перерос отца, когда Нечай уезжал в школу. И наивная несбыточность этих снов не делала их менее счастливыми.
Почему он с выигранных трех рублей ничего не купил Полеве? Ведь ей было бы приятно. И ей, и брату. Надеялся, что она его ненавидит? А теперь это будет выглядеть глупо. Конечно, стерва она, но ведь выскочила на улицу ему помогать… За обедом она не преминула Нечая поддеть.
– Доходился с Дареной! Небось, отбил Радей охоту к своей дочке?
– Отбил, отбил… – кивнул Нечай.
– Молчи, дура! – мама стукнула ложкой по столу, – чтоб ты понимала! Да нам его Дарена сто лет не нужна! Да он…
– Мам… – Нечай взял ее за руку, – не надо, а?
– А что «не надо»? Дарена его будет хвостом крутить, а моего сына в Рядке и за жениха считать перестанут?
– Тоже мне! Жених! Ни кола, ни двора! – фыркнула Полева.
– Не болтай! Пополам дом разделю, если Нечай жениться задумает, – мама хлопнула по столу маленькой ладонью, и Нечай не понял – она хочет Полеву напугать или на самом деле собирается это сделать.
– Да кому он нужен, бездельник этот?
– Замолчи лучше! Его Туча Ярославич дьяконом сделает, да любая за него с радостью пойдет!
– Побежит! На восемь рублей в год детей не прокормишь!
– Да не век же он дьяконом будет! И батюшкой, глядишь, станет! – с гордостью ответила ей мама.
Мишата глянул на Нечай исподлобья, но тот уткнулся в тарелку.
– И староста ему работу дал, и еще даст! – мама подняла подбородок и посмотрела на Полеву сверху вниз, – никто в Рядке писать не умеет, только мой сыночек!
После обеда Мишата топил баню, и как бы Нечаю ни было плохо, от такого удовольствия он отказаться не мог. Первыми обычно мылись Мишата с Нечаем и старшими мальчиками, потом Полева с девочками, а последней мама мыла Кольку – она любила попрохладней.
Мальчишки долго жаркого пара не выдерживали, Мишата гнал их во двор и обливал ледяной водой, которую ведрами черпал из бочки. Ребята визжали и запрыгивали обратно в парную, шлепая грязными пятками по выскобленному добела полу. Нечай смотрел за братом в окно – от большого красивого красного тела шел парок, Мишата выплескивал на себя воду ведро за ведром, тряс мокрой кудрявой головой, и от него во все стороны разлетались брызги, а потом парок поднимался над ним снова, словно внутри него кипела кровь.
Нечай грелся на самом верхнем полке и не понимал, как можно добровольно вылить на себя ведро ледяной воды. Если тело Мишаты отдавало тепло, словно горшок с горячим борщом, то в теле Нечая тепло растворялось, впитывалось внутрь и ни капли не выпускало наружу.
– Дядя Нечай? – спросил Гришка, – а тебе что, совсем не жарко?
– Мне хорошо, – улыбнулся Нечай ему в ответ.
– Я так не могу, – вздохнул Митяй, – я б уже умер, наверно.
– Дядя Нечай, а когда ты нас грамоте начнешь учить?
– Да хоть прямо сейчас, после бани.
– Правда? – Гришка обрадовался, – тогда я уже выхожу!
– И я! – пискнул Митяй.
– Не спешите! Я-то посижу еще!
Мишата, фыркая, как конь, ввалился в парную, потом драл раскрасневшиеся тела мальчиков жестким мочалом, снова обливал их и себя ледяной водой – Нечай не чувствовал желания выйти во двор.
– И не жарко тебе? – Мишата, выставив чистых сыновей в предбанник, поддал пару.
– Неа, – Нечай покачал головой.
– Давай-ка я веничком по тебе пройдусь, может, согреешься?
Сухой, терпкий пар пошел вверх, и начал оползать по стенам, обволакивая тело пощипывающим блаженством.
– Пройдись, – Нечай повернулся на живот и вытянулся.
– Эх, держись! – крякнул Мишата, макая веник в ушат, – ты еще у меня пощады запросишь!
– Рука отвалится, – хмыкнул Нечай.
Кто сказал, что в аду жарко? Жарко в раю. И для того, чтобы туда попасть, умирать не требуется. Шепелявые дубовые листья гоняли по телу горячие струи пара, со лба Мишаты катился пот, он хлестал веником со всего плеча. Блаженство. Полное, абсолютное счастье. Что еще надо от этой жизни?