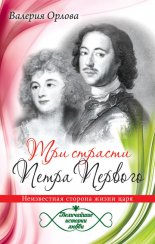Вольные повести и рассказы Тупикин Юрий

– Так уж и быть, извиняю. Миланка! – Миланка была уже возле деда. Услышав голос Князя, она ветром приподнялась со стула и опустилась возле окна. Смеясь, волнуясь и пританцовывая на месте, она выдёргивала трубку у деда. Дед уступил.
– Князь, привет! – дыхом выпалила Миланка.
– Привет, Миланушка! – отвечал любящий аппарат.
– Мы ждем твоего чуда, никто так и не верит, но все хотят. Мы словно запряглись и везём – красные и, думаю, что вспотели… Почему ты тянешь? – стала говорить Миланка, предварительно лизнув трубку; наверно, поцеловала…
– Мы же договорились, в час. Я знаю, что вы волнуетесь, поэтому позвонил. Скажи всем, пусть успокоятся, никакой мистики нет, уверяю. Я приду к тебе позже, можно? – расслаблял нас загадочный чудодей.
– Приходи. Я расскажу тебе об эффекте… Пока!
– Пока!
Миланка вернулась на своё место и сообщила нам, будто мы были глухие:
– Князь просил нас не волноваться, всё будет по расписанию…
Мы сидели истуканами. Вот когда мы были язычниками, в том смысле неправды, которая нас сопровождает. Но хотел бы я увидеть на нашем месте иного конфессионера… Успокоения, как такового, не наступило. Никто не брался сказать слова, поскольку не льстился казаться глупее настоящего состояния.
Дед Любан заёрзал, видимо, припекло и его. Если честно, из того, что я видел, то совершенно спокойными были прадед с прабабкой. Но мы уже знали, они заодно с Миланкой слышат Князя ночами и знают о переменах, нас ожидающих. И как-то не брался в расчёт стосемилетний дуэт стариков при сложившейся ситуации.
Между тем деда Любана одолевали какие-то сомнения, а больше всего нетерпение. С другой стороны, кто его знает, не подсунул ли кто второе изображение?…
– Любан! – это он внуку, мне. – Что-то мне мнится в углу движение… Глянь-ка, что там! – сказал дед близко к часу. Дед мог бы привстать сам и заглянуть. Но ему хотелось проверить чужими глазами. Сколько я знаю деда, дело не в помыкании внуком. Дед хотел проверить ещё раз, не ошибся ли он своим глазом, когда перед звонком Князя заглядывал на божницу. Я, конечно, послушался, мне и самому невтерпёж. Я поднял лампадку и составил её на окно. Взял образ Дубини и продемонстрировал: в углу было пусто, если не считать каких-то старых квитанций. Мифический пращур как был один – один в руках и находился.
– Ну, все видите? – спросил я родню и повернулся ставить свой кап на место. Место было занято другим изображением. И некий солнечный шарик, почти как «зайчик», блуждал по новоявленному изображению. Это было чрезмерно. Никто из нас не способен на фокусы. Родня окаменела! Я не выронил образ, зажатый в руках, потому что тоже окаменел. Потрясающе – когда потрясает. Мы были потрясены изнутри и теперь стали каменными истуканами, таков был эффект, которым хотела похвастаться Князю Миланка. Но долго ли коротко ли мы были в недуге отруба, надо восстанавливать разум. Поскольку я был рядом с передним углом, то мне надо первому и очнуться. Я снял с угольника новоявленный образ и выставил обе доски капов поперед себя на ширине плеча и таким образом демонстрировал оба капа, в точности соответствующих друг другу. Шарик «зайчика» стал скакать по обоим портретам, указывая на то, что они одинаковые, и что обещание, данное Князем, исполнено. Я даже погрыз зубом кромку той и другой доски; несомненно, дуб; в дубе мы разбираемся… Шарик теперь не скакал, а освещал изображения, накаляя яркость. Я бы сказал, что свет стал столь ярким, словно исходил от пятисотваттной лампы. Но что характерно, свет был, а тепла не было, свет не обжигал. А может быть, явление было быстрым и не успело обжечь. Однако вспотели не от жара в избе и не от искусственного освещения, а от непосильного изумления. Я поставил одно за другим оба капа на полку и вздохнул. Яркость шарика сразу померкла – но не от моего же вздоха…
Когда он опять стал «зайчиком», он уселся мне на голову, желая смеяться над моим недоверием к чуду. Я чувствовал, как он шевелит мои волосы. Буду честен, по моей холке пробежал морозец страха. А «зайчик», словно испугавшись моего испуга, проскакал по головам всей родни и ребят, пошевелил всем власы, чтобы помнили, и уселся на голове Миланки. Секундочку посидел и обежал лицо её несколько раз, было ясно, целуя… На глазах Миланки блеснула слеза умиления, она чувствовала поцелуи… Князь Милан у всех на глазах миловал поцелуями Миланку-Миланушку. Будто застыдившись прилюдности, «зайчик» потух (погас) и его не стало. Надо было что-то сказать.
– Миланка, милая, твоё пророчество подтвердилось. У нас теперь два портрета Дубини, один возьмём в новый дом. Ты реабилитирована в здравии. Контакт с мистикой показал её незлобную силу. И проблемы с нашими головами тоже освободились от тяжести… Поблагодари Князя! Спасибо!
– Он уже улетел. Сказал, явится мне во сне. Дедушка Ждан, бабушка Ждана, вы слышали? – отвечала Миланка.
– Слышали, внученька, знаем, он не обманет, это не Змей-харынич, хоть сам из Харыней… – Эти тоже в контакте. Но уже ни сестра, ни прадед с прабабкой с их зубокуской никого не интересовали. Люди ожили и оживились, стали взахлеб рассказывать, кто что видел. Видели то, что и я. Я постоял ещё, разглядывая явившееся ниоткуда изображение, которое было поставлено мной впереди «старого», но ничего нового не нашёл. То же почерневшее дерево, те же потускневшие краски, тот же старец, сросшийся бородой с корнями могучего дуба, вырванного из земли. Я понял, что также явилось и первое изображение. Но о нём «забыли» по той же причине, по какой и сейчас заговорили. Чтобы никому ни гу-гу, обвинят в колдовстве и сожгут всё, что горит… Я снова вздохнул и пошёл на своё место. Не буду больше об этом. Мистика, она и есть мистика. Кому не скажи, никто не поверит. Но я теперь точно знал, что рассказы Миланки о Князе правдивы. Я понимал больше того. Явление образа приурочено к моему новоселью – это был знак. Во мне разлилось незнакомое новое чувство. Назвать его я пока не решаюсь. В общих чертах возникла уверенность, что с этим таинственным Князем мне придётся столкнуться. К чему приведёт столкновение, я не знал.
Новоселье
Рассказ
Наступал праздник. В одном было несколько: воскресенье, новоселье, смотрины, день урожая. В этот день скотину не выгоняли. Был как бы смотр всех приращений, скота, в первую очередь.
Солнце поднялось крупное, с тыкву. Мы ещё спали. Лучи проникали во всё, даже в тыльные комнаты. С улицы закричали:
– Эй, сони, выгоняйте!
Лепанка открыла окно и выкрикнула в ответ:
– Сегодня не гоним, у нас медосмотр… – Вполне убедительно, фельдшерица.
– Га-га-га… – обратный ответ, – осмотр… самоволевцы…
Стали вставать, собираться, то есть наряжаться к празднику. Настроение хоть куда! И у моих друзей оно тоже было приподнятым. Заходили, забегали. С большим рвением выполняли распоряжения отца и деда. Дед на Внукову тысячу накупил много гостинцев, подарков. Он то и дело шептался с отцом и с матерью, они уточняли, согласовывали, посмеивались. Всё, что делается сегодня, в основном, для меня. Я – герой наступившего дня. Меня сегодня отделят…
Я тоже стал собираться. Меня не беспокоили. Как никогда, я стал тщательно готовиться к выходу. Явятся «красные» девки. Судя по татарочке, другие будут не хуже. До свадьбы ещё далеко, но я позаботился о брачном костюме. Это был шерстяной чёрный свадебный костюм. Смотрины позволяли мне нарядиться именно в этот. Я благоденствовал. Достал свой заветный орден Мужества и укрепил его на правую сторону пиджака. Я всё делал с чувством. Я ловил себя в том, что собираюсь как невеста на бал или в церковь. Но я подсмеивался над собой и продолжал единоличную радость. Когда я, наконец, оделся и подошёл к зеркалу, то услышал от себя удовлетворенное «ха-ха», выразившее мои эмоции. Зеркало показывало здоровенного детину в белой сорочке с бордовым галстуком в белую клеточку и с хрустальной заколкой, чёрные современной моды туфли при шикарном костюме, с крестовым орденом на груди. Я поколебался, не подушиться ли мне одеколоном, но вспомнил, как наши писатели, кокетничая друг перед другом, замечали детали военных и простолюдинов – от них всегда-де пахло дешёвым одеколоном. Наши предки не брились, и от них пахло навозом, но каков дух был у предков! Из принципа, я никогда не употреблял никакого парфюма, пахнул только собой, без душка, и никому не уступал в чистоплотности. Может, сам являл образец, ведь мне довелось быть старшиной роты, воплощением порядка. Я и сейчас передумал. Пусть красавицы чувствуют меня самого.
Когда я вышел на обозрение, мои все ахнули! Матя первая начала:
– Сыночек! Красавец ты мой ненаглядный! Беги во двор зреть – радуга пьёт из нашего колодезя!.. Счастливый мой, и нам рядом с радугой и с тобой счастье… Доктор как в воду глядел… – Матя промокала радостную слезу. Ей доктор сказал о счастливой радуге в день моего рождения.
Атя похлопал меня по спине и сказал, что я ничего; братья сказали: «орёл»; сёстры прижались ко мне и говорили, что им бы такого мужа. Отец будто не слышал кровосмесительных комплиментов. Ха-ха! Деды и бабки, глядя на внука, припоминали молодость и промокали глаза, когда-то и они были такими. Друзья пощупали орден и сказали, что я герой… Несомненно, я был прекрасен… Так приятно простое, здоровое, естественное честолюбие!
Не только я, все нарядились. И также все были доброжелательно осмотрены, и все были награждены утешительными комплиментами. Праздник начался с души и с радуги. Все вышли к крыльцу «зреть», как радуга, словно хобот, опустила конец свой в колодезь и, значит, пила за счастье… Другой конец она опустила во двор нового дома. Такая близкая, можно с разбегу заскочить ей на самый горб и перебежать из старой избы в новый дом, как в сказке.
Отец, заимев денежки, не поскупился и, убрав самогон в чулан, накупил коньяков, водок и вин в соотношении по 25 бутылок каждого вида. В случае нехватки, выручит «своя», из чулана… У деда свои закупки. Одних конфет «Россия», производства самарской фабрики «Шоколадка», дед закупил более ста коробок и ещё.
Пока из гостей были одни Родовлетовы, приехавшие вчера на автобусе. Другие стали подъезжать на своих машинах сегодня. Потом были и пешие. Все сговорились с отцом. Красную девку сопровождал кто-нибудь из наших родственников, подобно тётушке Соне, прибывшей с татаркой. С девушкой мать или отец, или родители вместе. Замечу для ясности: неписаный закон новоселья – подносить хлеб-соль и говорить те же слова, или подносить ещё что-то, но с теми же словами, или ничего не подносить, но сказать полагается. Этот же обычай распространился на встречах вельмож и чинуш, и его же тискают в дело и без дела. В нашем случае, не мы встречали гостей с хлебом-солью, а мне, новосельцу, несли хлеб-соль. Стольный дар подносили мне девушки, сговоренные отцом для смотрин. Их сопровождали с боков. Стало быть, мне, красавцу, подносили пироги, украшенные разве что не алмазами, в основном, этакими кокошниками из витушек. В гнёздышках пирога, как в патронташе патроны, выглядывали солонки, луковицы, конфетки, могло быть зерно от любого злака.
Меня выставили наперёд ворот старой избы. Около меня стояли сёстры, а перед нами – стол. Сзади нас стояли отец с матерью и на подхвате братья и старики. Миланка хоть и была рядом, но на полшага сзади. В её задачу входило суфлировать мне информацию, которую ей, в свою очередь, сообщали родители. И вот… Первый суфляж о гостях, вылезших из «Жигулей»: «Из Борского. Кума Нюра, крестная мать нашего Ждана. С ней Таня, её знакомая дева. Учится в институте, будет товароведом… В сопровождении матери-учительницы…»
Меж тем Таня-товаровед мне уже говорила:
– Хлеб да соль добру-молодцу, переселенцу из избы в терем!.. – и несла мне на руки хлеб на расшитой крестиками и конями утирке. Её вступление мне понравилось. Я отломил завитушку и поднёс к губам, которые в тот момент несли ахинею:
– Хлеб наш насущный даждь нам днесь! – а глаза наши разглядывали друг друга. Ей было что видеть, а что видел я? У неё долгооблое личико, понятней, овал, бровки – ровные запятые, нос без заскоков, губы мазаны мёдом… До талии я не дошёл, поскольку мне не только смотреть, но и узнавать гостью.
И в этом месте я, совершенно некстати, перебью ход процесса. В студенческих спорах между собой я отрицал западное обеднение мужчины до эротического визиажиста. Я говорил, что мужчина, скорее, естественное существо. Видит: восхищается, влечётся, обладает. Не видит: воображает, страдает влечением, томится духом и телом. Тлетворные – членотворят. Это ближе к мужчине, но и в этом лишь часть мужчины. Мужчина, я горячо утверждал, есть носитель и концентратор генодуха. Он ищет себе родственный дух, воплощённый в облике прекрасного пола. Если в женщине нет его духа, она им отвержена, какими бы блистательными формами ножек, попы и бюста она не владела; а он печален… Он ищет близкое и подчиняет его себе, обогащая собой. Он генотип природы, он победитель, он ведёт, а за ним следуют; он умрёт, а по его тропе продолжат движение следуемые. Вот что такое мужчина, по моему убеждению. Не надо нас представлять самцами, падающими на набор отдельных эротических компонентов, хотя мы, безусловно, видим и компоненты, и красноречие женщины, сосредоточенное в её теле…
Жуя витушку, я не восхитился вкусом и обмакнул её в соль.
– Сама пекла или купила? Признавайся, ничего не будет?… – перешёл я на земной язык хохмы. Она уловила перемену моего юмора и отвечала своим юмором:
– Ты что, с дуба рухнулся? Когда мне печь, я на третьем курсе…
– Умница, а что есть брутто и что есть тара, а лучше – нетто? – крутил я товароведку.
Дитя реформ не растерялась:
– Брутто – это жених, как будто, а тара – видала я его даром, а если с нетто, тогда – с приветом… – ответила Таня экспромтом.
– Ха-ха… Считай, ты сдала сессию. Награждаю тебя и тарой, и бруттой, и неттой в коробке конфет «Россия»… Кушай сама, а маме тоже – за воспитание дочки, а куме Нюре тоже гостинец за находку остроумной красавицы… Милости просим! – и я вручил им конфеты, поданные мне из тылов, а их пирог был отправлен в те же тылы с рук на руки. Последними были руки Родима-младшего, который доставил пирог в чулан. Гости отошли и стали зрительницами происходящего, осмысливая эффект сказанного и сравнивая его с другими сказами.
Новая троица гостей направилась прямиком к моему отцу, минуя пост новосельца. Отец, виновник шоу, показывал им мимикой и руками, куда идти, куда заходить; те, неловко маневрируя, обходили меня и наконец выровняли свой строй, а матя уже шептала дочерям, а те репродуцировали в мои уши: «Свояк, муж маминой сестры из Заплавного, дядя Митяй, с ним девица Настя Самарина, тебе отобрали… студентка строительного института, двадцать один год… С ней мама, в конторе сметчица…»
Я входил в роль и мне начинал нравиться этот спектакль, ставящийся без репетиции, и я уже не хотел, чтобы он не понравился остальным, чтобы пьеса была сыграна плохо. Пьеса была живая, в ней весь сценарий заключался в смотре невест и в выборе наиболее милой. А остальное шло от живого древа искусства и живых веток импровизации. Жалко, не было Риты. Она бы записывала…
Меня разглядывала сероглазая Настя, улыбкой своей извиняясь, что они не заметили главного персонажа. А я ещё что-то воображал о себе… Перед собой Настя выставила свой каравай, над которым нависали две церковки грудей с крутобокими куполами…
– Хлеб-соль Любану Родимичу и с праздником вас новосельем? – выговорила Настя заученный текст.
– Зачем же нам хлеб, когда нам несут пироги из крутого теста… – начал я свой скомороший экспромт, ломая при этом от каравая и вкладывая отломленный кусочек Настеньке в рот…
– Скажи-ка, сероглазое чудо, из какого теста печён твой каравай – из сдобного, кислого или пресного? Не скажешь, не дам гостинца… – Настя хихикнула и осмелела. Она откушала крошку от моего кусочка и протянула остаток к моим губам, вытянув вперёд и каравай и рюмочку своего стана, видимо, встала, на цыпочки. Я помог ей, поймав губами остаток кусочка, и начал жевать.
– Вы сами сказали, что из крутого, но не кислого и не пресного, а из порохового; я два испекла, мы один съели… – отвечала Настя весьма мило.
– Ох ты, не поймал… Ну, тогда на засыпку, коль ты строительница. Как ты намереваешься строить Россию? Из кирпича ли, из дерева? Ха-ха?… – спросил я в конце, поняла ли меня. Она поняла.
– Ха-ха! – передразнила меня Настя. – Фундамент России из лиственницы и из дуба, его я менять не собираюсь. Надо бы разобрать непородистый материал мансарды и сделать надстройку заново… я бы вот так и построила…
Она склонила голову набок, улыбнулась сомкнутыми губами и хотела узнать, насколько хорошо она отвечала.
– Умница! Давай каравай, спасибо! Ещё разок подтянись, я тебя поцелую, – провоцировал я понравившуюся мне девушку.
– Потом как-нибудь, ладно? Ха-хаа… – вторично передразнила меня Настя, но уже смехом. Она опять склонила голову, поставила её на место и встряхнула короткую чёлку. Такая Настенька, прижми её в уголке, запросто влепит пощёчину, не задумываясь о том, что пощёчина навсегда отобьёт жениха. Но воспитаны русской литературой, знаем, пощёчина – женская кокетливая защита.
– А других моих братьев ты знаешь? – не хотел отпускать я её от себя.
– Знаю. Желан, Милан, Родим, все на подбор, ха-хаа… – она меня не передразнивала, она так смеялась, как я.
– Всё, сдаюсь. Вот гостинцы. Как раз «Россия», сделанная из качественного материала. В Самаре делают для Самариных и других… Милости просим вас на праздник, не скучайте!..
Подъехал УАЗик, из него стали выходить новые гости, а ко мне подчалила вчерашняя лодочка с Родой Родовлетовой на корме. Её свита гребла веслами, то есть её славная мама и наша дородная тётушка Соня сопровождали её. Мои сёстры зашептали мне о внучатой племяннице и об остальных, которых мы со вчерашнего дня помнили.
– Хлеб-соль, витязь Любиня! Говорят, ты выбираешь невесту для нового дома? – сходу взяла меня на абордаж милокосая татарочка, приятно изменив моё имя. Она держала выпечку в виде высокого терема с полумесяцем.
– Тебя ввели в заблуждение, царица-татарочка, не для дома, а для себя, а в доме она будет хозяйкой. Ты бы пошла за?…
– За дом пошла бы, а за тебя, не знаю…
– А зачем ты приехала?
– Не знаю, вдруг уговоришь…
– А правда, что татарскую невесту уговаривают в бане?…
– Тебя ввели в заблуждение, витязь Любиня, татарскую невесту уговаривают до бани, а в бане, зачем же уговаривать, когда достаточно восхищения?… Ха-ха-ха… А разве у язычников не так?
– О язычниках чего только не говорят. Где прямо, там поперёк, где круглое, там кислое, где до бани, там в бане и прочее.
– А на самом деле?
– А на самом деле всё как у татар, чувашей, мордвы, немцев, французов, греков…
– Спасибо за просвещение!
– Амин тебе нравится? – спросил я напрямую.
– Мне нравятся многие, включая тебя и твоих братьев, весь вопрос, кого полюбить… кому отдать своё сердце…
Рода была не глупа. Опять у меня были мысли: вот судьба! Отец у нас Родим, мать Родима, брат Родим, – неужели татарочка с именем Рода не попадет в нашу родню?
– Татары предпочитают свою национальность… Видишь, у тебя и терем с намёком?… – сказал я будто бы с сожалением. Оно так и было.
– Мой папа русский, а фамилия у него древняя, от Бога Рода, от рода, от сына рода или ещё круче, от сына бога. И дух в нашем роду татарославянский, и мы замечательно ладимся… А полумесяц – знак мусульман, чего же его стесняться? – она, как вчера, стала переводить головку от одного моего глаза к другому, читая в моём лице непонятные ей строки.
Тут один за другим стали тарахтеть моторы, и все новые гости подъезжали и выгружались возле старого нашего дома. На улице собралось много покровских, и они ещё прибывали.
Среди прочих моторов приехали три не районных автомобиля: «Мерседес-600» и два «БМВ». Это приехал шеф-работодатель, приглашённый на новоселье со своими дочерью и любовницей. И трактор К-700 с полубудкой. Это отец Омил Олюбич привёз на смотрины своих дочерей Любаву и младшую Полюбку. Любава была моей обручённой невестой. Но был некий изъян родословной, не позволявший брать в жёны Любаву. Среди приглашенных девиц оказалась самозванка Света Краснова, понапрасну бегавшая за мной. Она заявилась вместе с мамой и с котёнком. Обе были с узкими талиями, как пчела и пчёлка.
– Люб, возьми от меня котёнка! Это кошечка. Такая же чистая и добрая, как моя мама… – сказала дочь пчелы – пчёлка, и у меня возникло ощущение, что по обеим бровям моим поползли эти пчёлы, по всей вероятности, ласкающие их своим опасным брюшком, вооружённым жалящим аппаратом… Мне хотелось стряхнуть их с лица рукой, – такое сильное впечатление производили они своими совершенными фигурами, совершенно не для меня предрасположенными судьбой. И ещё этот котёнок. У нас своих стая… И потом, кошки полезны свои, а чужие – всегда плохая примета, сглаз или приворот. Но делать нечего. Я помнил, что дарёному коню, то бишь, коту, тьфу, кошечке в зубы не смотрят. Я отдал котёнка Лепане. Надо идти на поводу нежеланного человека, располагая его к добру, а не ко злу всё время, пока он будет неволить тебя своим присутствием. Сам я уставился в пчёлку. Уж не знаю, что она ощутила на своём лице, наверное, чёрную тучу.
– Мы же договорились! – сказал я ей строго.
– Ну и что? Любящий человек праздника не испортит. Мы постоим в сторонке, – развеяла она тучу.
– М-да! Любовь пуще неволи! Признаться, я не ожидал такого приятного сюрприза… Спасибо вам за хлеб-соль! Милости просим на праздник! Будьте на равных…
Однако мне надо было вести нашу самодеятельную пьесу. Ко мне подходила ещё одна девушка без всякого сопровождения. И никто, кроме отца, не знал, кто такая. Он мне сам прошептал: «Надя из Коноваловки. Чувашка. Учится в ломоносовском университете, четвёртый курс, дай Бог памяти… филосохиня… Говорили, что она приболела…»
– Здравствуйте! – сказала Надя. – Я приехала по приглашению Родима Любинича. Здравствуйте, Родим Любинич! А вы его сын – Любан Родимич? Какой вы импозантный! Я не хотела, чтобы меня сопровождали, и сказалась больной. Извините, пожалуйста! А вас с праздником, Любан Родимич! Хлеб вам да соль! – говорила красивая гостья, сколько учтиво, столько смущённо.
Надя была прямая, как нить, белокурая и решительная. Я заметил, что под свободным покроем жакета и платья всё, что женское, есть, но она не показывает. У неё не было лишь изумительного спинного прогиба Любы, но такого прогиба не было и у других, кроме наших сестер. А ножки не скроешь, ножки у Нади уж так хороши. Она как раз ими-то и решительно двигала, приближаясь ко мне. Что тут скажешь? Природа и обстоятельства сокрывают прекрасное. Но красоту замаскировать трудно. Красоту замаскировать нельзя. Красота, так или иначе, каким-нибудь боком вылезет, себя обнаружит глазом, губками, походкою. Красоту не загородишь. Городьба падает перед красой. Красота тяготится сокрытием и сама себя показать хочет, ибо её назначение – удивлять, восхищать, очаровывать, влюблять в себя. Так стало с девушкой Надей.
– Здравствуй, красавица! Наслышаны о тебе… Чувашка из провинции в МГУ! Это редкость. Ну, философиня, доложи нам, что такое категорический императив Иммануила Канта! – снял я красавицу с высокого неба на низкую землю.
– Ты серьёзно?! – опешила Надя, заодно переходя со мною на «ты».
– Не всегда же шутить… – скромно я подтвердил. Она засмеялась. Смех был хороший, такой как бы сонный. И голос девичий, будто спросонья, родной… И поправила белокурую прядь. У нас таких зовут «белокуриха». Она выходила из шока…
– Хорошо. Говоря не дословно, Кант требует поступать так нравственно, чтобы и другие поступали также. А к людям относиться как к цели, а не только как к средству… – Впервые в Покровке прозвучали сакраментальные мысли великого философа.
– Умница. А теперь приложи этот повелительный императив к нашей ситуации и поясни, что к чему! – доставал я чувашку. Мне это было надо.
– Сфинкс задавал один вопрос, а ты два… – остроумно съязвила девушка.
– Сфинкс не учился в университетах, а мы с тобой их заканчиваем. Ты да я – два университета, встретились, беседуем…
– Ах, беседуем… Ну, хорошо. Ситуация такова, что вы действуете не по Канту, а по Языцам…
– Откуда знаешь Языцы? – приятно было видеть ягодку с одного огорода, её сразу видно.
– Это уже из третьего университета… – являла девушка ум. Я засмеялся.
– Продолжать?… – смеялась и Надя.
– Да, да. Надёжа, продолжай! Я правильно тебя называю? – Ещё одна, стесняющаяся своего имени.
– Ты смекалистый, в паспорте так… Ну вот. У вас цели и средства совмещены обычаем смотрин невест. Вы поступаете нравственно применительно к своей цели, а мы, здесь собравшиеся фотомодели, для вас не более, чем средства. В свою очередь, мы явились не по принуждению, а по замыслу уже своей цели – теперь уже вы для нас средство, и мы квиты. Таким образом, цели и средства меняются местами и совпадают. И я не вижу здесь ничего безнравственного. Следовательно, во второй части своего императива Кант недостаточно диалектичен… Языцы круче… Я слышала твоё «ха-ха», мы можем сказать это вместе.
– Ха-ха-хаа… Ха-ха-хаа… – Уж не знаю, что понимали люди вокруг нас, но и они смеялись. – Круче – это как? Хуже, лучше, уже, шире, поясни.
– Я думаю, Кант не выдумал императив, он дал сжатую суть всей народной мудрости. Языцы шире, как ты говоришь, они развёртывают эту мудрость, хотя сами предельно кратки. Но, вычленив только суть, мы увидим, что это одно и то же. Однако императив – концентрат, а Языцы – поэма языческого мировидения. Я права?
– Ещё как! Но неприлично критиковать классика, не возмещая его слабое место. Как бы мы с тобой блеснули по этому пункту? Давай обобщим хорошую мысль. Я начну, а ты за мной… Я говорю: «Цели и средства столь же различны, сколько различны их основания»… Продолжай!
– Тогда я скажу так: «Цели и средства могут меняться местами и совпадать, если их основанием служат общие интересы». Как?
– Ха-ха! Замечательно. Кант позавидовал бы… Теперь не от Сфинкса, а от себя лично, ты намерена победить?
– Не уверена, тебя надо сначала влюбить, а потом победить. К сожалению, у меня не было времени для любви, я ещё никого не любила… Но база данных у меня, кажется, есть… Ты не заметил? Ха-ха-а…
– Похвально, Надёжа! Надёженька! Всё я заметил. Не скрывай больше своей очаровательной фигуры и не стесняйся своего имени. Предрассудки слабее нас. Спасибо за беседу. И другим было полезно послушать. Вот тебе коробка конфет. Желаю тебе победы!.. Милости прошу, празднуй!
Чем ни невеста? Кому-то составит счастье.
Следующую невесту вели два мужика (один был в роли телохранителя, шёл сзади) и женщина. Они вели такое создание, какое можно создать из одной нежности. Нежный взгляд, нежный нос, нежные губы (даже когда не улыбаются), нежный стан в русском платье (из-под которого вышагивали нежной походкой добротные полные ноги) и, я бы сказал, неясная русская коса, не уступающая толщиной косам наших сестер и Любавы с Полюбой. Отчего же такая выразительность? Может быть, всё от талии? Мне представилась буковка «X» – хороша! – и пункт перекрестия в ней. Почти такая была талия девушки при изящной верхней и нижней частей её тела. Талия девушки уместилась бы в обручальное кольцо, и я мало преувеличиваю. Мне зашептали: «Дед сзади – друг нашего деда. А мать с отцом ведут Ясеню прекрасную из рода Ясениных из села Ясеневка. Закончила школу. Семнадцать лет…»
Вот её подвели, и она оказалась не низенькой, а почти высокой. На ней пуховая белая накидушка, вязаная, возможно, самим созданием.
– Хлеб да соль тебе, князь известный! С праздником тебя новосельем! Все уши мне тобой прожужжали, думаю, дай-ка, увижу сама молодца. Посмотри и меня, Любень Родимич, может, понравлюсь, да и сгожусь… Сам-то ты дюже гожий! Пригожий! По терему и хозяин… – Такая речь прошибла во мне слезу. Ну, атя, ну, атя! Каких прелестниц нашёл.
– Здравствуй, Ясенька из славного рода Ясеневых из села Ясеневка! Давно тебя поджидаю. Тоже наслышан о твоей неясной красе, тоже хотелось увидеть. Да вижу, мала ты. Надо тебе учиться, рано о семье думать в семнадцать лет… – всё я сказал от души.
– А мне нельзя, князь ясный. У нас в роду все женщины многоплодные, зараз – тройню-четверню, когда уж учиться, надо детей обихаживать, а потом не обойдешься одним разом, там семеро по лавкам и сядут… а там ещё… Вот мама может сказать, у неё нас семнадцать.
– Ха-ха-а!.. – я не мог так не выразиться и не смахнуть слезу умиления. Мамочка-то точно так же нежно и свеже выглядела! Как так можно?
Мне казалось, что я расстручил плод созревшей фасоли (лопатку), а там влажно блестят трогательной чистоты розоватые зерна (бобы) с розовым ротиком-почкой посередине; в таком неожиданном образе представилась мне мама Ясении и сама Ясения, плод мамы.
Итак, мать с дочерью произвели на всех неотразимое впечатление.
– Прости меня, Ясенька, и вы, мама Ясении (не знаю вашего отчества), простите за нескромный вопрос: а где же, Яся, твои близняшки? – подмывало меня спросить и я спросил.
– А я одна родилась, а вслед за мной трое, потом четверо, ещё трое и четверо, и последних двое… Дома остались с бабками, с дедами. А маму и нас записали в Книгу Гиннеса, и тётю ещё, и бабушку…
– Каких чудес только нет в России! Государство-то помогает? – повёл я беседу и для себя, и для публики, случай удивительный.
– А как же, сударь ты мой! Детских пособий как выдадут… иногда, за год, а то за два, так сразу тыщ десять, а то и двадцать… – благородная Яся похвалила наше Отечество, которое надо бы за эту помощь… не знаю, что даже надо… А Яся продолжала: – Со строительством дома помогла Борская администрация, губернатор автобус дал на шестнадцать мест… – и тут недодано, вот они, чудеса России. А Яся продолжала: – А маму наградили орденом Гражданской Чести «За выдающийся вклад в социальное развитие России»… Только она не носит его. Ты носишь свой орден, а мама свой нет… – хоть стой мне, хоть падай.
– И все здоровые ребятишки?
– А чего же нам быть нездоровыми, все здоровые, все сыты, одеты, обуты, велосипед есть, футбольный и волейбольный мячи, вязальные принадлежности есть, все заняты, никто не скучает… Как в школу идут – целый класс на походе…
Трогательно было слушать и не послушать грех.
– Давай, милая хлебушек! Поди, сама и пекла? И накидушку сама связала?
– А кто же, князь мой нареченный? Я уж готовилась к своей участи…
– Ну, не видал я ни одну подобную. Могу я тебя поцеловать прилюдно?
– А как же, князь! Поцелуй, покушай, чай не хуже других… – Ясечка ясная потянулась ко мне неясными ручками. Я её приподнял – руки-то саженные – над столом и всю прижал к себе на весу, она так и вжалась, как монетка золотой пробы, в ладошку. И всю-то её я в один миг почувствовал, всё её плотное жаркое тело. Думается, что и она меня немного почувствовала, потому что орган сердца не каменный, то есть не мягче камня, так и промял её платье дубовою твердью в хоромном месте… Уж я её сладко, как мог, поцеловал и отпустил с сожалением. Я полагал, у всех присутствующих было единое сочувствие к этой девочке. Остальные красавицы, верно, предугадали в ней основную соперницу. Вот жена по уму, по призванию, по милу и желанию.
– Ясенька, разъясни мне непонятливому: как же вы с мамой такие красавицы, под венец хоть обеих! Поделись секретом! Чтобы другие слышали и не болели, и не страдали.
– Охотно, сударь мой. Секрет древнее доктора Авицены. Мы добавляем в пищу толченую скорлупу куриных яиц. И вся недолга. И дети крепкие, и здоровые, и красивые, и мы с мамой, слава Богу… Я и своих детей кормить буду…
– И никакого американского гербалайфа?
– И никакого американского гербалайфа… Пусть народ не выбрасывает скорлупу от сырого яйца и болеть, и страдать не будет.
– Спасибо Ясенька, молодчина! Умеешь нести свою красоту, и защитить готова себя, и других. Вот тебе, Ясенька славная, гостинчик. Кушай здесь, а домой возьмёшь ещё двадцать коробок и ещё три в придачу, чтобы дома на всех хватило. Милана, выдай гостинец отцу и матери и другу нашего деда, который доказал, как понимать красоту. Празднуйте! Держи, Яся, ухо востро, будут, думаю, у тебя испытания.
– Спасибо, князь, пытай, как надумаешь, я ко всему приготовилась…
А брат Родим потом мне рассказывал…
«А я только Таньку ещё под шумок пообнял, да ладно вовремя выскочил. Короче: всю историю с Ясенькой я увидел-услышал. И слёзы потекли у меня по глазам. Ну, думаю, эта моя, и не надо искать, и не надо отца мучить. Танька меня за рукав дёргает, этой шалаве понравилось, а я на неё и глядеть не могу. От Ясени я потом ни шагу…»
«Чем Рода тебе не угодила? И красавица, и имя твоё?»
«Не заявись Ясеня, быть бы татарке моей женой, она на меня всё поглядывала, и я с нею перемигнулся…»
А ко мне уже несли очередной пирог с солью. Этот раз мне шептали: «Ещё одна выпускница школы. Шура из Гостевки, тоже семнадцать. С матерью и с нашим бабкиным внуком по дочери её сестры Акимом». После Яси она не могла меня удивить. «Профессионально» я примечал (знал, что напишу об этом), что девушка стройная, улыбчивая, с глазами доверчивыми и лучистыми, доверяющими тебе всю себя без обмана с условием, что и ты её не обманешь. Я посоветовал ей пойти в институт и стать учительницей – мол, тебя будут обожать ученики и хорошо учиться. А если не хочешь в институт, попробуй счастья на конкурсе, вдруг выиграешь и станешь моей женой… Шура засмеялась и согласилась.
Осталась одна «отцовская», и затем подойдёт моя Люба, если, конечно, захочет подойти. Но, Боже, зря я иронизирую, отец постарался, всех уговаривал, девушки дали согласие на смотрины. Всех надо приветить, обсмотреть, угостить, пригласить к увеселению и к состязанию за брачное место… Это была Ирина из Боженовки, подруга Лепаны по учёбе в Борском медицинском училище. Её мы все знали, она бывала в гостях у Лепаны. Тут-то отец, наверное, её и уговорил. Ира вместо пирога поднесла мне автомобильную аптечку, и мы с ней поговорили.
– А скажи, Ирина, сколько у самой детей будет?
– С мужем посоветуемся и решим, – рационально ответила Ира.
– А если тебя не выберу? Видишь, и на других смотреть – глаза разбегаются…
– Такой уговор был: выберет – твой, не выберет – вой, или на нём свет клином не сошёлся.
– Ха-ха… Справедливо. А расходы, дорога?
– При чём здесь расходы? Самой интересно свою цену узнать: меня позвали, других нет. И условие было, если мне жених не нравится, я не участвую… А мне жених нравится, хо-хоо… – Смех как у шевской Аллы.
– Поди, у такой дивной девушки свой парень есть?
– Есть. И кандидатов много. Но у них ордена нету, хо-хоо… Прости меня, Боже!
– Моих братьев, конечно, ты знаешь. Признавайся, с кем перемаргивалась?…
– Хо-хоо… Все братья твои хороши, а меня Милан ваш уговаривает.
– Ну?
– Ну… Он сказал, участвуй, всё равно я тебя отобью… хо-хоо… – Посмеялись мы с ней, угостил и её конфетами, пожелал ей победы… Она на радостях обнялась с Лепаной. Подруги…
Итак, все семь приглашенных лично отцом девиц, прошли предварительный смотр. Да и больше невест не надо – семь – магическое число язычников, оставшееся священным у всех народов. Осталась Любава… Эту приглашал я сам, да привмешались недоразумительные обстоятельства. Уж я-то знал манеру Любы являться последней, чтобы затмить остальных. Поэтому я им дал тайный сигнал – глядел в их сторону и ладонью манипулировал тем движением, каким к себе подзывают. Я звал и ободрял на тот случай, если они явились на церемонию лишь простыми зрителями. Но они узрели и пошли. Впереди шла Люба с Полюбой, отец их, Омил Олюбичшёл задним. Как они шли! В красных туфельках и белых носочках – одни без чулок. Ровные полные ноги, загорелые как кожица молодой сосёнки, передвигались слаженно, «в ногу», то левые ножки выкидывали одновременно, а то – правые – одновременно, причём, у обеих вразлет, истинно по-язычески. У обеих осанка Надёжи, да только при своих спинных прогибах, да со славянскою величавостью, да коса к косе, да плечо к плечу, да бедро к бедру – любуйся не хочу, народ, не каждый день зрелище! Душа моя ликовала. По-моему, они шли, взявшись за руку. Но нет, не шли они рука в руку. сёстры несли в руках круглые чаши, покрытые узорными рушниками. Полюба была всего на полголовы пониже Любавы, а остальное у неё было, как у Любавы: и груди калачиками, и попа окатная, и глаза темноводные, и ещё… Я любовался. И народ любовался. А тут ещё, кстати, кокот взлетел на забор и закукарекал! Очень хороший знак, хоть петуху аплодируй. Перебил петух все сглазы и привороты, если таковые были… И вот они за три шага до моего стола вдруг встали и расступились продуманно. Впереди оказался отец, который приблизился до одного шага. Как новоявленный европеец в добротном костюме и в белых перчатках корейского производства, он держал на руках овцу, увитую алыми и голубыми лентами по шее и по хвосту; овечка была кипенно белой, намекающей, подобно костюмам дочерей Омила Олюбича на безупречную непорочность… Овечку, видно, мыли с шампунем…
– Доброе здоровье всему роду Дубиней! Спасибо за приглашение на новоселье! С праздником тебя, Любан Родимич! Хлеб да соль тебе в новом тереме, воздвиженном трудами отца. Прими от нашего рода в дар сукотную ярочку! Да принесёт она тебе богатый приплод, каким и желаю тебе владеть всю жизнь, как примером!.. – Я, надо сказать, слегка обомлел от неожиданного презента. Но это был древний языческий дар. Этим даром Дымовка всех переплюнула. Глядя на девушек и на овцу, всяк мог подумать, что эти и победят… Я смиренно принял овечку и даже понюхал, она пахла млеком, как Люба, и духом тепла. Погладив овцу по смирной головке, я передал её в руки отца; тот был без белых перчаток, но ярочку принял… Глядь, а Омила Олюбича уже не было передо мной. Передо мной стояли его дочери, отец был снова позади. Ну, вот они: два молочка, два мака, две сирени, две розы, две ромашки, два солнышка! Очевидная совершенная красота во всем своём девичьем обличье и блеске! Обе смотрели на меня кротко и трогательно. Невозможно себе было представить, как одна из этих красавиц так же кротко и трогательно смотрела в моё лицо через прорезь прицела…
– Хлеб да соль тебе, любезный Любиня! – и Любава назвала меня по-другому. Хороший пример заразительный… – Она откинула с чаши своей полотно. В чаше сверкали под сахаром калачи причудливой формы свеколок, но злачного цвета. Догадка стрелой пронзила живот: Любава дарила свои мякитишки… Дар её был для посвященного жениха. Лицо моё загорелось благородным румянцем или влечением.
– Желаю тебе невесту, как эти калачики! – говорила Любава. Я откушал калачики и передал их вместе с покровом. А Любава тем временем приняла от Полюбы другую чашу и снова откинула рушничок. Чаша была решетом, горкой насыпанной тыквенными семенами, каждое семя едва не карась. Несомненно, от тыквы Белой Русской!
– От семени древо, от древа плоды, от плодов снова семя. Прими, Любиня, как девичий дар…
Я задохнулся от иносказаний: кто дарит семя, тот намекает на что-то… И сказать ничего не могу, такой говорливый доселе. Едва раскрылся устами.
– От такого крупного семени быть доброму племени. Спасибо, Любава! Спасибо, Полюба! Угодили дарами, сам не свой от признания!..
– Люб, как ты хорош! Я тебя никогда такого не видела. У меня голова кружится… – говорила меж тем Любава.
– Да будет тебе, Любушка!..
– Правда, правда, Люб, и у меня голова кружится… – это Полюбка.
– Это вот тот и есть твой терем? – разумно перебила Любава.
– Он, ненаглядный…
– Терем дороже Сбербанка. Поздравляем тебя, Любиня! – Как она скоро перехватила мои новые имена!
– Спасибо, милые! Милости просим на праздник!
– Ой, Люб, побудь с нами минутку, у меня ноги подкашиваются… Я перенервничала…
Никто не поверит, что так оно было. Бедная! Я подхватил её и Полюбку и повёл в избу, оставив свой пост. Встречать больше некого. Никого больше не звали. Весь род наш тоже пошёл за нами, а народ глядел и гадал, не понимая, зачем самоволевцы выдумали смотрины, когда у него своя краса беспримерная.
Гости томились на улице и во дворе. В избу их никто не позвал. Самыми важными языческими таинствами руководил дед Любан. Прадед Ждан и бабка Ждана, верно, не думали, что им придётся поучаствовать в историческом действе. В том смысле, что за оба века своей личной истории, они в подобных церемониалах не участвовали. Раньше отделение сыновей происходило более скромно. Теперь решили воспроизвести всю языческую обрядность, не разъясняя её некоторых инозначений.
Всё было готово. Ход начался из старой избы в новый дом. К сожалению, мало что можно сказать о шествии на полсотню шагов. Но и не сказать ничего нельзя. Сказать языком бывшего старшины роты – языческий ход представлял собой походную колонну следующего построения. Впереди шествовали прадед с прабабкой. Прадед, соответственно, в некогда белой, а ныне серой ризе, поверх которой сверкал, как начищенный, серебряный крест на серебряном гайтане. Рукава одеяния были подвернуты и заколоты булавками, (то есть, «не спустя рукава»). В левой руке старец Ждан держал посох Дубини, а в правой… пучок сена. Справа от него шла его дражайшая вековая спутница старица Ждана, наряженная в светлую юбку с оборками и привязным карманом в набедрии. На её груди сверкал кубок с водицей. Её главной целью было пройти расстояние и донести на своей бессмертной шее «святую воду». И старец, и старица были обуты в короткие полуваленки с отворотами. Прадед макал («мочал») сено в кубок и опрыскивал путь, освящая его. Он брызгал не часто из соображений символики и из экономии водицы, которую доверху не налили, а половину, жалея старую шею прабабки. Бог Род благословлял им дорогу. За ними шли дед с бабкой Любаны. Они несли новоявленное изображение Дубини. Дед нёс его на вытянутых вперёд руках, как олимпиец знамя. За неимением хоругви, изображение поверху было покрыто старинной утиркой с петухами и крестиками. Один конец утирки держала бабка Любава. Несла… Дед с бабкой были в современной одежде. За образом было не видно ордена деда.
За ними шли наши двоюродные дед с бабкой Божаны. Дед Божан вёл на веревочке жертвенного барана, а бабка Божана погоняла его высохшим прутиком лебеды. При деле… Никому не могло прийти в голову, что несчастный баран – это ритуальное приношение Богу Роду в честь праздника урожая. И, разумеется, в честь праздника новоселья. Даже конец XX века не научил – приходилось скрывать древнейший обычай. В лучшем случае баран мог иметь значение символа, а в худшем случае – обыкновенную снедную скотину. За ними шли мать с отцом. Мать шла впереди и несла большую сковородку, в которой рубинели огоньки углей. Яснее, мать несла сквар, жар, огонь в новый дом – символ вечного хоромного бытия. Отец следом за матерью вёл быка Кряжа. Бык-Волос, Вол-Велес, бог Вол, Бог – это Ваал, это любовь (лав, люб, love), скот, деньги, богатство («Вначале было слово. И слово было Бог». Или: Вначале был Ваал, и Ваал был Бог, святой Господь…) – вот что обозначал наш бык, ведомый со двора старой избы во двор нового дома, в свете ветхозаветной веры язычества. Старый пёс Дозор сопровождал именно их… За ними вошёл в нашу историю отец Любы. Он нёс свою нарядную, впервые сукотую ярку, точнее, уже овцу (ярка – девочка). Это был символ многоплодия рода. Не случись Омила Олюбича, дядя Гожан вёл бы свою овцу. Красноборовы не были глупы и знали традиции. За ними сестрёнка Красавы – Светлянка и Света Краснова несли кота и того маленького котёнка-кошечку… Света-пчёлка вошла-таки в нашу историю. За ними шли братья, опора и продолжение рода. Впереди новоселец, по бокам и сзади – Ждан и Родим. Сзади них шли двоюродные братья Желан и Милан. Братья ничего не несли, кроме генома. За ними шли дядя Гожан и тётя Гожана. Они несли поросяток, отмытых, как ярка из Дымовки, и накормленных молочком, чтобы не взвизгивали.
За ними шли сёстры. Лепана несла того голосистого кокота, который приветствовал Красноборовых. Миланка несла золотоносную курицу. Красава несла сизокрылого голубя. сёстры были в кокошниках. Здесь соединились многие символы. Яйцо курицы, оплодотворенное петухом – это символ жизни. Кокошь – это курица и петух, от которых происходит кокошник. Кокошник на голове означает женское верховенство в жилище и олицетворение её красоты. Голубь – мир, кротость, улыбка, воспетые Миланкой в распространившейся в Покровке песне «Голубушка». Неся в руках свои понятные символы, девушки пели. Много спеть они не успели, но, и спетого было много. В песне молодец выбирал себе невесту, да так и не смог выбрать – то кривая, то хромая, то слабоумная – и он наконец попросил отца созвать смотрины и сосватать ему невесту… Как в нашем случае, потому что новую песню выдумала Миланка. Куплеты сопровождались смешным припевом. Два спетых куплета были такие: «Ой, да выйду я на улицу, разверну свою гармошку. Где, которая мне сулится, пусть покажется в окошке… Ой, да выйду я да во поле, огляжу я всю округу. И взлечу я вольным соколом поискать себе подругу…» К ним припевы были такие: «Сидя ешь, сидя пьёшь, сам невесту не найдёшь… Горько ешь, горько пьёшь, сам невесту не найдёшь».
Возле сестер клубились званые кандидатки в невесты. Они нашли себе применение и пели с сёстрами. Любавы с Полюбой среди них не было. Они метались по сторонам, фотографируя языческий ход, словно они были фотокорами какой-то газеты. Другие гости шли демократической толпой, кому, где вздумается.
Но вот наш патриарх завёл процессию в раскрытые ворота нового дома. На двор. Прадед обошёл весь двор, брызгая туда и сюда. Он брызнул на ворота скотного двора и курятника. Туда завели ярку и занесли поросят и кур. Прадед окропил голубя, и Красава, ко всеобщему удовольствию, выпустила голубя в небо. Жертвенного барана загнали в отдельный сарай. Быка Кряжа оставили на людском дворе, где ему привилегированно была приготовлена кошёлка сена. Проголодавшийся бык благодарно воткнул морду в плетёнку. Никто из гостей не знал, почто быку прилюдная почесть…
После этой процедуры прадед повёл паству в дом. Он опрыскал крыльцо и дал возможность впустить в дом кошачьих, метнув в них несколько капель. Кошки в доме – символ здоровья, чистоты и уюта, первичный букварь для детей. Кроме того, в доме хозяина кошки обязаны не только мурлыкать, но и ловить мышей… Затем прадед с прабабкой устремились в теплушку, гости толпою за ними. В новом доме была сохранена русская печь. Она удостоилась отдельного освящения. Мы стали свидетелями, как мать разожгла огонь в освященной кормилице. При матери остались отец, старики Божаны и сноха Ждана (жена брата Ждана). Старцы повели всех по комнатам, показывая жилище и делая своё дело. По лестницам этажей мы их понеси на руках. Святой воды хватило на всё. Гости дивовались огромным каменным домом, открывающим перед нашим родом новую эру. Все нравилось, начиная с лестниц. Вместо шарообразных поясковых балясин красовались точеные девичьи ножки. Прототипом были ножки Миланы-Лепаны-Любавы… С правого перила – правые ножки, с левого перила – левые, типичный идеал мужских вожделений…
Гости не поленились пройти три этажа.
В то же время для устроителя новоселья – отца – это была работа. Он увёл своего брата Гожана и сына Ждана в тот сарай, где ожидал праздника смерти приговоренный баран. Баран хорошо поел на жертвенном месте, теперь ему дали попить… Чего бы следовало ожидать? Воды? Нет. Ему дали раствор воды и самогона. Баран попил и предался кайфу. Так всегда поступают язычники. И не правильно кормить-поить скотину перед убоем, но, увы – обычай, жестокий или гуманный, но обычай. Через час подвыпивший баран был лишен своей краткосрочной жизни, и хмельная душа его, освобожденная злодеями, вознеслась на небо, чтобы оттуда спуститься на флору, где она перемешается с землёй и будет ждать, может быть, тысячи лет, чтобы возродиться в какой-либо форме жизненного существования… Перед последним мгновением жизни барана, он услышал странные извинения за вынужденную жестокость… Да что говорить про овцу, когда перед смертельной истиной, перед атакой, бойцу положена языческая «фронтовая»!
Но до пира было ещё далеко, поэтому гостям предложили выйти во двор. Здесь их ждало маленькое удивление. Длинный дощатый стол был заставлен винами и коньяками. На закуску были разрезаны соленые арбузы. Алой мякотью они приглашали с собой познакомиться. За столом старшинствовали ребята. Они шутили, приглашали, наливали, подавали, но ни разу не произнося слово «садитесь».
Здесь, собственно, перевели дух и стали между собой по родне обмениваться первыми впечатлениями. Кто устал, тот, конечно, садился, кому-то было удобно стоять. Надёжа примкнула к семейству шефа и они, весёлые, держа в руках «гранёные» и арбуз, обсуждали своё. Мама со Светой примкнули к Таниной маме и к Тане, и они тоже пили вино и тоже говорили о чём-то. Короче, на это и был рассчитан промежуточный стол во дворе.
Наступил козырной час деда Любана. Он был вездесущ, любезен и по-своему остроумен. Ему предстояло разыграть традиционное шоу с быком, которым забавлялись на день урожая. Недаром намекали ребятам на осень, когда быку будет ближе к году. Но дело в том, что я не помню, чтобы у нас когда-либо вырастал бычок типа Кряжа. Были справные бычки килограммов на 250, которые лишь к зиме при хорошем откорме достигали своего высшего веса. Кряж был исключением. Корову, его мать, возили в другое село и там, не бесплатно, взяли могучее семя. Кряж был ранним, в конце ноября ему исполнится год. В десять месяцев с небольшим он уже был внушительнее взрослых быков. Может быть, так казалось, ибо глаз со страху может преувеличить. Но что в нём за 300, не вызывало сомнений. Девчонки ребятам уже напоминали, что срок их обещания «подтренироваться» истёк, и дед попросит их показать свои силы. Ребята неглупые, понимали, что в нашем роду умеют шутить, но многие шутки имеют перспективные последствия, не всегда положительные. Вчера вечером им опять напомнили. Глядя на Кряжа, они не радовались его родословной… И вот… День настал и надо платить окуп за невесту «с силов»… «С умов» заплатили зачётом по знанию Библии. Таковы условия обручения.
– Эй, ребята! – крикнул им дед. – Хватит вам, едят вас мухи, у стола обретаться. Готовы ли вы отдавать должок?
Миша и Слава с тоской посмотрели на племенную скотину, которая умиротворенно запихивала в свои недра душистое сено, увеличивая тем самым свой титанический вес. В данном случае бык играл две роли: он был придачей мне к дому и как забава. Ребята попробовали отшутиться, но дед был любезно настойчив. У деда много задач. Ему надо было продемонстрировать силу жениха-внука перед смотренными невестами. Внук мало чем уступал быку в величине, но нужен контраст. Дед знал, что ребятам Кряж не по силам, но это его нимало не беспокоило. Он преследовал главную задачу, подверстав попутные.
– Деда, в цивилизованных странах принято откупаться, – залюсил Миша. – Я тоже предпочту откупиться, назначай откупного…
– Да, да, деда, помнишь, летом Васелок откупился бараном и Любан за это не оторвал ему коки… – вторил Слава.
– А я и совсем ни при чём при ваших делах, – умыл руки Амин.
На деда откупные штучки не возымели действия.
– Едят вас мухи! Не поняли вы, что на веку приходится кланяться и быку, – говорил дед Любан. – Лады, за быка вы откупитесь, а за удаль? Когда вы сватались, как договаривались? Я пошёл на уступки быком. За окуп зачёт, за удаль – отчёт. Договор! Вы обещали наесть силёнок и показать невестам, на что вы годны… Кто снесёт быка, снесёт и невесту – вот и вся удаль, тому же быку внятная. – Дед шёл на разрыв договора, это не шутки.
– Деда, при стечении гостей неловко… может, перенесём на следующую субботу?… – канючили слабаки.
– На следующую субботу у меня на примете другая примерка… Как хотите. Мои внуки тоже могут опозориться, но ведь вынуждены тоже показывать невестам свою силу. Эй, Любан, Родим, Желан, Милан, где вы?… – Где же нам быть, как не во дворе слушать торг вместе с гостями? А дед угнетал ребят последними доводами:
– Вы думаете, зачем мы гнали быка не в стадо, а в новый двор? Смекнули? То-то. Для вас. Родя, поднимешь быка? Тебе вроде многоплодная приглянулась… Отбей её у Любана, если могёшь. А я тебе поспособствую…
Всё говорилось открыто и громко, при гостях, тем только дай зрелище. И Родим знал, что придётся участвовать, ибо обычай. Бывало, не надо бычка, а держат для этого случая. Родим оглядел Кряжа, словно его никогда не видел. В какой-то момент он засомневался, но гонор взял верх. Дед говорил правду. Ясеня на него смотрит. Было время, он тоже смотрел на неё. Солодка!
– Ха! Кряжа? Это мы махом!.. – погорячился брат Родим. – На бутылку, деда, лады?
– Едят тебя мухи! Я тебе литр сам поставлю, ты только приподними… – подстрекал дед, работая на публику. Публика, маленько поддавши, уже заводилась, о чём свидетельствовали жиденькие хлопочки руками. Родим снял пиджак и сорочку. Гости увидели тело младшего жениха. Я видел, как девушки выззрились на увесистые руки и широкую грудь. Родим почувствовал на себе внимание девок и снял майку… Ну, тут совсем. Привыкли видеть в кино культуристов с наворотом мускулов, а тут ничего подобного, ни одного мускула чужого, всё от природной культуры. У Родима мышцы, как чешуя рыбы, плотно подходят одна под другую и каждая на виду – мелкие, гибкие, на большом стволе тела, способные сжаться в ствол дуба. А вообще, он больше похож на дельфина.
Родим подошёл к доверчивому быку, который смерти барана не чувствовал, поскольку ту операцию осуществили в отдельном дворе, в отдельном сарае. Крови бык не почувствовал. Он был благодушен и смирен. Он был любимец рода, и все ласкали быка, как кота. Он и ребят всех знал, те словно подлизывались к нему, подходили чесать его уши и шею. Родим поиграл чешуей своих мышц. Тоже артист. Хочется покрасоваться природным даром. Окажись тут комбриг Лесной, восхитился бы генеральскими «крыльцами» брата. Девчонки, по всей вероятности, прикидывали свои шансы. Не выгорит с одним, чем хуже брат, даже моложе и уже отслужил. Только без ордена… А Родим театральничал для Ясени. Честолюбию брата такие арены – подарок судьбы. Умилостивив быка, Родим подлез под его живот, обхватил правой рукой переднюю левую ногу быка, а левой рукой правую заднюю ногу. Это был единственно правильный хват для подобного случая. Жаль, что ниже нельзя подлезть, под самый живот. Даже у племенного бугая «клиренс» (просвет меж животом и землёй) не велик. Ладно, что есть. Родим натужился. Все видели, как мышцы его напряглись тем самым дубом. И!.. И Родим вылез из-под быка с красными глазами, лицо его покрылось пятнами, будто он переболел красной оспой. Не говоря ни слова, он отошёл от быка, махая руками перед коленями и сгибая пояс; он приводил себя в чувство… Девчонки сконфузились, словно опозорился не богатырь, а они… Дед Любан был весьма озадачен. С горечью он произнёс:
– Мать вашу в душу! Родина любит героев, а бабы родят слабаков… Придётся самому показывать… Люб, может, ты утрёшь нос этому допризывному красноармейцу?!.. С быком не совладал, а!..
Народ во дворе похихикивал. И слова у деда смешные, и ситуация к смеху. Орденоносный жених не поднимет, тогда…
– Любан, чё ты молчишь? Итить мне, или ты? – комедничал дед.
– Ну, деда, вечно ты с цирком… Кому это нужно… Людям смотреть противно… – я подыгрывал деду.
– Слабо и этому, – сказали в кучке гостей.
– Зачем жениха конфузить? – вмешалась тётушка Соня. – Лучше, дед, давай мы вдвоём.
– Га-га-га!.. – разрядилась дворовая публика.