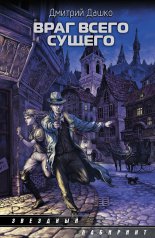Дневник Островская Софья

Здесь в разгаре сеноуборочная — индивидуальная, колхозная начнется через несколько дней. У Анатолия дом оказался полон гостей, точнее сказать, помощников: сестра с мужем из Калязина (она — бригадир на фабрике, он — шабашник, алкоголик), племянник из Горького — тоже бригадир; здесь же толкутся живущий напротив брат — механизатор с взрослым сыном, которому скоро призываться; эти двое тоже подсобляют Анатолию, поскольку своей коровы не держат. Недавно приобречецная Анатолием корова оказалась рекордсменкой, залила дом молоком. Пьют: Анатолий со старухой-матерью, сестра с мужем и сыном, семья брата и еще на молокозавод сдают. Сразу было видно, что трудятся на сеноуборочной люди серьезно, с полной отдачей, поскольку для себя, а не на воздух.
Стал собираться дождь. Скорее закопнили раскиданное для просушки сено. Пошел дождь уже в темноте и зарядил на полтора дня. После по радио объяснили, что над Тамбовом завис циклон, управляющий погодой аж до Ярославля. Мы успели в сумерках немного порыбачить на Жабке (притоке Волги) — надергали крошечных окуньков, которых отдали кошке.
На другой день под непрекращающимся дождем сходили в церковь, стоящую на бугре в километре от деревни. Шли тяжело по жирной грязи, изредка по траве. Церковь недавно обворовали. Выпилили решетку в алтарной части, вынесли почти все иконы. Потом небольшую часть нашли и вернули, а за остальные уплатили по рублю за штуку. Такая щедрость объяснялась тем, что грабеж произвел местный оперуполномоченный, как говорят, при попустительстве старого батюшки. В последнее не верится: надо было скомпрометировать церковников, чтобы несколько обелить представителей светской власти. Никого не посадили, просто убрали из здешних мест.
Прислали нового священника, в отсутствие которого службу нес нерукоположенный поп из бывших армейских майоров, давший клятву, что если уцелеет в войну, то посвятит себя Богу. Клятву он выполнил, ушел по окончании войны в мужской монастырь, но был там на положении трудника, а затем уже, не знаю как, очутился здесь. Он помог новому попу заделать решетку, развесить новые иконы и уцелевшие старые, прибрать заброшенное церковное кладбище, подновить ветхий жилой дом и вместе с окрестными крестьянами вымостить двор булыжником и часть дороги до подъема, где не слишком закисает в Дождь. Недавно он простудился, слег, и мы его не видели.
А с новым благочинным Леонидом Михайловичем познакомились и даже были приглашены в дом. У священника тонкое бледное лицо, нос с горбинкой, редкая рыжеватая борода, °и немного похож на юного Крамского. У него гостит товарищ по Одесской духовной семинарии, он помогал вести службу, но в разговоре с нами участия не принял, кудато скрылся. И Церкви было пустынно: несколько дряхлых старух да кто — то из «десятки». Эти Божьи бабушки — все в черном — помогают по дому, матушка и дочь еще не приехали изпод Калинина, где у них хорошее хозяйство. Меня благочинный знал по рассказу «Огненный протопоп». Он часто улыбается, показывая кариозные зубы, разговор тихий, свободный, интеллигентный. По случаю Петрова поста в доме мясного не было, угощали вкусными пирогами с капустой, яйцами, вязигой и домашним крымским вином, присланным друзьями из Симферополя.
Беседу в основном поддерживал Гиппиус, у него с благочинным нашелся общий знакомый: видный ейископ, с которым Гиппиус летел вместе из Афин. Сейчас он возведен в архиепископский сан, и потому, как священник говорил об этом, чувствовалось, что он честолюбив.
Назад шли в полной темноте под усилившимся дождем. Промокли до нитки. Дома отогрелись горячим ужиом, чаем из самовара и коньяком, который выставил, конечно, Анатолий. У нас был свой запас, но Гиппиус сделал такие страшные глаза, что я сразу осекся. Мне представилось, что Гиппиус замыслил какойто добрый сюрприз, а он просто пожадничал. Отснедав, Гиппиус наорал на Анатолия, пытавшегося пове сить нам в комнату две «картины» Васнецова. Смущаясь, Анатолий лепетал: «Да ведь нужно… для культурного отдыха». Но Гицпиус оставался неумолим: для «культурного отдыха» требуется одно, чтоб меньше смердило, гдето протухла вяленая рыба. Я сгорел от стыда. Поведение Гиппиуса было не просто бестактным, оно выдавало безнадежную душевную грубость, окостенелое хамство этого бывшего интеллигента.
В субботу дождь кончился, и мы целой компанией отпра вились в магазин, где Гиппиус попытался закадрить крепкотелую, ярко — смуглую продавщицу — бабу Анатолия, как я немедленно понял. Ловкая вышла история. Мы расположились в задней комнатке при магазине попить коньяку под чудесную «пьяную вишню», какимто чудом оказавшуюся в продаже. Продавщицы выставили от себя лимон, сыр и хлеб. Немногочисленные посетители смотрели с теплым одобрением, полагая, что это ревизия. Взяточничество, блат всех устраивают, ибо помогают обходить злую тупость государства.
Гиппиус, хватив рюмашку, орал, чтобы Анатолий готовил ему нынче постель на сеновале, куда к нему придет красавица — продавщица. Анатолий краснел, пыхтел, все не знали, куда деваться. Я шептал про себя: «Миленький Боженька, сделай, чтобы Анатолий ему вмазал!» Но богатырь — добряк всё пережил в себе.
Когда я сказал Гиппиусу о его оплошности, он перетрусил, но не смутился. Некоторое время он держался в почтительном отдалении от Анатолия, потом снова обнаглел и даже пожалел, что не разжился адресом продавщицы.
Бедствие нынешней деревни — бездорожье. Современные могучие, с гигантскими задними колесами трактора расквашивают дороги, превращают деревенские улицы в грязевое месиво. Теперь нельзя пройтись с гармонью, поплясать у завалинки, даже полузгать семечки на скамейке у плетня. Топкая грязь простирается во всю ширину улицы, от забора до забора. В Исакове есть клуб, куда привозят хорошие картины, но ходят туда только голоногие подростки, другим не пробраться даже в сапогах.
Трактор — основное средство передвижения; на нем едут в поле, в гости, за водкой, на свидание, на рыбалку, на станцию. Автобусное движение то и дело прерывается. У Анатолия есть машина «Волга», но в тех редких случаях, когда он решается выехать, его тащут трактором на листе железа до шоссе. В колхозе имеются четыре лошади, которые мирно пасутся на крутых склонах приречных лугов. Но будь их четыреста, они справились бы со всем немалым хозяйством, и сохранились бы дороги между деревнями, и милые сельские улицы, заросшие муравой и цветами, а на них звучала бы музыка, и люди ходили бы друг к другу в гости, и в клуб, и не разбегалась бы молодежь из колхоза, где жизнь стала не просто сытой, а зажиточной.
Как сказала мать Анатолия: «Хлеба вдосталь, а сосуществование наше — мука мученическая». А как же иначе, если из дома только зимой можно выйти. Она считает, что Анатолий остался холостяком потому, что хорошие девчата из, деревни бегут, а городская сюда за все сокровища не пойдет. У Анатолия дом забит вещами: четыре телевизора, а ловится только первая программа, с десяток радиоприемников и проигрывателей, в каждой комнате по электрической бритве, швейной машине и телефону — звонить можно только в правление колхоза. Шкафы ломятся от всевозможной одежды: кожаные пальто, куртки, дубленки, плащи, сапоги всех видов и фасонов (Гиппиус слямзил резиновые финские с коротким голенищем). Дом забит полированной мебелью. В длиннющем сарае — две машины, мотоцикл с коляской, лодочный мотор — узенькая заиленная Жабка так же «непроплывна», как дороги непроездны. Есть даже книга «Русская речь» для 5–го класса, но старуха — мать изнывает от тоски. Анатолий слишком занят, чтобы скучать, но случается зимой воет волком — буквально.
Он и его брат, особенно последний, из породы беспокойных. Им случается тяжело расшибаться об окружающую косность. У них нелады с председателем — дальним родственником, который любит повторять: башку снимают за сделанное, за несделанное только журят. Его принцип, от которого он не отступится ни за какие блага мира, — ничего не делать. Юрий, брат Анатолия, дважды начинал строить дорогу за свой страх и риск, председатель в первый раз оштрафовал его за самоволку, в другой раз укатал на пятнадцать суток за хулиганство. И ни один голос не поднялся в защиту Юрия — беспокойные люди никому не нужны. Ведь если сделаешь одно, непредусмотренное начальством, то потребуют и другое. А кроме того, ты начальство подводишь, почему, мол, само не додумалось. Нет, сиди и не рыпайся и всегда маленько недоделывай, в следующий раз от тебя большего не потребуют. А план всё равно будет выполнен — за счет приписок. Эту систему не расшатать, она стала сутью социалистического способа хозяйствования. Отбыв наказание, Юрий, по его словам, «стал фашист дорогам».
Посетили мы машинный двор и мастерские. Машинный двор частично заасфальтирован — руками неуемных братьев, — поэтому часть машин стоит на твердом, остальные тонут в грязи. С ремонтом плохо. Моторам автобуса полагается работать без ремонта до 32 тысяч километров (кстати, это смехотворно мало), но изза бездорожья они выходят из строя после 8 тысяч.
Во всех емкостях разбросанной вокруг ремонтных мастерских техники поблескивают на солнце пустые бутылки, почемуто не принято уносить тару с собой. Работала кузня. Анатолий поразился трудовому энтузиазму старого кузнеца, но оказалось, что тот шабашил. Вообще, шабашников в деревнях завались: печники, каменщики, штукатуры, слесаря, разнорабочие. Умельцы, золотые руки, зашибают сотни, и всё спускают на водку и бормотуху.
Были на молокозаводе и чуть сознание не потеряли изза нестерпимой вони. Деревенский нос вони не чует, принюхался в избе, в которой за век настаивается такая плотная затхлость, тухлота, прель, гниль, смрад немытого человечьего тела, кислая нечистота младенцев, духота животной шерсти, что проветрить избу невозможно и за десятилетия, хоть держи нараспашку все окна и двери. Но чем так пронзительно воняло у молокозавода, ума не приложу: скисшими выплесками проб в навозную жижу дороги?..
Я вдруг заметил, что деревенские очень плохо говорят. От былой емкой, краткой, хлесткой и меткой речи не осталось следа. Сейчас говорят коряво, неритмично и многословно, щедро заимствуя из городского жаргона самое пошлое: «я всю дорогу предпочитаю мормышку стрекозе», «не вкусно отремонтировали хедер», «мужики напились, настроились на подвиги, но мы с Нюркой сделали ноги», «мировенькие корочки» и т. и.
Вот уже третий день, как мы переехали в Калязин. Мы едва выбрались из Исакова, да и то с помощью Геннадия, чудом пробравшегося к нам из своей деревеньки в трех километрах от дома Анатолия. Еще немного — и тащиться бы нам на железном листе.
Калязин — плохой город, безнадежно унылый, неживописный, с подслепыми угрюмыми домишками. Единственное, что в нем есть, — полузатопленная колокольня — русский ампир. На дне водоема покоится затопленный собор, а еще тут взорвали прекрасный монастырь, достопримечательность и гордость заштатного городишки. Калязин неизменно хуже Кашина, куда мы тоже наведались.
В Кашине сохранились белые остовы церквей и монастырских подворий, купола, колокольни в окружении старых прекрасных деревьев: вязов, берез, лип, тополей. Тут создан в бывшей церкви (вернее, в соборе женского монастыря) очень хороший музей, которым руководит милая молодая женщина Вера Алексеевна. Музей закрыт на инвентаризацию, но директриса сразу узнала меня, позвонила, чтобы помещение сняли с сигнализации, и устроила для нас прекрасную экскурсию. Оказывается, тут недавно побывал Сергей Антонов, — у него отец родом из Кашина, — забрел в музей, познакомился с Верой, и они вместе смотрели «Клуб кинопутешествий», который я вел. Антонов сказал, что непременно приедет сюда еще и привезет меня. И она в первый момент подумала, что Антонов выполнил свою угрозу. Но вместо печального и даво умолкшего прозаика, она получила в качестве второго гостя рыжего живчика с необычайно быстрыми ручонками. Эти ручонки доставляли мне немало беспокойства, пока мы осматривали музей и особенно — запасники. Тонкие конопатые пальчики в рыжих волосках должны были обязательно повертеть каждую фигурку, черепок, камешек, иконку, потрогать гравюру, литографию, поласкать старинную мебель. Волк в овчарне.
Вера провезла нас по городу, показала местную здравницу, где мы испили по стаканчику целебной и довольно вкусной кашинской воды, а затем почти насильно притащила на день рождения к своей младшей сестре. Там мы познакомились с ее братом — капитаном милиции из Калинина, — он значи тельно и плохо играл на гитаре и еще хуже пел; мы прослушали «Живет моя отрада» и «Среди долины ровный»; с невыразительной средней сестрой, с~ толстой уютной матерью, чья единственная гордость в жизни — принадлежность к ленинградским блокадникам; с хмурым, больным отцом и лучшей подругой — колхозной бухгалтершей. Потом к нам присоединился прилетевший из Калинина на сложную операцию молодой нейрохирург, ученик местной, спившейся после смерти жены знаменитости. Веру недавно бросил муж, судья мотоциклетных гонок со звучной фамилией Пискалькин, и я подумал, что нейрохирург — претендент на ее руку, но тут оказалось чтото более сложное. У Веры, на вид такой здоровой, крепкой, свежей, чтото с головой, она ни с того, ни с сего падает в обморок, и хирург ее пользует. А ухаживает он, вроде бы, за колхозной бухгалтершей. Но Вера сама в этом не уверена, иногда ей кажется, что он вынашивает какието планы в отношении нее. Меня же этот провинциальный интеллигент и гений заинтересовал другим: за его сдержанной, полной достоинства повадкой угадывался какойто скрытый порок: то ли он сталинист (сторонник твердой власти), то ли черносотенец, то ли поклонник Пикуля, то ли непроходимый мещанин, мечтающий о полном наборе материальных благ, источник которых в медицине, то ли наступивший на горло собственной песне алкаш. Он принял рюмок восемь, неизменно оговариваясь, что он «пас», поскольку завтра утром делает сложнейшую операцию на мозге.
Вера помешана на своем музее, дружит с бывшей свекровью, у которой в основном и живет ее сын (Вера часто ездит в командировки), держит очаровательного щеночка Кузю, похожего на головку одуванчика и, по — моему, не может изжить в душе пленительный образ неверного Пискалькина. Он — коротышка, по — провинциальному фасонистый: расклешенные джинсы, пряжка ремня величиной с Бранденбургские ворота, обтяжная рубашка из мохры и «кудри черные до плеч». Самолюбивый карлик, он бросил Веру, потому что она «всегда со знакомыми говорит о непонятном». Он взял простую, малограмотную бабу (учительницу начальной школы), которая «по крайности, не задается», и катает ее на мотоцикле мимо бывшего женского монастыря, где перемогает свое одиночество слишком культурная Вера.
Я пишу все это в квартире, устроенной нам заботливым Геннадием, а Гиппиус умчался в Кашин. Судя по его предотъездной нервности и по тому, что он даже не предложил мне сопутствовать ему, в высохшей головенке роится множество планов. Тут и горячее, бескорыстное желание помочь музей ным работникам разобраться в их запасниках, отделить, так сказать, злаки от плевел, и естественное любопытство матерого коллекционера к завали старины, и благородное мужское желание скрасить Вере ее одиночество — словом; всё было ЗА поездку в Кашин (без меня) и ничего ПРОТИВ. Я, впрочем, и не собирался ехать, поскольку вечером у меня выступление в центральной библиотеке, устроенное библиотекаршей Анной Сергеевной, той самой, что некогда прислала мне фотографию затонувшей колокольни и заразила тоской о Калязине. А кроме того, я предпочитал, чтобы ограбление храма (пусть бывшего) происходило не на моих глазах. Гиппиус умчался, не обеспечив меня, вопреки традиции, дневным прокормом. Он был так нетерпелив и противно возбужден, что я и слова не сказал о нарушении им добровольных обязанностей.
Но мне бы хотелось вернуться к Анне Сергеевне. Это настоящая провинциальная интеллигентка, помешанная на книгах, с мужем — учителем, жалким бытом, этажеркой с заветными книгами (мы заглядывали к ней), извечными русскими иллюзиями о высшей справедливости, идеализмом и приверженностью к рюмке. Похоже, что они с мужем в свободное от занятий время закладывают с утра. Это вызвало брезгливое чувство у чистоплюя Гиппиуса, и когда она зашла к нам накануне договориться о моем вечере и вообще отвести душу беседой, он обращался с ней, как с побирушкой. Мне иногда кажете что падёт он всетаки от моей руки.
Анна Сергеевна невысокого мнения о Калязине, где родилась и прожила всю жизнь. По виду это город нищих, говорила она, а живут тут сплошь куркули. Кроме ковров, золота и хрусталя, их ничего не интересует. Стоит в магазине чему-нибудь появиться, рабочие места пустеют, весь город выстраивается в очередь.
По официальной статистике Калязин занимает первое место в стране по преступности и алкоголизму. Это гнездо жадных, злых, вороватых, пьяных и темных людей. Число посетителей библиотеки снизилось за последние годы вдвое: со ста двадцати человек до шестидесяти в день. Из этих шестидесяти 90 % берут только детективную литературу. Учителя ничего не читают, нет ни одного абонента среди местных педагогов. А чем они занимаются? — спросил я. Огородами, цветами — на продажу, некоторые кролями, свинок откармливают, кур разводят, конечно, смотрят телевизор — у всех цветные, — ну и пьют по затычку. Остальные жители занимаются тем же, но еще и воруют: на мясокомбинате в первую голову, и на всех прочих местных предприятиях, всюду найдется что украсть. Это в школе ничего не возьмешь, кроме мела и карболки. Деньги есть у всех. Очень любят справлять — широко и разгульно — свадьбы, для чего на два дня снимают ресторан с оркестром, проводы в армию — водку закупают ящиками, а также советские праздники, Новый год и Пасху, хотя лишены даже тени религиозного чувства. Анна Сергеевна подтвердила мое глубокое убеждение в полной нерелигиозности русского народа. Недаром так тосковал Лесков по «тепло — верующим». У нас религиозным усердием отличались только сектанты, всякие хлысты, трясуны, прыгуны, скопцы, частично староверы, а нормальные православные смотрели (и смотрят) на церковь только как на развлечение, праздники же для них — прямой повод налить морды без упреков жен и угрызений совести. Единственный предмет разговора калязинцев — вещи, их приобретение. Духовная жизнь равна почти нулю. Это достояние нескольких доживающих свой скорбный век старых учителей. Есть несколько чудоковатых молодых людей, которые читают книги и журналы, а по ночам плавают к полузатонувшей колокольные послушать «эолову арфу» — там иод сводами творится странная музыка, порождаемая воем ветров. Любимый поэт местной интеллигенции — Роберт Рождественский, на втором месте Евтушенко. К остальным равнодушны. Вот потолок лучших людей Калязина.
Интересна и показательна история Никольского, местного чудака, бессребреника, краеведа — любителя. Когдато, еще до революции, он получил в наследство от бездетного купца неплохую, преимущественно духовного содержания библиотеку, кое — какую церковную утварь, иконы, всякие раритеты: древние черепки, изделия из бронзы, кости, камня, старые гравюры, литографии, несколько картин (купец был страстным, но безалаберным собирателем), а когда взрывали монастырь, местный архимандрит отдал ему всё, от чего отказалось по лени и небрежности епархиальное ведомство: там было много икон в окладах и без, кадила, паникадила, священнические одежды, кресты, всевозможная церковная утварь. Кроме того, у самого Никольского было собрано немало старинных крестьянских орудий: борон, сох, цепов, веялок, лукошек, прялок, ткацких станочков, разно — праздничных уборов, украшений, горшков, чугунков, светильников, зыбок, посуды глиняной, фаянсовой и деревянной и прочая, прочая. Он порывался создать краеведческий музей, но все потуги разбивались о каменное равнодушие начальства. Потом у него в доме случился пожар, в котором погибла часть библиотеки. Он так расшумелся, что начальство струсило и выделило ему какоето бросовое помещене. Он привел его в порядок и развернул экспозицию, которой позавидовал областной Калининский музей и сразу попытался наложить алчную руку, но получил могучий отпор от старого энтузиаста. Калязинские власти возгордились и даже раздобыли откудато для музея клык мамонта и таблицу, доказывающую, что и на верхней Волге Homo sapiens тоже произошел от обезьяны и медленно, но верно подымался до высшей формы советского человека. Всё шло хорошо, Никольский наслаждался исполнением своей давней мечты, но тут приезжие из областного центра люди, а за ними и местные любители старины стали слишком умильно поглядывать на камешки, которыми были усеяны оклады икон, ризы, архиерейские посохи и кресты. Они и так, и эдак подъезжали к Никольскому, но он был неумолим. И тогда вспомнили с ужасом, как можно было держать на столь ответственном месте какогото шаромыжника. Никольского немедленно перевели на грошевую пенсию, а поскольку от огорчения его хватил удар и он стал почти беспомощен, определили в местную богадельню, где он быстро истлел. Замену ему нашли без труда. Охрану одного из предприятий местной промышленности возглавляла энергичная крепкотелая женщина с немалым партийным стажем. Бдительность ее не вызывала сомнений, такой можно доверить любой объект. Тем более, что к этому времени успел вернуться после недолгой отсидки за мелкое мошенничество ее тоже энергичный муж. Его быстро восстановили в партии и назначили к ней экскурсоводом. Калининский музей, сыгравший немалую роль в падении проходимца Никольского, получил кое — какие экспонаты в благодарность, чемто успело попользоваться местное начальство, но немногим, ибо бдительная чета первым делом повыковыривала все камешки из окладов, крестов и риз, ссыпала в берестяной туесок и закопала в надежном месте. После этого они бодро принялись распродавать остальные экспонаты: церковные книги — любителям, светские — в московские букинистические магазины, раритеты — разным коллекционерам (тут, кстати, и Солоухин прислал письмишко с назначением Анны Сергеевны его калязинским «эмиссаром»: «надо спасать народное достояние», — писал чтото пронюхавший мошенник). Дошло до того, что, кроме цепов, веялки, жернова и неподъемного Мамонтова клыка, осталась лишь таблица, изобращающая, как питекантроп выпрямился в советского человека. Впрочем, нет, оставалось еще огромное, тяжелое изумрудного цвета каменное яйцо. Но набравшая опыта чета понимала, что больно велика диковина, чтоб драгоценной быть. А вдруг она полудрагоценная? При такой величине, гладкости и красоте расцетки тоже может стоить немалых денег. Заведующая музеем смоталась в Москву, нашла бывалого человека, показала ему камень и предложила: если он урвет за него шестьсот рублей, то треть — ему. Бывалый человек, конечно, не поверил, что булыжник чегонибудь стоит, но, потрясенный размером вознаграждения, взялся его оценить. Он легко нашел частника — ювелира и, смущенно посмеиваясь, положил перед ним камень. Тот посмотрел, на несколько мгновений потерял сознание, затем кинулся в соседнюю комнату и позвонил в КГБ. С дивной быстротой примчались три глухих машины с вооруженными оперативниками. Камень оказался легендарным изумрудом из креста св. Филиппа, митрополита всея Руси, задушеного Малютой по приказу Грозного. Тщетно разыскивали царевы шиши крупнейший в мире изумруд, не переставали искать его и в последующие века, но он как в воду канул. И архимандрит взорванного собора, конечно, понятия не имел, что владеет бесценным сокровищем. История изумруда до сих пор не открылась, но он занял почетнейшее место в Кремлевском хранилище. Энергичная директриса калязинского музея получила тринадцать лет, ее муж — три года, ему снизили срок за то, что он «добровольно», когда жена уже сидела, вернул властям туесок с камешками, доверенное лицо, — два года, ювелир — благодарность. Музей сейчас закрыт на переучет жернова, цепа, веялки и таблицы роста человеческого достоинства. Откроют его, видимо, не скоро. Едва ли найдется новый Никольский.
Мало того, что воруют все рядовые граждане, тут периодически снимают, сажают, выгоняют из партии начальников милиции, прокуроров, следователей. Рыба прогнила от головы до хвоста.
Но странное дело, на мой вечер, несмотря на сеноуборочную, отсутствие афиш, неучастие «партийного актива» (в райкоме вечер считали несвоевременным в связи с горячей порой) пришло столько народа, что все комнаты старинного особняка, в котором расположилась библиотека, не могли вместить желающих. Люди устраивались на полу, на подоконниках, на лестницах, в дверях. Было человек полтораста — и непонятно, откуда они взялись. Приехали из Исакова в грязнейших сапогах Анатолий и предколхоза и трогательно гордились своим недавним гостем. Анна Сергеевна, рыдая, произнесла вступительное слово, было много очень толковых вопросов, не оставлявших сомнения, что собравшиеся меня читали и зашли сюда не погреться. Я был удивлен, растроган и говорил хорошо. В разгар представления явились Гиппиус с Верой. Я сразу понял, что он в чемто не преуспел. В музее находился приезжий специалист из Калинина, что начисто исключило уединение, на которое Вера никогда бы и не пошла, и крайне усложнило присвоение малых ценностей. Но не исключило, ибо разочарование не было полным.
Мы пообедали у нас в доме, забрали манатки и поехали к Вере. Нам надо было возвращаться в Москву через Кашин, ибо старая дорога на Загорск стала непроезжей. Вера приготовила кофе, Гиппиус метнул на стол бутылку коньяка и коробку «пьяной вишни», я понял, что боевые действия возобновляются. А Вере хотелось разговаривать, отводить душу, а не ублажать старого таракана. Она интересно рассказала о последнем визите в Кашин Соломенцева, тогда еще Председателя Совета Министров РСФСР. Это было уже после перемены власти. Он примчался проверить на месте готовность скота к зимовке. Поскольку проехать можно было лишь в один пригородный колхоз, туда со всего района свезли сено и прочие корма. Он посмотрел и остался очень доволен. Спросил: не хуже ли в других, недостижимых местах. Его заверили, что там еще лучше, и предложили по обычаю распарить душу в сауне с коньячком, шашлыками и прочими радостями. Почемуто в русском представлении сауна ассоциируется «хитрым домиком», где гостя ублажают на всякий манер. Он строго отказался и прочел оторопевшему районному начальству мораль: о сауне забыть, это разложение. Но не удержался от соблазна «стрельнуть» лося без лицензии. На это его гражданского самосознания не хватило. Нельзя же сразу обрубить все канаты. Знатный ревизор уехал с очередной липой, а обобранные колхозы и совхозы никак(не могли вернуть одолженные на время ревизии корма. Вера рассказывала и другие замечательные случаи кашинской щедриниады, а Гиппиус изнывал от скуки и плотских вожделений. Чтобы освободиться от меня, он выставил вторую бутылку коньяка, которую держал в глубочайшем секрете, но сам охмелел, развалился, нёс какуюто околесицу, клевал носом. Потом он демонстративно разделся до грязнейших, обвислых трусов и улегся спать. Пришлось прекратить разговор и последовать его примеру, благо шел уже четвертый час.
Уехали мы рано утром. Гиппиус был вполне свеж и совершил лишь одну оплошность: желая записать Вере свой ленинградский телефон, вытащил по ошибке из бокового кармана кожаной куртки плоскую пачку пятидесятирублевок — было там не меньше тысчонки, а он всё время делал вид, что тратит последний рубль, да и то мой — сдачу с последней заправки.
Я почемуто не сказал, что жили мы в Калязине в доме той бедной молодой женщины, чей муж замерз в двух шагах от деревенского дома ее матери, где она перемогала трудную бере — менность. Они поженились всего полгода назад, и на буфете до сих пор стоят свадебные фотографии. Местных жителей потрясло лишь одно, что он был совершенно трезв и упал в снег от сердечного приступа. Пытался доползти до дома, но потерял сознание и замерз. Спохватились лишь через две недели. Молодая жена думала, что он в городе на работе, а тут были уверены, что он загулял дома. Никто не беспокоился, пока вдруг не обнаружили у околицы деревни полузанесенный снегом грузовик — он был шофером. Тогда стали искать и наткнулись на замерзшее, каменно твердое тело.
Вдова раз приезжала покопаться в своем огороде. Она до сих пор не разродилась и живет у матери. На вид — девочка лет шестнадцати и так странен острый, гусиной гузкой, животик. Молчалива, застенчива, с тихим детским голосом. В этой горестной истории странно соединилась древняя Русь с техническим прогрессом наших дней. В свою древнерусскую смерть парень прикатил на МАЗовском грузовике. Не распространяюсь обо всем этом, поскольку написал и опубликовал (!) рассказ «Колокольня».
Еще мы были в Угличе (туда пароходом, обратно поездом), но это чисто музейные впечатления. А Калязин и колокольня мне снятся, и я плачу во сне не облегчающими слезами.
Познакомились на приеме с Ирвингом Стоуном, автором книг о Гогене, Джеке Лондоне, о колонизации американского запада. Ему семьдесят девять, очень бодр, легок, незначителен. В мастерской Бориса Мессерера он разозлился, увидев граммофонный модерн и гринвич — виллиджевские претензии. Пулей выскочил оттуда с таким злым лицом, что стало ясно — это характер. А то он казался немудреным уютным дедушкой. Впрочем, я както не представляю себе его литературного масштаба. Наверное, хуже Моруа, а и тот не гений.
А печаль всё растет.
И вонь сгущается.
Раз началось тотальное улучшение литературы, значит, дело швах. Хуже, чем мы думаем. Будь хоть малейшая надежда, занимались бы совсем другим. А тут: задернем шторки, пустим музычку и будем думать, что мы едем. Но чтобы Кавалер Золотой звезды вновь стал любимым героем, надо посадить двадцать миллионов человек. Впрочем, ради святого дела литературы начальство ни перед чем не остановится.
На втором монинском семинаре был парень Рустам Галимов — татарин, бывший детдомовец, рабочий, опубликовавший в «Новом мире» два милых стихотворения. Но на семинаре он присутствовал в качестве прозаика, хотя лучшим у него оказалось стихотворение о первом крике младенца. Мне удалось протолкнуть его в «Сельскую молодежь». Галимов мне понравился: хорошее лицо, искренность, даже неотчетливая, сбивчивая речь была обаятельна. И вдруг отчегото испугавшись за него, я сказал: «Если вы не погибнете, то станете большим писателем». Это произвело на него удивительно сильное впечатление, он взволнованно просил меня сказать, что проглянул я в его судьбе. «Вы умеете предсказывать будущее», — смятенно твердил он. Никакие разубеждения не помогали. Самое удивительное — я оказался провидцем. После семинара он бурно пошел в ход: публикации в периодике, книга принята издательством «Молодая гвардия», СП дал ссуду, командировку, на работе предоставили творческий отпуск, дали квартиру. Затем всё стало рушиться. Он сломал нос заведующему отделом поэзии «Дружбы народов» (тот непочтительно отозвался о Блоке), сам был зверски избит в милиции, долго болел, мучился головными болями, но, едва справившись, набил морду редактору поэтического отдела «Сельской молодежи» (опять же по причинам литературным). Разгневанный Попцов не стал обращаться в милицию, он сделал хуже: выбросил из номера цикл галимовских рассказов и накапал в «Молодую гвардию». Издательство, вместо отдельной книжки, оставило бойца при «маленькой на троих». Эта книжка недавно вышла, но Рустам не дожил до ее появления: в десять дней сгорел от лейкемии. Болезнь ускорила неотвратимое: начисто лишенный инстинкта самосохранения, он был обречен. У меня остался его замечательный рассказ. В отличие от злосамолюбивого Кравченко, Рустам был мягок и нежен; алкоголь лишал его остатков самоконтроля — очертя голову, он кидался в бой за свои идеалы — Приезжал Андрон с молодой женщиной Гизеллой. Она замужем за внуком недавно умершего миллиардера Гетти. Этот внук — наркоман, полностью разрушившийся к двадцати шести годам. Сейчас он лежит парализованный, почти слепой в своем доме в Лос — Анджелесе, под присмотром медицинской сестры. А отец его, тоже наркоман, объявленный недееспособным, догнивает гдето в Англии. В свое время история похищения внука Гетти и Гизеллы (тогда еще невесты) наделала много шума. Дедушка — миллиардер согласился уплатить вы куп, лишь когда ему прислали ухо внука. По освобождении молодые люди поженились. Гизелла родила мальчика — наследника миллиардов Гетти. Тут она завязала с наркотиками, но муж ее не мог да и не хотел остановиться. К ней сватался знаменитый соперник Рейгана, губернатор Калифорнии Браун, но дело почемуто не сладилось. Боясь киднеппинга, она отправила сына к родителям в Германию (ее папа был егерем Геринга). Она очарована Андроном, а он — тем наследством, которое ждет ее сына. Сегодня очарованные странники вместе с наследником обедали у нас на даче. Обращенные Андроном в вегетарианство, мать и сын жевали зелень, а сам проповедник сыроедения обжирался рябчиками с хрусткой картошечкой. Над нашим скромным столом витали тени Гетти, Брауна, Геринга, наркоманов, гангстеров, Гизеллиной золовки — сифилитички, пытающейся ее заразить, Михалкова — пера, Кончаловского, Сурикова, Рахманинова, соединившего нас с Андроном, разных мультимиллиардеров и мультимиллионеров. Было интересно, гнило и гадко, как на балу вампиров.
Произошло возвращение Муина Бсису. Мы встретились в ЦДЛ, где я угощал обедом венгерских киношников. Он изменился до неузнаваемости. Теперь он похож на постаревшего, облезшего, утратившего всякое обаяние Бельмондо. Он уже не элегантен, у него длинные нечистые спутанные волосы, погасшие глаза, кариозные зубы, серая кожа. Он только что из Бейрута. Впрочем, всегда считалось, что он прямо с переднего края. Он и был с переднего края очередной любовницы. В блудливо — пьяном полузабытьи слонялся он по Европе, весьма редко сворачивая к родному очагу, где старая жена и куча детей. Но сейчас всё без обмана. И это доканало его. Конечно, все претензии были сняты, мы поцеловались, он вытер слёзы. На другой день он приехал в сопровождении очень неглупого переводчика Сережи. Грустный, растроганный. Когда выпил, немного повеселел, стал чуть — чуть похож на прежнего Муина. Удивило, что он помнит мельчайшие подробности наших встреч и случайных людей, которые здесь болтались. Оказывается, эти обильно политые виски встречи немало значили в его душевной жизни. В нем, как ни странно, стало больше литературного тщеславия, прежде оно почти не ощущалось. Но это понятно. Тогда он захлебно пил «из чаши бытия», сейчас для внешней жизни почти не осталось сил. То, что не забрали бабы и алкоголь, прикончили бомбежки.
Громили Бейрут страшно. Но всё старались сделать с воздуха, в рукопашную сыны Израиля не рвались. Я думал, в них больше фанатизма. Но они предпочитали вакуумные бомбы с непредсказуемым полетом. Им противостояли «катюши» и чтото более современное, но далеко не последнего фасона. Тяжкая и безнадежная история. Плохо, плохо живет мир. Сколько прошло мимо нас людей «изза бугра», и в каждом какоето неблагополучие. Плачущий Портер, раздавленные Брещинские, охуевший Мунир, несчастный Муин, печальнейший Мурад, издерганная Гетти, растерянный Клавель, лесбиянка на службе гомиков Гощило, жалчайший Маджуб, даже преуспевающий Стоун не оставил впечатления уверенности, силы…
Прочел пакостнейшую поэму Евтушенко «Мама и нейтронная бомба». Советские читатели встретили ее с чувством глубокого удовлетворения. Мама — киоскерша не любит нейтронную бомбу, она любит обычную водородную, родную, свою. Такого бесстыдства не позволял себе прежде даже этот пакостник. И никого не тошнит. Вкус и обоняние отшиблены начисто.
В чем дрянность книг типа бажановского «Рахманинова», расхваленного на все лады нашей печатью? Если верить таким книгам, то у великих людей не бывает ни трагедий, ни несчастий, ни ошибок, ни заблуждений, ни дурных поступков. И никакой вины у них быть не может. Даже то, что Рахманинов эмигрировал, поистине фантастическим вольтом преподносится как любовь к России, как высшее проявление патриотизма. Рахманинов, подобно Шаляпину, Алехину, Бунину, Гречанинову и иже с ними, испыывал нечеловеческие муки вдали от Родины, эмиграция обрекла его на бесплодие, но возникает естественный вопрос: почему же он не вернулся? Сразу прекратились бы все муки, фонтаном забило бы творчество, но в какомто мазохистском ослеплении ни один из названных страдальцев не подумал вернуться. Наверное, Бажанов при всем своем угодничестве не допускал мысли, что Рахманинов мог бы вернуться в советскую Россию.
Вчера были в гостинице «Москва» на приеме, который Устроила в честь своих бывших любовников Ляля Малхазова. Лазарь драматизировал событие, сказав, что она прощается с Жизнью, пораженная той загадочной и роковой болезнью, которая в литературе прошлого века называлась «неизлечимым недугом». Слава Богу, это оказалось не так. Она приехала в Москву, богатая ашхабадская старуха, пожуировать жизнью со своими сыновьями и невесткой. Сняла роскошный номер люкс, вернее, апартаменты, и закатила поистине царский банкет. Ей хотелось показаться во всем блеске и собственной семье, и нам, бывшим кавалерам. Она потребовала, чтобы мы тоже явились семейно. Поскольку собак и кошек в отель не пускают, мне сопутствовала одна Алла, но Лазарь прибыл сам четвертый — жена, дочь, внук, кстати, прелестный мальчик. Старшего Лялиного сына зовут Юрий, и как ни дико, имя ему дали в мою честь, о чем говорится открыто. Оказывается, покойный Лялин муж профессор Лабок, бежавший в Ашхабад из города Ленина в нору «врачей — отравителей», чудовищно рев новал Лялю ко мне, не позволял ей ездить в Москву и требовал, чтобы сыну дали какое угодно имя, но только не Юрий. Ляля была верной и преданной женой, но тут она стала насмерть. И врач — отравитель вынужден был смириться. За несколько месяцев до его смерти Ляля принесла ему второго сына. На смертном ложе он взял с Ляли слово, что она не увидится со мной, пока не женится второй сын. Ляля поторопилась его женить, едва он вышел за порог школы, и сразу ринулась в Москву. Надо же, какую страсть я внушил студентке-первокурснице в далеком 1946 году!
Помог коньяк. Когда семьсот пятьдесят граммов заплескались в желудке, я вспомнил, как мила и трогательна была юная Ляля, литр золотистой жидкости исторг из меня слёзы, а там ярко вспыхнули все, какие ни на есть, огни эмоций. Но если отбросить в сторону дешевый юмор, то это поразительно: она через всю жизнь пронесла память о романе, длившемся один месяц. Это было тридцать шесть лет назад. Мы не встречались, не переписывались, но она покупала все мои книги, вырезала мои фотографии из журналов и газет, расспрашивала обо мне всех приезжавших из Москвы людей и всё про меня знала. По — моему, это более невероятно, чем любовь Анны к Павлу («Терпение»). А напиши — скажут: романтические бредни, высмеют.
Серьезность и качественность этой встречи подтвердились тем, что Юра стал нашим постоянным гостем на даче, между нами возникла нежность. А потом и младший Саша тоже стал другом.
Характер Рахманинова и манера поведения — защитная скорлупа души — созданы нищетой и унизительной зависимостью, испытанными в юности, и критической травлей, про шедшей сквозь всю жизнь. Чайковского, хоть поздно, хоть на исходе, увенчала всемирная слава, Рахманинову — композитору не удалось добиться даже относительного признания. Оно пришло к нему лет через тридцать после смерти. Он был омраченным человеком. Многие думали, что чопорный, похоронный вид — поза пресыщенного успехом виртуоза, а то была вечная печаль непризнанности.
Что там ни говори, а история с Лемешевым дорогого стоит. Мог ли я думать, что моя очарованность им двинется в сторону чуть ли не отвращения? Скорее земля начнет крутиться в другую сторону, чем я изменюсь к Лемешеву. Ан нет!.. Вначале он както странно съежился в своей трусливой дочери. ДоносительсКая деятельность вдовы Кудрявцевой (писала в Госкомитет печати, чтобы мне запретили выступать о ее муже), подлое предательство ею человека, обнажившего шпагу за честь Лемешева, тоже не украсили Сергея Яковлевича. Двадцать с гаком лет прожил он с этой женщиной, последние годы — в рабском у нее подчинении, — это не говорит в его пользу. Кудрявцева — монстр. Со слезами на глазах, в присутствии Казанцевой, Аллы, Грошевой, Тимофеевой и ее мужа она умоляла меня заступиться за Сергея Яковлевича, гнусно обхамленного Ансимовым. А сейчас она «осуждает» меня за грубый тон моего ответа этому подонку. Лемешистки объясняют ее выходки ревностью: мол, она дико обозлилась на мои похвалы Масленниковой. До чего ж тухлые гадости говорила она в мой адрес Гале, когда та позвонила ей по телефону, чтобы призвать к порядку! А кто вытащил Лемешева из забвения, почти сомкнувшего над ним свой черный свод? И я первый назвал его по телевизору и печатно «великим», Архипова повторила, а сейчас это стало постоянным эпитетом. Я написал о нем так, как не писали ни об одном певце, я вновь сосредоточил вокруг него не просто интерес, а страсти. Даже люди равнодушные обращают внимание, как часто зазвучал он по радио. А сколько пришло писем!.. Да что там говорить, Кудрявцева должна Богу за меня молиться, а она злобствует, шлет по начальству доносные письма, распускает грязные слухи.
Я до конца расшифровал историю с Кудрявцевой. Ни при чем тут ее ревность к Масленниковой, она не кривила душой, когда в ответ на Галины упреки сказала с пренебрежитель ным удивлением: «Да плевать я на нее хотела!» Но она хорошо знала, куда бегал жаловаться Ансимов, какие могучие силы подмял против меня этот пролаза и мерзавец, и трусливое сердце сжалось страхом перед грядущими карами, которые могут задеть краем и покойного Лемешева, и ее — беспомощную вдову. Тем более, что ее наставница, старуха Грошева, испугавшись за свой сборник, напустила полные штаны и выбросила мой материал. Ясно, что дело пошло всерьез. Надо было срочно отмежеваться от меня и от моих грязных клеветнических писаний, что и было сделано. Она потребовала от Госкомитета печати раз и навсегда запретить мне писать о Лемешеве, не пачкать его моим грязным языком.
Впрочем, и это еще не вся истина. Рассвирепела она окончательно после маленьких рассказов в «Неделе». Махровой мещанке показалось, что я унижаю Лемешева. Ведь то же самое показалось и доброй Собакиной. Советские люди начисто лишены чувства юмора и простого человеческого тепла, вот почему дх шокируют мои рассказы об исторических личностях. Говорить о них положено только с колен, увязая языком в патоке и меде. Мои соотечественники куда страшнее, чем я способен их вообразить.
Сколько читал по Рахманинову, а образ не высвечивался, хоть плачь! Даже у Шагинян с ее глубокомыслием, изысканной лексикой и правом на интимность — пустота. Каким рисуется в мемуарах Рахманинов? На людях — молчун, суровый от застенчивости, среди своих — неуемный весельчак, сплошное очарование, прелесть, прелесть, прелесть!.. Но ничего очаровательного и прелестного я найти не мог, как ни старался. Веселость обнаруживалась лишь в назойливых, неостроумных прозвищах и глупых присказках в духе недалеких чеховских персонажей. Много старческого умиления над внучками, боязнь скольнибудь серьезных разговоров, педантизм и безоглядная погруженность в быт. Понятно, что серьезный и глубокий Метнер только руками разводил.
А вот у Свана (англичанин, теоретик музыки, друг Рахманинова) мелькнул значительный и умный человек. Одно рассуждение о крайней ограниченности творческой личности чего стоит! О зашоренности творца, о его безнадежном эгоцентризме. Как свободно и сильно работала мысль Рахманинова! А до чего точно, проницательно увидел он семью Льва Толстого и весь перепут семейных отношений. Подтвердилась моя догадка, что Толстой углядел на нем ненавистный отсвет Танеева, к которому душно ревновал Софью Андреев ну, и потому сразу невзлюбил. Тут коренятся все злые глупости, какие он обрушил на Рахманинова, дело вовсе не в желудочных коликах, как думал Чехов. Всё у Свана умно и живо, наконецто открылось, что Рахманинов не только бренчал на рояле с утра до ночи, лечился, зевал, дурно шутил и благотворитльствовал, а напряженно размышлял, глубоко жил, имел отношение ко всему окружающему, в корень видел людей, что он был крупной личностью. Тошнотворно вечное обмазывание великих людей сладкими слюнями. Но бороться с этим невозможно. Как в Англии существует теневой кабинет оппозиции, так у нас негласно признан теневой кабинет из ушедших гениев. Глава — Пушкин, 1–й зам — Лев Толстой и т. д. Номенклатура, контингент, руками не трогать!..
Встали в 4.30, выехали в аэропорт в 6.00, приехали в 7.00, за час двадцать до отлета, уже объявленного. После этого до 14.40 длилась пытка с откладыванием рейса. Почему мы не летели — непонятно. Венгерский самолет прилетел из Будапешта минута в минуту и так же точно вылетел в обратный рейс. У природы всетаки есть плохая погода, но только для «Аэрофлота». Около 14.00 возле нашего самолета началась какаято вялая, неумелая возня. Под брюхом у него крутились подвыпившие слесаря — мальчишки, вроде жэковских умельцев, долго не могли найти ключ от багажника, все друг на друга орали, но добродушно, потому что делото пустяковое. Казалось, что мы не на берегу воздушного океана, а на станции почтового тракта пушкинских времен. Ладно, в конце концов вылетели и даже долетели.
Погода в Венгрии, конечно, была отличная, а не летели мы, потому что пассажиров было мало, неохота керосин тратить. И вот первое разочарование: мадам Кальман с сыном, дочерью и женой сына улетали через несколько минут после моего пребытия. «Верушка» Кальман, видать, была красива в молодости. Ей семьдесят один, но она стройна, сухощава, элегантна, подтяжка и прекрасная косметика держат лицо, движения женственны и даже кокетливы. Сыну Чарльзу 53 года, высокий, лысоватый, хорошо одетый; он композитор, сделал оперу по «Фабиану». Сюда они приезжали на премьеру «Марицы» и на «Кальмановские дни». Они видели «Чайковского», «Дерсу Узала», встретили меня с энтузиазмом, недостаточным всё же для того, чтобы поставить рюмашку. В фильме про незабвенного Имре заинтересованы морально — не очень, но материально — весьма. Впрочем, они планировали какойто междусобойчик, сорванный «Аэрофлотом».
Отель у меня отличный, не хуже «Хаммер — центра», а по номеру так и лучше, но цены сумасшедшие, роскошествовать не придется. В общем, надо сделать работу и не длить искусственно своего пребывания здесь. Всё стало недоступно небогатому и нечиновному человеку. В чем, в чем, а в смысле цен социалистический мир почти не уступает миру наживы. Ладно, надо дело сделать, остальное не так важно. Грустно, что у меня тут никого нет, как, впрочем, и во всем остальном мире.
Утром пришли: режиссер Габор Колтай, редактор Катя и переводчица Ольга. Обсудили программу. Они принесли кучу материалов. Режиссер производит впечатление человека рассеянного, несобранного или же чтото не решившего. Редактор деловита, серьезна, точна. У переводчицы обострение? йвы, она нервна и раздражительна. По завершении переговоров Ольга наивно пыталась пристроить меня к дешевой посольской столовой. Разумеется, столовая давным давно закрылась. Нам объяснили, что поесть советскому гражданину можно в столовой при комендатуре, в трех — четырех километрах отсюда, «если пустит солдат». В этом было чтото опереточное. Пообедали в кафетерии самообслуживания. Я видел, как одноногий калека примерно моих лет, извинившись перед дамой и деликатно улыбаясь, втиснулся с костылями за соседний столик и стал доедать чьюто еду. Незабвенный Иван Денисович, подголадывая в лагере, считал последним делом вылизывать чужие миски и знал, что скорее умрет, чем пойдет на это. Неужто этого калеку так допекло, или еврейский бедняк менее брезглив и щепетилен?..
С плохим обедом в желудке прошелся по улице Вацци — местный вариант знаменитой римской улицы «Сладкой жизни»[127]. Венгерская сладкая жизнь не так уж сладка. Товара, вроде бы, много, а купить нечего. Разговоры о буме, о всяких чудесах несколько преувеличены. Есть еда, что для социалистической страны уже чудо, есть посредственные вещи местного производства, импорт почти отсутствует (исключение: часы, электрические бритвы, обувь, возможно, парфюмерия), построены два — три новых отеля, много ремонтируют. Есть кабаре и казино, но это, как и рестораны с их фантастическими ценами, — для фирмачей и «частного сектора», который не так уж мал. Служащим и рабочим сладкая жизнь не по карману. В искусстве и литературе свободы неизмеримо больше, чем у нас, широкая и правдивая информация позволяет населению знать, что происходит в мире. Им сообщают факты, а не отношения официальной идеологии к этим фактам. Люди жалуются на растущую дороговизну жизни — словом, до Эдема еще очень далеко. Но Кадар позволяет себе порой ходить без охраны.
Был на Дунае в том самом месте, где когдато прощался с Элли. Ничего не дрогнуло, как ни провоцировал я «движение души». Могучий эгоизм старости шутя гасит сентиментальные потуги памяти оживить прошлое. Вечером в ванне поразился безобразности своего старого серого тела. Какой же я стал сволочью в физическом смысле!
Звонила Алла. Перед этим я с омерзением вспоминал, как растерял все деньги у станции метро, когда покупал билетную книжечку. Я патологически беспомощен в практическом мире, это чтото мозговое. Потом люди без конца возвращали мне сотни и тысячи. Ничего не пропало. Аллин звонок, как всегда, был счастьем. Вот всё, что мне осталось. И странно — лишь в последний момент я вспомнил о Прошке.
Смотрел «Королеву чардаша» — плод совместного безумия Венгрии и ФРГ. Итальянское сопрано и какойто немчик — в главных ролях. Режисер бездарен умопомрачительно: ни темпа, ни легкости, ни изящества, ни юмора, и потом — азбучная истина — нельзя снимать оперетту на натуре. Это ничуть не оживляет оперетту, напротив, подчеркивает ее искусственность и условность и напрочь убивает природу. Потом смотрели очень хороший фильм Габора Колтая «Концерт» об ансамбле Иллеша. Ансамбль имел ошеломляющий успех, объездил всю Европу, записал множество пластинок и распался изза распрей руководителя — ударника с главным солистом Сираиом Левентой. Сторону Левенты взял второй солист и автор многих песен Броди. Но чувствуется, что дело не только в этой распре, а в том, что ансамбль начал утрачивать связь с молодежной аудиторией. Он перестал угадывать, что нужно молодежи. А молодежи всё остоебенело. Габор подходит к сути дела там, где звучат стихи Петефи, но последнего шага не делает, не может сделать. Но и на том спасибо. Ради такого парня стоит постараться. И хоть в первом варианте поиграть мозгой. И главное — найти форму, дающую возможность для фокусов и для слёз.
Смотрел «Мраморного человека» и страшноватый мультфильм о г — не N, от первого ожидал большего, уж очень всё не мускулисто сделано, бесконечные хождения, пустая трата фильмового времени и крайне наивное изображение сталинизма.
Делал покупки с Евой, потом пили кофе с вкуснейшим тортом в уютном кафе кальмановских времен. Почему моим жалким соотечественникам недоступна даже такая малость? Мои записки по своей содержательности начинают походить на дневники Ники Романова[128]. Нет только сообщений о подстреленных воронах.
Будапешт хорош, прекрасны старые деревья, полноводен Дунай, но всё это мало волнует. Город не виноват, его старания нравиться разбиваются о мою старость. Я чувствую себя хорошо, лишь когда занят делом, работаю. Всё остальное или пусто, или докучно. Мне бы хотелось сблизиться с Будапештом, ведь когдато я его любил.
Меня увлекает работа над Кальманом. Интересно решать разные литературные задачи, если ты не пророк, как Достоевский и Л. Толстой, а свободный человек, вроде Чехова. Он почти вровень с ними, но не гнул выи перед идеей, был внутренне божественно свободен. Только он мог сказать соершенно невероятные для русских литературных титанов слова: …вот бы еще водевиль написать хороший, тогда и помирать не страшно. Я цитирую по памяти, но за точность мысли ручаюсь. А ведь он у. же написал «Мужиков», «В овраге», «Степь», но почему бы не потешить себя самого и добрых людей? Окружающие — венгры в первую голову — крайне неодобрительно относятся к моему намерению писать о Кальмане. «Вы же серьезный писатель!..» Они презирают Кальмана за популярность, общедоступность, за то, что он не озадачивает, как Барток или Кодай; раз он им понятен, значит, недорого стоит. Люди охотно развенчивают тех, кто приносит наибольшую радость: Верди, Чайковского, Кальмана, Дюма, Джека Лондона; в Америке стало модно оплевывать Хемингуэя, французы третируют Мопассана, в грош не ставят Анатоля Франса. И у нас на какоето время развенчали Пушкина. Сальноволосые студенты орали, что он в подметки не годится «гражданственному» Некрасову. Этот список можно пополнить Рубинштейном, Рахманиновым. Особенно беспощадно судят музыкантов. Нет ничего грубее музыкальной критики. Может быть, причиной тому чувственный характер музыки, разнуздывающий страсти?..
Я немного напоминаю «склочного немчика» Генриха Марию Заузе из «Золотого теленка», который всё время требовал работы в липовой конторе «Геркулес», не желая удовлетворяться банкетами и пикниками в его честь и регулярно получаемым высоким жалованием. Моя неуемная и противоестественная жажда дела смущает, тяготит и настораживает гостеприимных хозяев. Уж не провокация ли это?.. Они предлагают мне сменить отель на еще лучший, устраивают просмотр за просмотром, не знают чем угостить, предлагают заманчивые путешествия. Режиссер скрылся от греха подальше. Остальные тоскуют, мучаются, но к делу лицом не поворачиваются. У меня такое впечатление, что и Кате порекомендовали: поменьше рвения. Тут привыкли, что мои соотечественники приезжают «пожуировать жизнью» и пошманать по магазинам. Они проявляют живейший интерес к моим ВААПовским заботам, покупкам, чревоугодию и делают холодное лицо, как только речь заходит о Кальмане. К тому же они чегото боятся. Дороговизны фильма, осложнений с наследниками, социологической скуки, которую советский автор непременно нагонит в сценарий? Да и вообще им не хочется сотрудничать с нами. Это тягомотно и невыгодно. Мне сказали в посольстве: венгры считают, что с русскими нельзя иметь дела. Они боятся получить «Кальман на целине» или «Кальман в борьбе за мир». Я всячески стараюсь дать им понять, что такого не будет, но они мне не верят.
Иду на прием в посольство. Напялил черный блейзер и понял, что опять чудовищно растолстел. Боже, а ведь я был худым и стройным. Но хотел бы я вернуть молодость? Нет. Пусть всё катится к своему естественному концу.
Прием прошел на высшем уровне. Я познакомился с Яношем Кадаром и провел с ним беседу о Кальмане. У меня не создалось ощущения, что постановка фильма об авторе «Княгини чардаша» вызвала восторг у очень умного, приятно ироничного главы государства. Я сказал ему об этом. «Нет, отчего же… Но вообще вы не должны ждать, что венгерская интеллигенция сойдет с ума от счастья, увидев Кальмана на экране. У нас многие считают его венским композитором. Или эмигрантом». — «Но ведь это не так. Легар растворился в стихии венского вальса, а Кальман остался вере» чардашу». «Докажите это, — опять улыбнулся Кадар. — А равно и то, что у него не было пристрастия к людям с двойной фамилией». Я заверил, что именно в этом вижу свою цель. «И поменьше сахара», — сказал Кадар. «Мы вернем Венгрии ее блудного сына, — совсем разошелся я, потому что всё время прихлебывал из рюмки. — У вас станет на одного гения больше». Он засмеялся и развел руками. «Благословите нас на подвиг». «Желаю удачи», — сказал он чуточку суховато. По — моему, я ему надоел, к тому же он не привык к возражениям при всем своем хваленом демократизме. Наш посол прислушивался к разговору с мрачноватым видом, чтото ему не нравилось, разумеется, во мне. Кадар двинулся дальше и заключил в объятия своего старого друга Чухрая, который заранее со всем согласен.
Сегодня ездили в очаровательный маленький городок Сант — Андре. Здесь живет много художников, скульпторов, гебистов. Интересна посмертная выставка М. Корач. Обедали в старом ресторанчике.
Разговаривал с критиком Палом (фамилию занамятывал). Это как бы приобщение к первоисточникам, ибо он не только современник Кальмана, но видел его раз — другой в Вене. На полном серьезе он угощал меня байками из книги Верушки, которую я уже прочел.
А человек милый и трогательный — почемуто захотел перейти со мной «на ты». Ни одной собственной мысли не высказал, ни одним личным наблюдением не поделился но причине отсутствия таковых. Я сразу уверился, что и от других «специалистов» но Кальману ничего не узнаю. Они стесняются говорить о нем хорошо, ведь «Венгрия — страна Бартока, а не Кальмана». До чего омерзительны спесь и узость малых народов. Австрия, которая когдато была великой державой, но стесняется быть страной Моцарта и Штрауса, а Франция — Дебюсси и Оффенбаха. Шостакович рвался к оперетте, но расшиб себе лоб и тогда понял, что Кальман — гений и сказал об этом вслух. А здешние лилипуты открещиваются от своего гения, — хотя до сих пор слушают его с удовольствием, — они слишком серьезная нация и не хотят, чтобы их заподозрили в пристрастии к «красоткам кабаре». Идет великое мировое оглупление. Идиоты не только у нас, они завладели миром.
Узнал о болезни Иры Донской. Рак, задушенный двадцать пять лет назад, вернулся. Это конец. Но прожила Ира эти го ды так, будто над ней не висел домоклов меч. Она была на редкость мужественным и радостным человеком. У нас была «озарная», как пишут самые гадкие из советских писателей, любовь во ВГИКе. Оказывается, Марк Донской умер два года назад, а я и не знал. Так и не передал ему привет от племянника Дончика из штата Техас. Мы встретились с этим юношей в Остине, в студенческом автобусе. О Марке теперь все хорошо, умиленно говорят, вдруг оказалось, что он был самобытным, остроумным, находчивым человеком, а при жизни его дружно считали сумасшедшим.
Ездил осматривать «кальмановский Будапешт», от которого сохранилось на удивление много. Заходил в гимназию, которую он кончал, внутри она напоминает елецкую гимназию Бунина и Пришвина. Был в консерватории, украшенной по фасаду, на уровне второго этажа бронзовым Листом. По венгерской традиции «жизненное пространство» Листа носит имя не то Мора Йокая, не то Ади. Зато в честь Листа названа улица, связанная с Аттилой Йожефом. Пили кофе в любимом ресторане молодого Кальмана, месте сборищ актеров, журналистов, музыкантов, писателей, художников; напротив сохранился дом, где некогда находилась газета, музыкальным обозревателем которой был Кальман. К сожалению, Королевский театр снесен, а «то место, где находился», мало волнует. Обедали в чудесном старом ресторане, возле зоопарка. Здесь царит старинный стиль: вкрадчивые и ловкие официанты, величественный метрдотель, закованный в пластрон и жесткий черный фрак, тихая цыганская музыка, за огромными окнами прекрасные желтые деревья.
Потом перечитывал некоторые куски из воспоминаний Верушки. Всетаки это страшная стерва. Но история ее развода с Кальманом, а точнее, возвращения — для меня темна. Что заставило ее вернуться? Любовь к детям, как она пытается изобразить? Чтото плохо верится. Жуткий характер ее нового мужа, которого она совсем не знала? Думаю, что последнее. К тому же она успела хапнуть его деньги, и он стал ей не нужен. Правда, Кальман заставил ее эти деньги вернуть, о чем она сама пишет с поразительным бесстыдством. Она вернулась к Кальману, вторично оформила с ним брак и на радостях купила фантастически дорогое манто из платиновой норки. Значит, Имрушка не был так уж беден. А что если вся история с французом была чистой авантюрой с расчетом выудить у него Деньги? И Верушка, и ее мамаша были настоящими хипесницами. Свое первое шантажное мероприятие Верушка осществила в пятнадцать лет, о чем сама рассказывает с очаровательной наивностью. Всё было проделано безукоризненно, но прогорела она на порядочности Кальмана, в которую, очевидно, не верила. Она была глупа, невежественна и неразвита, но житейски востра, хитра, беспредельно цинична и необычайно красива. Всё это плюс тридцать лет возрастной разницы между нею и Кальманом делали ее хозяйкой положения. Старость его была горестной.
Смотрел два фильма: полумаразматический Бергмайа «Змеиное яйцо» с Лив Ульман; впечатление такое, что фильм сделан из отбросов — идей, декораций, реквизита, актерской биржи; и едва ли не еще более глупый — местный «Синдбад», на котором интеллигентные венгры буквально помешаны. Режиссер фильма Кухарчик был так потрясен собственным творением, что покончил с собой, поскольку дальше идти ему было некуда. «Синбад» — это путешествие не в пространстве, а по женским промежностям. Свою тусклую одиссею герой сдабривает обжорством. Всё это должно изо бражать зловещее обаяние и опустошенность венгерской буржуазии кануна первой мировой войны. Феллини для самых бедных. Но снято красиво, к тому же оператор угостил зрителей рыжей пиздой своей жены и еще двумя в темных колерах — и на том спасибо.
Завершился день в кафе «Жербо» (частная антреприза), где жрал сладкую венгерскую галушку, запивая дивным кофе со взбитыми сливками. Стоило жить!..
Когда я начинаю сочинять, то чудовищно, мучительно возбуждаюсь. Это и раньше бывало, но не в столь резкой форме. Сейчас во мне прямо всё дрожит. Я внутренне мечусь, да и физически не нахожу себе места.
Был в гостях у Маргариты Петровны, русской, советской гражданки, вышедшей замуж за работника венгерского КГБ, бывшей артистки Московского театра оперетты. Она пела на венгерской эстраде, а потом обзавелась маленьким ресторанчиком, где была и хозяйкой, и барменшей, и по вечерам певицей. Исполняла она советские песни и романсы. В то время как Маргарита сеяла разумное, доброе, вечное в душах посетителей ресторанчика, муж это разумное, доброе, вечное сажал, — каждый старательно трудился на своем участке.
Маргарита Петровна рассказала мне о своей героической деятельности в грозном 1956–м году. Кругом стреляли, а она — за стойкой — неутомимо пела советские марши, и посетители вставали, такова была сила правды, помноженная на искусство. В заварушке виноват отчасти Матиас Ракоши, объяснила Маргарита Петровна. Он приказал вырубить плодовые сады, а землю запахать под виноградники. Доходы от виноделия должны были обеспечить скорейшее развитие тяжелой индустрии. Это вызвало недовольство, чем не преминули воспользоваться наши враги. В результате было побито много венгров, расстрелян крупнейший венгерский революционер Имре Надь, а торопыга Ракоши отправлен в Советский Союз на теплое пенсионное доживание. Словом, всё кончилось хорошо, чему немало способствовали мужество и вокал Маргариты Петровны и, надо полагать, бдительность ее мужа. И в эти трудные минуты она сеяла, он сажал.
Ныне она передала ресторанчик другой энергичной даме, построила в Сант-Андре дачу от трудов своих и перебралась туда с удалившимся на покой мужем. Теперь она поет только для своих, а он сажает фруктовые деревья. Очарованный ею, я щедро пообещал ей роль Верушки Кальман. Непонятно, что я имел в виду: даже в семьдесят с хвостиком Верушка не достигла распада нашей мужественной соотечественницы. По-настоящему в этом доме мне понравился старик — пудель, бравший в рот туфлю, как только раздавался звонок у входной двери.
Был в издательстве «Европа» у главного редактора с бегающим взглядом и какойто жуликоватой повадкой. Не понравился он мне. И я себе не понравился. Не дал отпора его ерническому, плоскому шутливому тону. Он принял меня за «партайгеноссе», что определило неестественный, деланный тон встречи.
Сегодня мне сказали, что умер Жан Маре (потом оказалось, что это ошибка). Я вспомнил о вечере, проведенном с ним за одним столиком в ЦДЛ. И вдруг меня грустно удивило, что я в его памяти начисто не сохранился. Как неравноценны люди друг для друга. И самое странное, что память обо мне будет куда долговечнее, нежели память о нем. О киноактерах забывают чаще всего еще при их жизни. Б&гаделыш — царство забвения — удел актеров, а не писателей.
Похоронный марш (Шопен. Соната № 2) в нашем стеклянном, прозрачном лифте, заменивший шубертовскую «Песнь», обнадежил душу догадкой о другой кончине. Тут оказалось без обмана.[129]
Смотрел картину Бергмана «Частности семейной жизни»[130] с Ульман и Биби Андерсон. Отличная картина. Почти без событий, без скольнибудь серьезных коллизий, а как смотрится! Жаль, что диалоги на грани пошлости. Мысли порой не вовсе плохи, но выражены на собачьем языке. Как играет Ульман! Бред семейных отношений — ее стихия, и она развернулась вовсю. А еще смотрел картину Вайды. В художественном отношении опять не Бог весть что, но впечатляет. Мощно использована хроника.
Смотрел фильм Золтана Фабри «Сколькото слов из неоконченного предложения»[131]. Профеллиненное насквозь зрелище. Гдето в середине картины Фабри начал обретать свое лицо, и в результате получилось. Звериное лицо пролетариата, органически неспособного сблизиться с интеллигенцией. От двух последних виденных мною картин остается до дна прозрачная истина: есть власть и те, кто под ней. А кому власть принадлежит, не играет ровным счетом никакой роли. Какая разница с этической точки зрения, на чьи плечи и головы опускается резиновая дубинка. Замечательно всё же жить в пору крушения величайшей и, надо полагать, последней иллюзии.
Опять меня таскали в Сант — Андре — местный Версаль. Осматривал выставку 82–летнего ветерана венгерского изобразительного искусства. Был кусок мозаики: черные жутковатые женщины в тягостно — напряженных ракурсах — сильное впечатление. Остальное — провинциальный абстракционизм и ташизм. Сухо, холодно, жестко, неинтересно. Сам патриарх еще бодр и разгуливает по улицам Сант — Андре. Оказывается, мне его показывали в прошлый раз, но я по обыкновению не расслышал.
Мир наполнен браком. Сплошь бракованное искусство, бракованная литература, бракованные зрелища, бракованная политика, бракованные распоряжения власть имущих, их действия, их уход. Всё фальшь, бред, грязь, ни в чем ни тени правды, но все сговорились считать грубые подделки подлинниками. Я смотрел по телевизору похоронную церемонию. И церковь, и Бога запутали в свои сатанинские игры. Господи, как же Ты допускаешь это? И никому не стыдно. Все хладнокровно делают свой бизнес: преемники, осиротевшая семья, приближенные, родня. Финал истории счастливца доконал меня. Нет возмездия, нет отмщения…[132]
Был у Андраша, отпустившего бороду и усы. Визит довольно унылый. Пример не благородной и не похвальной бедности. Они с женой зарабатывают достаточно, чтобы не жить так нищенски. Видимо, патологически скупы. Он правоверен до рвоты. Что за этим — глупость или страх, я не знаю. Он многосторонне неодаренный человек: преподает, переводит, поет в хоре, фотографирует, коллекционирует книги и пластинки. Пролаза. Пытался выкинуть мою переводчицу из предстоящей мне поездки в Печ, чтобы съездить самому, да и дочку прихватить. Я с трудом отбился. В нем есть чтото жутковатое, опасное, как в персонажах венгерских фильмов, которыми меня сейчас потчуют. Он живет в огромном старом и мрачном доме с внутренними верандами — железными и гудящими под ногой; глубокий, как колодец, двор приглашает кинуться в него вниз головой. В квартире его почти нет мебели, но не от богемного артистизма, от скупости и бытовой бездарности. При этом он очень оснащенный человек, но вся оснастка — говно: телевизор со спичечную коробку, хриплый, тянущий звук проигыватель и под стать ему магнитофон, допотопный фотоаппарат, щелкающий до вспышки, одноствольное, чуть ли не кремневое ружье, транзистор, ловящий лишь одну станцию, по которой передают материалы из утренних газет. Ужасно не весело и не уютно у него было. Обед из бульончика с рисом и кусочка плохо прожаренного мяса был под стать всему остальному. Я впервые увидел здесь ту водочную тару, которую в старой России называли «мерзавчиком» — сто двадцать пять граммов.
Он меня расстроил и почемуто напугал, и мне мучительно захотелось, чтобы рядом была Алла.
Простудился. Зачемто решил вымыть голову, но мужского зала в гостиничной парикмахерской не оказалось. Потащился на ул. Вацци. С плохо просушенной головой, весь в соплях, я по ошибке пошел не в ту сторону. Решив, что всё пропало, стал шляться по магазинам, углубляя простуду, и в конце концов купил рубашку хаки с погончиками чересчур воинского вида. Напялив эту рубашку, пошел на прием к замминистра культуры по кино. В беседе высоких сторон принимал участие директор студии, четвертый по счету, а еще один, самый значительный, скрывается в санатории. Но меня просили не отчаиваться, перед отъездом он явится мне и всему студийному народу. Для чего меня вызвали, я так и не понял, разговора не получилось, мысль моих собеседников пребывала в глубоком сне. А я слишком плохо себя чувствовал, чтобы мо — лоть вздор. Попили холодного черного кофе, сдобренного рюмкой омерзительной сливовицы, и разошлись.
Вечером ко мне в номер приперся племянник Кальмана, музыковед, не выносящий оперетту вообще и творчество своего дяди в частности. Ему досталось слишком мало от громад ного кальмановского пирога, что усугубило его критическое отношение. В разговоре он был крайне осмотрителен, «ни в чем не признался», но ненависть к Верушке всетаки ему не удалось скрыть. В конце куцей и невразумительной беседы, не давшей мне ничего, он попросил пригласить его в Москву. «Как это по — кальмански!» — вскричал по его уходе Габор.
Ездили в Шиофок. Поглядели на дом, где увидел свет Кальман, на скучные железнодорожные пути, открывавшиеся из окна детской его взору. Сходили в Рыбный музей, там выделено помещение под кальманский мемориал. Директор музея, приятель Габора, рассказал, что он яростно сопротивлялся созданию этого мемориала. Но все его протесты не были приняты во внимание, сюда притащили рояль Кальмана, что-то из обстановки, фотографии, ноты, предметы домашнего обихода композитора и его семьи — словом, всё, что вышвырнули из дома Кальмана, когда там открыли музыкальную школу его имени. Посещаемость музея, признался ненавистник Кальмана, увеличилась втрое. Старое барахло, которого касались руки Кальмана, оказалось неизмеримо интереснее людям, чем все ихтиологические чудеса.
В лифте всё еще звучит Соната № 2 Шопена.
Смотрел фильм «Жаворонок» о некрасивой девушке: очень хорошо и страшно, а также плохие ученические короткометражки Габора. Работать с актером он явно не умеет.
Был с утра в Театральной библиотеке, где помещается и архив. Там меня доканала престарелая тетка Евы Габор своей назойливой любезностью и неуемным архивным рвением. О Кальмане ничего интересного и нового не нашел. Там, кстати, имеется и мое «дело», содержащее несколько рецензий на «Суджанских мадонн» и фотографию и. Зорской в роли Арсеньевой. После этого с максимальной бестолковостью, хотя создать ее практически было не из чего, добрался до своего отеля, где так же бестолково, ни с того, ни с сего, всучил чаевые уборщице, никогда не убиравшей у меня в номере.
Ходил с Евой Габор к портново, после чего в «Жербо» объяснял ей, всегда опаздывающей, всегда торопящейся, но ра ботающей крайне медленно, причуды моего стиля. Она переводит для книги «Дорожное происшествие».
Вечером был на чудовищной «Марице». Полное отсутствие голосов, актерского дарования, ритмики, «пластики и культуры». Бездарно на удивление и масса пошлейших новаций, которых не было у Кальмана. Но по — настоящему потрясда меня публика. Сплошь уроды. Карлики, дебилы, хромые, парализованные, один со слоновьей болезнью, другой с «Паркинсоном», у каждого третьего искривлены члены, вывернуты бедра; рачьи глаза, головы, как котел, на крошечном тельце — казалось, тут разгулялись Босх и Брейгель, наводнив театр страшными видениями своего больного гения. Оказывается, спектакль продан инвалидному дому, нормальные, здоровые люди на него не ходят. В зеркале отразился еще один урод — брюхастый, низкорослый, на коротких ногах — я сам. Если б это можно было ввести в фильм! Как бы сработал прием Бергмана из «Волшебной флейты». Вот, кто сегодня ходит в оперетту. Но Кальман в этом неповинен. Чудовищное либретто, чудовищный текст, бездарная режиссура, никудышные актеры.
Смотрел плохой фильм «Сиротка» по плохой повести Мора и какуюто муру Габора. Водили меня в красивейший концертный зал Будапешта (не понял, для чего), а потом кормили раблезианским ужином. Вечером на телевидении смотрел отличную передачу о Кальмане, после которой наш фильм совсем не нужен. Разговаривал с редактором и, вроде бы, одним из авторов передачи. Говорить гадости о Кальмане, видимо, считается тут хорошим тоном. Я сказал ему об этом. Он самолюбиво вспыхнул, но промолчал. А через несколько минут с елейным видом и будто бы вскользь сообщил, что, готовясь к встрече со мной, проглядел несколько моих рассказов, конечно, самых маленьких. Я ответил, что он напрасно пренебрег единственной, быть может, возможностью приобщиться к культуре. Расстались тепло.
Сегодня смотрел нашу старую, военных лет «Сильву», которую вынес на своих плечах и вознес гениальный Мартинсон. Но и без Мартинсона она куда корректнее и привлекательней немецкой продукции.
Встречался с Чарльзом Кальманом в вестибюле нашей гостиницы. Он был с женой — загадочной и, наверное, очень интересной в молодости женщиной. Сказать ему было нечего, но он томим желанием погреть руки у нашего кинодела. Едва ли он унаследовал талант отца, но его деловую хватку — не сомненно. О мамаше не заикнулся, боится как бы она не пере бежала ему дорогу. Но Верушка свое возьмет, тут не может быть сомнений.[133] А я точно угадал ее суть. Известный (не мне) композитор Ф… Собольчи (почемуто венгерские имена легче запомнить, чем фамилии) рассказал, что она подговаривала либреттистов Кальмана морочить ему голову, пока она не отоспит с любовником на своей половине. Собольчи был знаком о Кальманом, говорит, что тот был начисто лишен обаяния, дьявольски скуп. Мольнар велел официанту завернуть подливку к сосискам, чтобы Кальман захватил с собой в Вену. К началу второй мировой войны начисто кончился как композитор.
Ни один человек, с которым я познакомился в Будапеште, не потянул выше троечки. Лучше других — режиссер Габор.
Ездили к актрисе, которая знала Кальмана. Она живет километрах в пятидесяти от Будапешта, название местечка забыл. Она худощава, стройна, легка, ни малейшего признака склероза. Доживает свой век в том же доме, в котором родилась. Три комнаты, обставленные добротной мебелью ее дедов. В средней комнате, довольно неопрятной в отличие от двух других, догнивает ее девяностолетний брат. Он пьяница, комната пропахла кислым вином, повсюду пустые и початые бутылки. Сестренка спровадила его из дома к нашему приезду.
Старушка хорошо и тепло рассказала о двух встречах с Кальманом, которого чтит, как бога. Она играла большую часть жизни в Сегеде, ее муж был художественным руководителем театра. Погиб в гитлеровском лагере. Потом она играла в Будапеште, снималась в кино, а выйдя на пенсию, вернулась на родину под Кечкемет, где родился Золтан Кодай (в один день с Кальманом). Он всюду родился, всюду умер, всюду преподавал и ныне смотрит отовсюду соими косыми глазами на умном, значительном и даже красивом лице. Самый народный, самый глубокий, самый венгерский из всех венгерских композиторов, слушать которого невозможно, уж слишком высокохудожественно.
В Кечкемете обедали. Последнее случилось после неудачной попытки съесть домашний гуляш в ресторане частного ранчо — с лошадьми, бассейном, сауной, теннисными кортами, гостиницей и тренерами. Содержит этот рай для небогатых западных, в первую голову американских туристов, су-
пружеская пара: инженер и манекенщица. Они хорошо зарабатывали, ей перепадала конвертируемая валюта, копили, ужимали себя во всем и начали с малого: ресторанчика с национальной кухней и цыганской скрипкой. Иностранцы попались на это дело: заработки стали быстро возрастать, появилась сауна, потом бассейн, теннисный корт, а там и лошадки с тренерами — наездниками. Сейчас предприимчивая чета дает хороший доход государству и сама отдыхает на Лазурном берегу и ни в чем себе не отказывает. Конечно, это подделка: лошади старые, корты неухоженные, обслуживание нерасторопное, в сортирах для обслуги грязь, вонь, нет туалетной бумаги. Но небогатым американцам кажется, что они па ранчо Ньюкомба, Эмерсона или Лейвера.
Был в Музее изобразительного искусства. Что понравилось? Портрет дамы в зеленоватых тонах кисти Гойи, весь Эль Греко, портрет женщины, приписываемый Вермееру, Тинторетто — не из лучших, хороший Веронезе. Тронул Корреджо, а любимейший Брейгель здесь мало интересен. Рафаэль Эстергази[134] — мимо. Музей довольно богатый, но лишенный акцентов; кроме названных вещей, всё какоето проходное. Импрессионисты как всегда радуют, хотя по — настоящему хороши лишь бляди Лотрека и женщина в черной юбке Мане.
Вечером был у художницы Пирошки Санто и ее мужа поэта Иштвана Ваша. Она иллюстрировала «Одесские рассказы» Бабеля и Катулла — превосходно. Техника иллюстраций — обмокнутой в золото тонкой кисточкой по черному фону, движением почти непрерывным. Пишет маслом распятие Христа и совокупления, из этого строго очерченного круга выходит редко. Есть еще портреты знакомых в виде конских морд. Так изобразил себя однажды Пушкин, о чем ей неизвестно, но может, и врёт. Она играла в дерзость полупризнанного таланта, пыталась меня озадачить, что довольно трудно.
С утра смотрел «Мефисто», венгерский фильм по роману Клауса Манна, с немецкими и польской артистами в главных ролях. Это история морального падения его зятя, мужа одной из сестер, оставшегося в гитлеровской Германии. Он был крупным актером, когдато принадлежавшим к «Рот — Фронту», при Гитлере сделал первоклассную карьеру. Он вроде бы ни в чем не виноват, помогал попавшим в беду, даже скрывал в доме какогото еврея, но оказался кругом виноват, ибо вся его жизнь была обманом свободного мира, мол, при нацистах может быть чистое искусство. Клаус Манн поднял одну из самых важных и больных тем. Превосходен немецкий актер, игравший Рейхсминистра (Геринга). Добродушие, искренность, ласковость, простота, очаровательная улыбка, и вдруг — чудовищный хам, кровавый убийца. Этот фильм получил «Оскара». У нас его почти никто не видел, хотя он был в прокате. Не до него было: шли «Женатый холостяк» и «Влюблен по собственному желанию» — две махровые пошлости. Клаус Манн писал свой роман всей силой чувства, он был влюблен в своего зятя. Но — редкий случай — фильм лучше романа.
Ходил на Вацци, где купил носки, ремень, рубашку. Платил за тридцатифоринтовую вещь 300 или даже 3000 форинтов, повергая в смятение жуликов — продавцов. Они немели, балдели, затем, решив, что это чудовищная провокация, мчались за мной с паническими криками по улице, чтобы вернуть сдачу. Я не потерял ни форинта, но уверился в своей неполноценности. Выпил двойное вкусное кофе, дав «на чай» его двойную стоимость. У официантки зуб на зуб не попадал от страха, но она справилась с собой и сдачу не вернула.
А семейка Кальмана здорово всполошилась, в студию идут грозные телексы со всех концов Европы. За музыку — плати, за биографические сведения — плати, за короткое лицезрение старухи Верушки — плати, племянника в Москву вызывай. Так в сталинское время обкладывали налогом корову: за молоко, за мясо, за рога, копыта, шкуру, хвост и ресницы.
Был в журнале «Надвилаг», где меня принял главный редактор. После короткого и мало вразумительного разговора он пригласил меня на обед в старый ресторан с лучшей в Будапеште кухней. Перед обедом я успел записать большую программу на радио, точнее, две: развернутое интервью и маленькое рождественское выступление. Обед был губительно изобилен: аперитив, коктейль из креветок, венгерская уха и огромное сборное блюдо: гусь, телятина, свинина, печенка и богатейший овощной гарнир. Всё это заливалось эгерским белым, от десерта я отказался, но налег на камамбер и рокфор под эгерское красное. Завершилось пиршество кофе с коньяком и тремя бутылками старого «Токайского» — сухого, полусухого и сладковатого. Меня отвезли в номер, где я угостил главного редактора шампанским, после чего переоделся и отправился на «Дон Жуана» в постановке Любимова.
Это было скверно, оформление же полуукрадено у Ханушкевича («Гамлет»), та же бессмысленная машинерия, но у польского режиссера в том был смысл, а здесь никакого. Плохие и претенциозные мизансцены мешали слушать музыку Моцарта, голоса убоги, в общем — брак.
Смотрел «Войну звезд» — говно. Но поставлено технически лихо. Смотрел на студии телевидения документальный фильм о поездке Ратони и венгерского телережиссера в Хабаровск. Здесь они сняли опереточный концерт с помощью местных сил, кстати, весьма и весьма неплохих. Ратони ведет передачу, он омерзителен, его правда в ногах. Когда он начинает кочевряжиться в роли Бонни, то понимаешь, почему он был партнером Ханни Хонти и Латабара. Он обложил меня, как волка, в Будапеште: алчет соавторства по сценарию. Габор предупредил, чтобы я держался от него подальше, пока это мне удается.
Получил ужасающий костюм у портного и хорошую пару летних брюк. Этот портной тоже был при Кальмане и квартира его кальмановских времен, и газеты на палках, и старомодная вежливость, вмиг улетучившаяся, когда ему почудилось, будто я недоплатил.
Ужинал в своем отеле, на веранде; старик — флейтист тихо и нежно играл Шуберта и Бизе. Было хорошо, но тут появился какойто корреспондент, чтобы узнать, зачем я взялся за Кальмана. Можно подумать, что Кальман домушник или форточник, а не творец дивных мелодий. Объяснить им ничего нельзя, они едва ли не тупее моих соотечественников.
Смотрел «Казанову» Феллини — кривой и нелепый фильм с прекрасным Сазерлендом в главной роли, с неплохой общей задумкой: история человека, которого ебли, а не который еб, жалкая история неудачника, обладавшего в жизненной борьбе лишь одним реальным оружием — неутомимым хуем. Еще он умел втираться в доверие в молодые годы, но и тут нередко попадал впросак. В лучших фильмах Феллини не прощупывался костяк сценария, впечатление такое, что его вел материал, но импровизационность корректировалась необходимостью; жирный, скучный «Сатирикон» был аморфен и невообразимо гадок (похоже, Феллини не давали покоя грязные лавры педераста Пазолини); в «Казанове» есть хороший сценарный костяк, но решение большинства эпизодов лишено волевого творческого начала. То это неудачное подражание самому себе, то смрадному Пьеру — Паоло, то Висконти, находок удручающе мало, и то они скорее литературного, нежели кинематографического ряда. Пазолини был осатанелый педераст, это придавало его картинам густоту и плотность. Феллини — стыдливый импотент, играющий в страсть, оттого всё так у него жидко, несоблазнительно и натужно. Но никто не осмеливается сказать этого вслух.
Ольга перевела статью Кальмана. Он писал точно, серьезно, с превосходным знанием дела, отличны языком. Это был очень толковый, всегда знающий свою цель человек и талантливый во всём, за что ни брался.
Уже вечером давал в течение четырех часов интервью корреспондентке венгерской «Литературной газеты», сделавшей себе имя на том, что она последняя разговаривала с Трифоновым, которого здесь весьма чтят.
Сегодня был тяжелый день. Около двух часов записывался для телевидения — в Доме советской культуры. Там был стенд с большущей фотографией Симонова, я попросил его убрать. Пили кофе в старом кафе кальмановских лет и беседовали с журналистом и. Очень самоуверенно и развязно он начал с набивших оскомину гадостей в адрес Кальмана: не смог писать симфонии, с горя стал лепить (гениальные) оперетты. Попросту деньги зашибать, потому что скупердяй был и хапуга. В белой ярости я сказал: а что бы вам так — написать «Сильву», «Баядеру», «Марицу», «Принцессу цирка», да хоть бы танго «Образ один, былое видение», разом поправили бы свои дела. Чем жевать сухой журналистский хлеб, размахнулись бы «Цыганом премьером» — и сразу бы домик в Сант — Андре. «Я не музыкант», — пробормотал он. «Ну да, вы пишущий человек. Так пишите фельетоны, они в Венгрии прекрасно оплачиваются». Он скис и начал нести те общеизвестные банальности, которые я знал уже на другой день по приезде. Журналисты, как и киношники, поразительно неосведомленные люди.
Потом был прощальный визит в дирекцию студии, где выяснилось, что Верушка Кальман через фирму затребовала 20 тысяч фунтов стерлингов за право использования музыки. А у студии есть только два фунта… ореховой халвы. Почему нельзя было раньше запросить фирму, представляющую интересы семьи Кальман? По — моему, с этого следовало начинать весь сыр — бор. Так бы и поступил любой частный предприниматель, но ведь в нашем безответственном и несерьезном мире деньги не свои, дело не свое, заинтересованности никакой и ответственности тоже.[135]
Был в гостях у восьмидесятилетней артистки оперетты, получившей высокий орден к своему юбилею. Фамилию, к сожалению, забыл. Она бы стала знаменитостью, если б не давившая всех, как блох, талантливая и беспощадная Ханна Хонти. Даже сейчас видно, что она была очень хороша и соблазнительна. От нее веет ароматом — не затхлостью — старого театра; дом (квартира) велик, наряден, обставлен старой хорошей мебелью, много картин и фотографий на стенах, много цветов. Она показывала нам фотографии и программки с автографами Пуччини (поверить трудно), Бриттена, Бартока, Кодая. Первый муж был видным театральным деятелем, замучен фашистами в лагере, как и муж той провинциальной актрисы, у которой мы были раньше. Сейчас вышла его большая книга. Она хорошо говорила о мужчинах, с которыми была близка; все они дискретно существуют в ее большой квартире, не мешая друг другу. Она чувствует порой их прикосновение к волосам, рукам, плечам и оттого не одинока. Тут не было никакой рисовки, она говорила искренне и серьезно. Пишет, не торопясь, мемуары, уверена, что успеет их закончить, прежде чем ее призовет Господь, в которого, похоже, не очень верит. Она до сих пор стройна и пластична, чуть неуверенно, но изящно подавала на стол. На ней были туфли с высокими шпильками. Желая показать, что такое балетное опереточное па, именуемое «шесть часов», почти осуществила это смелое движение. На прощание мы расцеловались.
Вдруг придумал новый сценарий о Кальмане: «Господин Шлягер и его наследники» — остросатирический, гротескный. Импровизируя ночью в номере гостиницы, смеялся до боли в брюхе.
Посмотрел «Трехгрошовую оперу» Брехта в постановке Любимова. Это несравненно лучше, чем «Дон Жуан», хотя в общемто ширпотреб. Всех безмерно радует, что актер обозначает разницу между Гитлером и Сталиным лишь формой усов. Это возмущает правоверного засранца Шопрони.
Хорошо всетаки было. Теперьто уж видно, что хорошо. Может быть, чуть перегружено, но это уж я сам виноват. До театра меня возили по городу. Видел римские развалины, точнее, раскопки, погулял по острову Маргит — золотому и пустынному. Был на телерепетиции новогоднего концерта, видел вблизи живого Азнавура, но от знакомства воздержался. Ведь это знакомство в одну сторону. Любопытно, что на этом богатом концерте — там была еще восходящая звезда немецкой эстрады и знаменитые австрийские комики — лучше всего прошла музыка заплеванного Имрушки Кальмана. Весь столь презирающий его зал встрепенулся. Перешиб он и комиков, и прославленного Азнавура, не говоря уже о восходящей звезде.
Неожиданно ко мне явился Янош, директор Дома культуры, молодой человек под тридцать, элегантный, очень современный и довольно привлекательный. Он пришел «за правдой». Как жить и не потерять совести в нынешнее изолгавшееся, насквозь проституированное время? «Вам это удалось!» — говорил он с болью. Я пытался уверить его, что мне это удалось лишь частично и то в силу моей профессии, позволяющей не входить в тесные контакты с современниками. Я всегда знал, что в моем стремлении сохранить лицо порядочного человека вопреки всему, есть дурной соблазн для малых сих. Но на родине я, кажется, никого не сбил с толка, попался чистый венгерский мальчик. И как только сумел он проглянуть это мое намерение? В общем, мне было стыдно, хотя — старая блядь — я не дал ему это почувствовать.
Ужинал в отеле с Яношем и Евой — они сохранили лицо милых, деликатных и какихто бессильных людей. Под занавес меня разыскал настырный Шопрони. Между делом попытался зацапать весь перевод сценария. Я отвел его притязания. Он помог мне собраться, сделал это ловко, умело, но дурного впечатления о себе не исправил. Нет более верного способа вызвать во мне стойкую неприязнь, чем давить на меня.
Вот и настал последний день. Габор на проводы не явился. К чему бы это?..
Вернулся из Венгрии — «без славы и без злата»: пропал в аэропорту (?) чемодан со всеми материалами, которые я так серьезно и старательно собирал целый месяц. Пропало всё белье, почти весь наличный запас штанов и рубах, подарок Алле, тысяча мелочей. Славный финиш! Да, еще пропали материалы по Рахманинову, которые я невесть зачем таскал с собой в Будапешт.
«Я опять одинок». Прибыл в Узкое, о котором столько слышал, но никогда не бывал, хотя без числа проезжал мимо и видел за деревьями, в таинственной глубине, золотые купола усадебной церкви.
Двухкомнатный «люкс» слегка отдает кошмарным Дороховым. Вторая комната — спальня — так же камероподобна, мрачна, голостенна, давяща. Холодно. «Истопники запили», — и это в академическом санатории, излюбленном пристанище лучших и самых важных государству умов России.
В башке толкутся мысли о пропавшем в аэропорту чемодане со всеми материалами по Кальману, не восстановимыми в Москве, и с рахманиновской папкой. Черт дернул меня тащить ее в Венгрию, думал: будет свободное время — хоть немного двину вперед застопорившийся сценарий. А я ее и не открыл. Нужно всё это преодолеть. Кальмановские материалы мне частично восстановят в Будапеште, план я заставлю себя вспомнить, книжку Мусатова достану в библиотеке; кое-что, конечно, не вернуть: записи разговоров с его современниками, выписки из газет, наброски сцен, но тут уж ничего не поделаешь. С Рахманиновым проще, хотя и докучнее, надо опять погрузиться в трехтомники и двухтомники неутомимой Апетян. А еще лучше — сразу сесть за сценарий, ведь поначалу он совпадает во многом с моим рассказом «Сирень». А там, глядишь, я разойдусь и буду лишь заглядывать в апетяновские тома.
Сейчас ушла от меня врачиха: молодящаяся старуха, с тихой, неотчетливой речью и неожиданной кокетливой улыбкой. Сумасшедшая.
Вчера на даче была жутковатая сцена. Проня[136] почти употребил Людину мамашу, которая не только не противилась, но была явно горда успехом у такоо породистого кавалера. Надо кончать с подобного рода сборищами, хотя бы из уважения к месту, где я работаю.
Кончается второй день моего пребывания в Узком. Все-таки на старости лет всякая перемена обстановки трудна: какаято, если не физическая, то душевная акклиматизация неизбежна. Мне опять не пишется. Но нашелся чемодан (он якобы наведался в Прагу), завтра Алла привезет мне материалы, и я начну вкалывать. Конечно, интерес к Рахманинову перегорел во мне, да и не нравится мне схема, разработанная совместно с Кончаловским, но я же профессионал и обязан чтото слепить. А там начнется Имрушка, а это меня греет.
Сижу в столовой за одним столиком с финансовым работником, бывшим заместителем министра, а ныне профессором и членом — корреспондентом Академии. Вид у него, как говорили в старину, геморроидальный. Оказывается, государство доплачивает за мясо для населения какуюто баснословную сумму. Мне трудно в это поверить, ведь 90 % населения вообще не ест мяса. Мы чуть было не вылетели из ООН за неуплату какихто взносов. Вывернулись чудом. Оказывается, всякое наше финансовое кооперирование с иностранцами приносит нам чудовищные потери.
Читаю воспоминания об Олеше. Странное впечатление: все ходят вокруг да около, а ни человека, ни писателя не видно. Почему ушедших надо обмазывать патокой? В нем было много истинно прекрасного, чего не могли унизить ни вздорность, ни гонор, ни даже откровенная дешевка иных слов и жестов. Но все тщатся разодеть его, как рождественскую елку, и ничего не получается. Ни у Славина, ни у Никулина, ни у Шишовой, которая прямо из кожи лезет вон. Он выглядит у них пошловатым, а вот этого в Олеше начисто не было. Как ни странно, лишь один Лев Озеров сумел прикоснуться к его сути.
Както трудно вживаюсь я в местное необременительное бытие. Нашелся чемодан, чего еще желать? Живи да радуйся. А я чегото сумрачен, скотина неблагодарная! Наверное, дело в старости, в сознании невозможности совершить неожиданный поступок, вырваться из той ячейки, куда меня насильно заложили. И мои слабенькие метания, больше внутренние, чем внешние, отсюда же. Когда нет настоящего упора в себе самом, ищешь его в чужих землях, в перемене мест, в поисках среды наибольшего благоприятствования. Отсюда мои санаторные скитания, броски в разные неважные города и веси. Но стоит мне кудалибо попасть, я начинаю с ума сходить по даче. А ведь дачи как средоточия покоя давно не стало: бесконечные, ненужные и большей частью отчетливо неприятные отечественные визитеры, ходоки из провинции, иноземные любители кавиара, обезумевший телефон, суета, дерганье. К этому прибавилась бешеная вражда собак, держащая в беспрерывном напряжении. А здесь тишина, бесшумно шаркающие академики, похожие на призраков, старинная мебель, прекрасные картины: голландцы и французы XVIII века, Кустодиев, Бакст, Остроумова — Лебедева, Головин, удивительно хороший Бялыницкий — Бируля, писавший обычно почти чистой сметаной. Здесь старый парк, каскад оттаявших нежданно прудов, бильярд с медалями, вышколенный ласковый персонал, разгрузочные дни и никакого телефона. Ну что — уговорил?..
Здесь с утра до вечера убирают, моют полы в коридорах, чтото передвигают, протирают, и всё равно грязь. Много неопрятных нянечек, какихто мужиков в ватниках и сапогах, которые лезут в столовую во время завтрака и обеда, омрачая изящество наших трапез и всего пребывания в бывшей вотчине Трубецких. Нет жесткой дисциплины 4–го управления. Но, видимо, академики предпочитают чуть липковатое, неопрятное тепло. А вообщето я всё придумал. Это чистое место, просто идет частичный ремонт, отсюда мужичье, бабы в грязных комбинезонах, ведра, отсюда и беспрерывное намывание полов, протирание окон, мебели.
Пишу «Рахманинова» точно по норме: пять страниц в день, и сам себе не верю. Отвык я от таких темпов. А тут — как в лучшие дни Салтыкова. Болдинская осень халтуры. Но халтура ли это? Ведь я испытываю какоето волнение, порой до слёз; я думаю о своих героях, даже гуляя; они мешают мне заснуть. Халтура делается с ледяной душой, а я разогрет. И сильнее всего по — прежнему трогает меня «усадебный роман», столь противный Кончаловскому. Но ведь то был едва ли не единственный лирический вздох в холодной, обделенной любовью к женщине, слишком деловой жизни Рахманинова. Свою жену он никогда не любил, хотя ценил и уважал. Романа не было, сразу женитьба. Онато его любила, но им двигал проницательный расчет художника, точно знающего, что ему нужно для плодотворной работы. Если он к комуто поворачивался мягкой, незащищенной стороной, то это к сестре Наталии Александровны, с которой, наверное, жил. Но не исключено, что та была лесбиянка, и с Рахманиновым ее связывала бескорыстная и преданная мужская дружба. Лодыженская — это обучение любви у взрослой женщины; Кошиц — безлюбая гастрольная связь с певичкой; трепет был лишь в юности — с Верочкой, и отсюда его лирическая нота. Легкую влюбленность он испытывал к старшей сестре Верочки — пышной Татуше, но скорей всего, они сливались в его сознании. Надо обладать бездушием Михалкова — Кончаловского, чтобы плевать на сиреневые дни Рахманинова. Схема, навязанная им, искусственна и жестка, из нее выпадает мягкая материя — музыкант. Остаются социальные игры. Я должен делать, как чувствую, а там пусть кромсают, как хотят, если до этого вообще дойдет дело.
Приезжала Алла — усталая, заботливая и далекая. Последнее — чтото совсем новое в наших отношениях. Может, притупилось былое, острое, ножевое?..
Продолжаю писать, настроение повысилось, или, вернее, нервозность улеглась. Хожу гулять. Хороший парк, но, углубляясь в него, приближаешься к гнусному грохоту ясеневского шоссе; пошел в другую сторону — уперся в новостройку; кинулся прочь — и увидел знакомые очертания Профсоюзной улицы. Както забываешь, сидя в номере, что мы со всех сторон окружены Москвой, что мы — часть города. А когда вспоминаешь об этом, становится тошнехонько. Крепко я не люблю породивший меня город.
Дочитываю воспоминания об Олеше. Все из кожи лезут вон, пытаясь доказать, что он не лентяй и краснобай, а великий труженик. Но бездельник, прожектер, говорун и пьяница лезет из каждой, сдобренной фальшью строки. А лучше всех написал о нем не Озеров, а убогий Рахтанов. Я и забыл, что существовал такой спортивный писатель — калека. Он чтото всерьез понял в Олеше, но его воспоминания явно обкорнаны. Грустное впечатление производят примеры стилистического блеска Юрия Карловича — «ветвь, полная цветов и листьев», — на которую все ссылаются, это ж просто безграмотно. И вдруг выяснилось, что он и сам это знал. Почему же никто к нему не прислушался? Танец Раздватриса «похож на кипящий суп» («Три толстяка»). По — моему, тут нет ничего гениального, вопреки утверждениям мемуаристов, но дальше идет просто безобразие: «Суп остановился» — это ж надо! Остается цыганская девочка похожая на веник. Точно, хорошо, но у Жироду куда лучшее встречается буквально в каждой строке. А Олеша мнил себя гением. Он считал, что «Зависть» — на века. Его уже нельзя читать (я говорю о «Зависти») прежде всего изза абсолютно ложной, выдуманной проблемы. Это — как «Инженеры Беломорстроя» у Я. С. — ни слова правды, заблуждение времени, жалкие, обреченные, искренние и тухлые интеллигентские попытки найти изюминку в железобетонном куличе диктатуры. Иное дело Платонов — этот сразу всё понял и бил в яблочко. Но Платонов, похоже, Олешу не интересовал, он соперничал с ловким и насквозь фальшивым Катаевым. Впрочем, и Олеша не интересовал Платонова. Никогда, во время бесконечных ночных разговоров с Я. С., он не обмолвился о нем ни единым словом.
А как пошло выглядит злодейское время на страницах журнала «Для Вас»[137]. Какойто всемирный нэп, а ведь уже затапливались бухенвальдские печи и колючая проволока окутала пол — России. И всё же, читать этот журнал мучительно маленькая, гордая и счастливая своей самостоятельностью, своей бедной молодой государственностью страна так серьезно, мило и хорошо жила, не ведая ожидающего ее кошмара.
Любопытно: разразится невиданная катастрофа, погибнут страны, народы, бесконечные материальные ценности, а в далеком — далеком будущем люди будут жалеть о какойто пропавшей странице рукописи, нам вовсе неведомой.
Ездил выступать в Институт стали, но оказалось, что это общерайонное мероприятие Общества книголюбов. Зал вмещает 1500 человек, он был полон на 2/3, как мне и обещали, исходя из акустических свойств неудачно построенного помещения. Вечер прошел хорошо. Были подлые вопросы о «Терпении». Всетаки мне не понять озлобления, охватившего едва ли не добрую половину читателей. Я не скрыл от аудитории, что все люди, которых я люблю и уважаю, оказались «за» рассказ, а все, кого я не люблю и не уважаю — «против». Зал был явно шокирован, но както рабски захлопал. А по окончании мне устроили буквально овацию, хотя я до конца сохранил мало любезный тон. Роздал бесчисленные автографы. Потом смотрели «Позднюю встречу», которая всем понравилась. Мне же больше всего понравились песни Сергеевой. Странно, почему она так и не завоевала популярности, ну, хотя бы на уровне Визбора? До чего же таинственен секрет успеха! Ясно лишь одно — необходим привкус дешевки. Ведь Ахмадулина покорила аудиторию не стихами, действительно, прекрасными, а ломаньем, лестью, игрой в беззащитность и незаземленность. И Женька, и Андрей, и покойный Саша, и Высоцкий. Любопытно, что несравненно превосходящий и Сашу, и Высоцкого Булат не достиг уровня их популярности, а нежная, странная Новелла Матвеева прошла и вовсе стороной. Песни Сергеевой удивительны, но они не вышли за пределы очень узенького круга. Так называемые простые люди — свиньи; порой — весьма умильные чушки, но всё равно с сопливым пятачком, крошечными глазками, склонностью пожирать собственных детей, валяться в дерьме, а главное — без мозга и души.
Непонятно, как я всетаки держусь на плаву. Может быть, потому, что у меня много ширпотреба: детские рассказы, фильмы, телевыступления. Мои лучшие вещи — исторические — так и не стали известны. А вот чистопрудная слезница, останкинская трепотня, клуб кинопутешествий, «Председатель» дали мне популярность, для прозаика весьма редкую. Скучно чегото!..
Я ждал Аллу не раньше пяти и ушел гулять. А вернувшись без четверти пять, увидел на столе в первой комнате яблоки, курагу, и понял, что она приехала намного раньше. Расстроился. Прошел в спальню и увидел, что Алла спит в моей постели. Не знаю отчего, но я почувствовал к ней смертельную жалость. И сколько уже прошло времени с ее отъезда, а чувство это не проходит, засело, как кость в горле. Наверное, это не к ней жалость, а ко всему нашему, уходящему, ведь каждый мой день — потеря сил, здоровья, бодрости, желания, способности быть опорой другому человеку, веселости, хорошего настроения, бытовой легкости. Нам осталось без труда обозримое время быть вместе. А ночью мне приснился сон, както связанный с дневным переживанием. Впрочем, это нельзя назвать сном. Мне отчетливо и ясно представилось, что я проснулся и держу Аллину руку, крепко сжимая чуть пониже плеча. Она попыталась встать, но я помешал ей. Тут меня удивило, каким образом оказалась она рядом со мной. Значит, она отпустила машину и осталась на ночь? Но почему я не помню, как это произошло? Пока я раздумывал над этим, ее рука очень медленно, осторожно, словно не желая обидеть, выскальзывала из моих пальцев. Вдруг я резко поднялся и сел, свесив с кровати ноги. Никого не было. «Алла!» — позвал я, никто не отозвался. Здесь следует провал. Затем я ощущал себя спящим и очень тяжело дышащим. Я не знаю: то ли мне на самом деле трудно дышалось, то ли всё это было сном. А может, это была попытка умереть во сне? О такой смерти все мечтают. Но я испытывал муку, и, наверное, все умирающие «тихо» во сне невыносимо мучаются. Что мы вообще об этом знаем?..
Ходил гулять. Опять испугался ревущего ясеневского шоссе. Странно, что это так сильно на меня действует. Побаливала нога.
Несимпатичный старикашка, всё время висящий на коридорном телефоне, оказался приятнейшим человеком, академиком Косыгиным, автором более пятисот работ по геологии, главой величайшего в стране геологического комплекса. Он долго не мог взять в толк, кто я такой, когда нас знакомили. Потом сказал ошеломленно и словно с обидой: «Так это знаменитый писатель Юрий Нагибин? Какая досада, кабы знал, захватил бы книжки подписать». Потом мы с ним долго гуляли и очень интересно разговаривали о Дальнем Востоке, Сибири, геологии, Циолковском, Мичурине, Лысенко, пьянстве, истории Узкого, куда он начал ездить еще в двадцатые годы со своим отцом — профессором, современной литературе и семейной жизни. Все его мысли были интересны и поражала откровенность, с которой он говорил о своем пьющем, никчемном сыне, о том как у него, шестидесятисемилетнего, лопнул глаз, когда он слишком крепко стиснул грудастую проводницу в сибирском экспрессе.
Все время думаю об Олеше и силюсь понять, в чем неправда воспоминаний, хотя и у Рахтанова, и у Шкловского, и у Льва Озерова встречаются тонкие наблюдения, мысли. Наверное, беда в том, что мемуаристам хочется выстроить цельную картину его личности, при всех оговорках, что они на это не посягают. А в самом Олеше не было цельности, естественно, что он всячески сопротивляется превращению себя в монолит. Он был человеком с перебитым хребтом, весь в трещинах и пробоинах. С уязвленной гордостью, обманутым честолюбием, выродившимся в тщеславие. Отсюда каждодневные сидения в «Национале», в обществе подонков и дельцов, восхищавшихся каждым его словом. Считалось, что он невероятно требователен к себе, а он брался за любую халтуру. Другое дело, что она у него часто не получалась, а еще чаще, изза пьянства и разложения, он не доводил ее до конца или терял почти законченную рукопись. Он был слабый человек с громадными амбициями, не очень большим, но оригинальным даром, в нем не было протяженности, как в Платонове, он навсегда остался таким же, как в своей первой книге «Три толстяка». Ни намека на движение, развитие, обновление. Всю жизнь играл словами, порой очень удачно. Сказал несколько точных и умных фраз. Многим кажется, что он загадка, а он скорее недоразумение.
Я видел сегодня за оградой нашего санатория отца с двумя девочками, все трое на лыжах. Жители новостроечного Ясенева, счастливая семья на воскресной прогулке. Я испытал настоящий ужас при виде них. Вот так живут в полном серьезе довольные жизнью миллионы людей, и ничего иного им не надо. И в положенный срок отойдут, не испытав даже секундного сомнения в том, что, действительно, жили. Под серым низким небом, среди серых безобразных домов, плохо одетые, набитые дурной пищей, вконец изолгавшиеся и ничуть не страдающие от ежедневной, ежечасной лжи (к детям это относится в той же мере, что и к родителям) гомозятся тупые роботы — удивительное творение системы, взявшейся осчастливить человечество и обернувшейся особой формой анабиоза, от которого нет пробуждения. Это мои читатели: отец записан в библиотеке на «Терпение», от которого его вырвет, девочки изучают в школе «Зимний дуб», а внеклассно читают «Рассказы о Гагарине». Стоило жить, работать стоило!
Работаю тяжело. Не увлекает меня это писание. Перегорел после двух срывов: первый — на многие годы, второй — всего лишь на месяцы, но эти месяцы стоили прежних лет. Вот в чем ужас нынешнего бардака — он убивает всякий энтузиазм, всякую увлеченность, а только так можно чтото сделать. Андрон сумел раззадорить меня прошлой зимой, но канитель, которую развел полудохлый Сизов, погасила занявшееся пламя. Редко работал я так холодно и безучастно. И всетаки надо довести дело до конца, хотя всё кончится — чует мое сердце — на промежуточном финише.
Встретил на крыльце вернувшегос из города Косыгина. Он, вспомнив наш недавний разговор, счел почемуто нужным подтвердить свои прежние утверждения, что Циолковский — провинциальный мечтатель, а Мичурин — полная липа. Лысенко же — шизофреник. Прощаясь, он сказал, что по — прежнему любит дам.
Сегодня ездил с Аллой в Москву. Впечатление кромешное, и так хорошо было вернуться сюда, в бывшее гнездо Трубецких, ныне кукушкино гнездо. Москва в такую погоду страшна, как ад. Малолюдна, черна, облезла, безобразна, похожа на голую гниющую заживо старуху — особенно в новостроечной части.
Алла — милая, родная, упрямая, скрытная и непробиваемая в своих решениях и представлениях.
А пишется всё так же — без божества, без вдохновения. Всё остыло. А ведь я плакал, рассказывая Заседателевым и подлинные, и придуманные подробности биографии Рахманинова. И так же будет с Кальманом, ибо системе органически противопоказан всякий энтузиазм.
Получил письмо от Кравченко. Его провалила приемная комиссия СП РСФСР. Как он пишет — со слов знакомого писателя, — из ненависти ко мне. Очень похоже. Я благословил его первую публикацию, устроил его на семинар, опубликовал открытое письмо к нему в «Литературной учебе», его первая книжка вышла с моим предисловием, а вторую он наивно посвятил мне. Счет: 17 «против», 3 «за» — случай почти небывалый. Как и обычно, почти никто из членов комиссии его не читал, и такой дружный отпор! Конечно, били в меня, за что им ненавидеть жалкого рабочего парня из Кондопоги? Какая жестокость, какая низость — вот лицо сегодняшней литературы.
Получил хамоватое письмо от Молотилова. Я был уверен, что он быстро испортится и особого огорчения не испытал. Другое письмо — от Заворотчевой. Она пишет, что в Тюмени сделали вид, будто никакой премии Ленинского комсомола она не получала. Это тоже характерная черта гнилого времени.
Массажистка рассказывала мне про отдыхающих. Из года в год сюда приезжал крупный математик[138], член — корреспондент Казарновский, получивший миллионное наследство из Америки. Он был эксгибиционист и без устали демонстрировал персоналу свой увядший член, а было ему под восемьдесят, так что зрелище не отличалось внушительностью. Он делал всё от него зависящее, чтобы его застали голым посреди комнаты или в распахнутом халате. Когда он стал проделывать сходные трюки с престарелыми женами академиков, его перестали сюда пускать. Но через некоторое время сняли запрет. Он стал щупать нянечек, сестер, врачих, подавальщиц, но от демонстраций своей мужественности по мере сил удерживался. Администрация и коллеги сочли его достойным амнистии. Несмотря на богатство, одевался он нищенски: обтрепанные брюки, драные локти, худые ботинки. Это хорошо гармонировало с сальными волосами и серым немытым лицом. Он был уникумом не только в «сексе», как с удовольствием говорила массажистка, а во всем, за что брался: превосходно играл в шахматы, виртуозно на бильярде, танцевал, водил лихо машину, несмотря на глухоту, молниеносно решал кроссворды. Он ездил в Ясенево на танцплощадку, чтобы пощупать девок, но както в дождь свалился в кювет и охладел к танцам. На редкость начитанный, он помнил имена всех героев, все подробности сюжета, память у него была не только на цифры и ничуть не слабела с годами.
Приезжала Алла. Она проявила великую проницательность, сказав, что наш санаторий сродни богадельне. Отчасти так и есть: здесь постоянно живут без путевок, сдавая свою академическую пенсию, на всём готовом, под неусыпным наблюдением врачей и сестер два древних старца: академик Виноградов и член — корреспондент Машков (?). Первый не встает с постели, второй (при нем болтается фиктивная жена — полудурка, дочь его умершего друга) разок появился в коридоре в образе гоголевского мертвеца из «Страшной мести» — весь в прозелень и т. д. Шена его с утра до ночи гоняет чаи с персоналом, не вылезает из каптерки, но, говорят, завела однажды шашни с какимто профессором. Похоже, что и академик Пейве примеривается к их образу жизни. Мне почемуто кажется, что Узкое кончит домом для престарелых. Тем более, что рядом строится новый корпус. Все старожилы относятся к нему с ненавистью.
Вечером смотрел бредовый фильм «Взятие Рима» — лжеисторический. В этой галиматье не постеснялся сняться Орсон Уэллс. Впрочем, в мире никто ничего не стесняется, если пахнет деньгами.