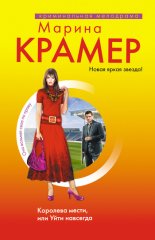Изгои. Роман о беглых олигархах Колышевский Алексей

– Намекаете на внутренний голос или что-то в этом роде?
– Да нет никакого голоса. Я не знаю, откуда мне это известно. Просто вы рассказали про Ольгу, а я открыл рот и вдруг сказал про громилу.
Шурик наконец воспользовался салфеткой, скомкал ее. Кусок оранжевой бумаги торчал из крепко сжатого кулака, словно парус или знамя над крепостью. Мой визави, видимо, что-то решив для себя, кулаком саданул по столу:
– Мне не нравится то, что невозможно объяснить!
– А по-моему, все понятно. Не чужой мне человек, мягко говоря, – я отвечал рассеянно, старался не смотреть Шурику в глаза, а словно глядел мимо него. – Вот и приходит ко мне что-то такое, чего и впрямь нельзя объяснить словами.
– Ну ладно, допустим. Вам отдохнуть надо, вы тут обживайтесь, я вас беспокоить не стану, а вот присутствие доктора вам придется потерпеть.
– Да я вроде ни на что особенно не жалуюсь. Вот только голова меня беспокоит.
– Мы мозговеда как раз и пришлем к вам.
– «Мы» – это кто?
Шурик отколол забавную штуку: он извлек из кармана пиджака кипу и, заменив ею шляпу, которую, надо признаться, так ни разу и не снял с момента нашего знакомства, повернулся ко мне в профиль:
– Похож я на еврея?
– Совсем не похож. У вас нос курносый и от голубых глаз пахнет русским севером. Откуда вы? Архангельск? Мурманск?
– Мурманск, – Шурик стащил кипу, – почти. Там недалеко есть режимный городок подводников. Это даже не важно, откуда. Но организация у нас хорошая. Зарплаты большие, командировочные огромные, премии фантастические, а представительские расходы настолько грандиозны, что позволяют испытывать щемящее чувство превосходства перед сидящими в первом классе пассажирами.
– В первом классе чего?
– Чего, чего… Да вот хотя бы и какого-нибудь трансатлантического рейса. Ладно, вы давайте тут, осваивайтесь. Врач придет завтра, я загляну через неделю. Аста луэго.
– Это по-испански?
Шурик, не ответив, вышел, и я услышал, как он закрывает дверь на ключ. Из тюрьмы в тюрьму? Пускай. В этой новой тюрьме мне нравится больше.
Врач обладал, как сейчас принято говорить, «богатой харизмой». Был он в меру толст, носил галстук-бабочку и шелковый белый халат поверх костюма, курил трубку; лицо его украшала чеховская бородка клинышком. Когда он усаживался напротив и мы принимались беседовать, то на носу его появлялись очки для чтения и он, закидывая назад голову, смотрел на меня сквозь узкие дольки линз. Я рассказывал ему о том, что помню, а он ненавязчиво подводил меня к краю провала в памяти и указывал на узкий мостик, висящий над бездной. Я принимался несмело ступать по этому мостику и вспоминал что-то еще из собственной жизни. «Вы просто устали и распустили свою память по ветру. Но мы с вами пройдем и подберем то, что потеряно. В любом лечении главное – верить доктору».
Вот так, по шажку, ведомый за руку мозговедом, я вспомнил все, а вспомнив, свалился с сердечным приступом. Когда тебе за сорок и дом твоей жизни пережил прямое попадание из трехсотдвадцатимиллиметрового орудия, когда жена, которая не рожала тебе детей, говоря, что нужно еще немного потерпеть, у нее очень много работы и совсем неплохо еще чуть-чуть пожить для себя, оказалась озабоченной сучкой и, оговорив тебя, улетела за море, а ты, потеряв все, превратился в ничто, – тогда осознание всего, что произошло, не постепенное, а полученное единым разом, рвет твое сердце на британский флаг. Приступ я отбил, не стал никому ничего говорить, просто решил, что если суждено помереть вот так, в чужой кровати чужой квартиры одному, в три часа ночи, то пусть так тому и быть – плевать. Стиснув зубы и закрыв глаза, я чувствовал, как молотит сердце со скоростью сто сорок ударов в минуту, и понял, что если удастся встретить рассвет, то я, полностью очищенный, получу право жить дальше. И плевать на все, что я вспомнил, – оно не будет тянуть меня назад. Рассвет наступил, и с ним пришла новая жизнь.
Шурик вернулся через неделю. Я теперь уже осмысленно рассмотрел его. На вояку или чекиста он не был похож совершенно, а это, учитывая специфику места нашей встречи и майора на входе, могло означать только одно: Шурик работал на правительство, что называется, «напрямую».
Я, конечно, слышал раньше о существовании некоего закрытого государственного агентства, которое не было похоже ни на одну из существующих в стране спецслужб. Военных туда не брали, туда вообще не брали никого, кто хоть каким-то боком мог относиться к нашим силовым ведомствам. В агентстве была своя система подбора персонала и его обучения. Вот и все, что я когда-то слышал краем уха под пиво с креветками от одного моего сослуживца, и рассказывал он это на манер сказки в стиле «жили-были». Поэтому всерьез я тогда его рассказ не воспринял: чего под пиво не расскажешь. Сейчас, глядя на смахивающего на архитектора или режиссера Шурика, я решил «вскрыть» его лобовым вопросом:
– Ну хорошо, допустим, вы есть на самом деле и то, что мне рассказал мой хмельной приятель, правда. Но как объяснить наличие майора на входе?
Он и бровью не повел. Прекрасная реакция!
– А что майор? Майор в порядке. Это я его придумал, в смысле, чтобы охранник был в военной форме. Снимает многие вопросы у нежданных гостей.
– А на самом деле он?..
Шурик рассмеялся:
– Ну, уж точно не майор. У нас со званиями вообще неразбериха. Хотя если подумать, так сказать, более пристально, то и неразберихи никакой нету, и все оттого, что у нас вообще нет никаких званий.
– Забавно… Так, значит, вы все-таки существуете.
Шурик развел руками:
– Если можно прийти к такому выводу, лишь глядя на меня, то да, существуем. Смог же я достать вас из каменного мешка? А это не каждому под силу, во всяком случае, лишь тому, кто «в теме», не так ли?
Я понял, что сейчас-то все и выяснится. Настало время задать главный вопрос, тот, который положено задавать в нужное время и при благоприятном стечении всех обстоятельств. От того, когда именно будет задан главный вопрос, зависит то, какой ответ вы на него получите.
– Шурик, как вы думаете – не настало ли время поговорить обо мне? Я не хочу спрашивать вас о том, с какой стати я просидел три с половиной года в полной изоляции без предъявления обвинений. Это уже история, а история меня не интересует. Меня интересует настоящее, мое настоящее. Свобода, пусть и такая, с лжемайором на входе, развращает разум и характер. Вновь хочется жить собственными интересами, вновь становишься небезразличен себе, и собственное будущее вызывает неподдельное любопытство.
– Это хорошо, что вы такой любопытный, – Шурик сделался очень серьезным. – Доктор у нас замечательный, правда? Излечит кого угодно, а ваш случай далеко не самый тяжелый. Он ставил на ноги сертифицированных шизофреников. Теперь, когда ваш рассудок более-менее прояснился, я могу говорить с вами начистоту. Вас решили выпустить для одного дела и отпустят совсем, если вы его исполните.
– Расскажете поподробнее?
– Расскажу по дороге.
– Мы должны куда-то ехать? Далеко?
– Далеко. Очень далеко. И не ехать, а лететь…
Школьный автобус
– Филадельфию, да и вообще весь штат Пенсильвания основал Уильям Пенн – квакер в смешной круглой шляпе, точь-в-точь как на мне. Квакеры – безобидный и жизнерадостный народ, никому никогда не навредивший, не обидевший ни словом, ни делом. Наоборот: несколько сот тысяч квакеров принесли Земле больше пользы, чем многочисленные религиозные агрессоры и экстремисты, вспоминающие о своей вере лишь по праздникам. Квакерам не нужно причащаться, исповедоваться и стучать лбом в половицы – их кодекс жизни честь и совесть. Кто знает, может быть, квакеры и есть последние истинные христиане, пронесшие сквозь два тысячелетия неизмененное учение Иисуса Христа, который и сам был первым квакером. У них нет церквей, где пахнет ладаном и висят иконы, место их собраний называется «дом встреч», – Шурик рассуждал вслух и при этом сдержанно жестикулировал. В Америке он весь как-то преобразился: стал еще более подтянутым, походка приобрела легкую заграничную ломкость. Его вполне можно было принять за молодого профессора или владельца большого книжного магазина. Квакерство Шурика было его личным делом, но похоже, что он искренне верил в то, что говорил, а искренность присуща не самым плохим людям.
Мы остановились в пригородном «латинском» отеле, одном из тех, чьи хозяева, выходцы из Пуэрто-Рико или Колумбии, не спрашивают документы и кредитные карточки: достаточно просто заплатить вперед наличными и дать пару долларов сверху. Утром я впервые в жизни услышал о квакерах и месте их собраний – «доме встреч». Именно в такой дом мы с Шуриком заглянули спустя месяц, после того как я впервые увидел свет, выйдя из своей темницы под Москвой. В «доме встреч» царили тишина и аскеза: квадратный зал, где проходят собрания, был пуст, длинные лавки беспорядочно сдвинуты, и лишь сухопарая тетка истеричного вида сидела в углу за столом и вчитывалась в какие-то листки. Она по одному брала их в руки, подносила к глазам, затем возвращала на стол и что-то отмечала карандашом, энергично подчеркивая целые абзацы.
– Привет, Дова, – Шурик протянул ей руку, и она ответила цепким рукопожатием теннисистки.
– Это Дова, – пояснил Шурик, – она мой друг. Очень добрая и милая женщина.
– Это не сразу бросается в глаза, – я стоял у Шурика за спиной и говорил очень тихо, по-русски, но тетка все равно услышала и тоже по-русски, со смешным картавым акцентом ответила:
– Годы не лучшие друзья женщины. Считайте, что я не обиделась.
– Извините, – я чувствовал себя очень неловко. Хамить женщине в лицо так же скверно, как и делать это за глаза: мелко и недостойно. Да и вообще высказывать свои суждения о других, незнакомых людях – дело неблагодарное. Звучит по-толстовски банально? Пусть, ведь Толстой силен не этим.
– Ну, вот и познакомились, – Шурик выглядел сосредоточенным. – Дова, как чувствует себя банк «Ваковия» в связи с финансовым кризисом и другими дарами глобализации?
– Банк «Ваковия», – в тон ему ответила тетка, – несмотря на кризис, чувствует себя не настолько плохо, чтобы не иметь в запасе на черный день миллиард-другой. И броневики все так же возят старые добрые наличные и ценные бумаги по отделениям банка, разбросанным по всему Восточному побережью.
– Когда?.. – Шурик нервничал: он сунул руки в брюки, перекатывался с пятки на носок и дергал головой.
– Либо завтра, либо через месяц. Как правило, они завозят наличные для банкоматов раз в месяц, чаще невыгодно, – пояснила Дова.
– Тогда времени у нас нет. Не ждать же месяц. Тем более, что-то может поменяться, а у нас с коллегой, – он кивнул в мою сторону, – документики не то чтобы очень настоящие. У тебя все для нас готово, милая?
– Не скажу нет, – у этой тетки явно было все в порядке с чувством юмора и с хладнокровием. Она вела себя так, словно рассуждала о самых безоблачных вещах. Квакерша, одним словом…
Шурик кивнул ей, повернулся на пятках, оставив на паркете два черных полукружия, и сделал мне знак следовать за ним:
– Пошли, покажу тебе город, заодно сориентируемся на местности. До встречи, Дова.
Филадельфия прекрасна. Брюс Великий[14] не зря посвятил ей песню – такую же прекрасную, как и сама Фила.[15] Есть города, которые особенно хороши осенью, я так и называю их – «осенние» города. Филадельфия – она как раз из них. И пусть сентябрь только первыми своими днями добавил в воздух осеннего золота, пусть лишь календарю известно, что время года сменилось, – все же настало время расцвета Филы. Все ее краски, поблекшие от зноя, обновились, площади и бульвары были хрупки и чисты, а со стены картинной галереи с высоты бесконечной лестницы дерзко смотрела на город мексиканка Фрида Кало, чьи картины, перекликающиеся красками с Филой, привезли сюда на показ. Мы гуляли по этим прекрасным улицам, пили кофе, курили сигареты и сидели на бортике круглого фонтана Логана. Со стороны мы напоминали двух геев зрелого возраста, тем более что непрестанно фотографировали друг дружку, позировали перед объективом, жеманно хихикали и тому подобное. На самом деле мы снимали маршрут, по которому завтра в пять часов утра поедет нужный нам броневик. Без его содержимого у нас ничего не получится. От афиши гордой Фриды мы дошли до центра Конституции и засели в кафе «Старбакс» неподалеку. Это было уже девятое кафе, которое мы посетили в течение трехчасовой прогулки, и двенадцатая или тринадцатая порция кофе. Я взмолился:
– Не могу больше пить кофе. Со мной сейчас случится кофейная кома.
– Пей-пей, – ответил Шурик, который был, по-видимому, кофеманом и после каждой чашки выглядел воспрянувшим духом. – Чай тут паскудный, а кофе замечательный. Дома такого отчего-то нет.
– У нас вода того… Жесткая, – я с отвращением глотнул из своего картонного стаканчика. – Действительно вкусно. Черт знает, чего они туда напихали, но оторваться невозможно.
– Паша, что ты думаешь?
– По поводу?
– По поводу завтра.
– Думаю, что затея гиблая, Саня.
– Называй меня Элекзендер, а то твой «Саня» режет ухо. Почему гиблая? Я так не считаю.
– Сколько у нас человек?
– Нисколько. Ты и я. Полагаю, вполне достаточно.
– Там, в броневике, трое или четверо вооруженных профессионалов…
– Отставных полицейских.
– И это не считая опытного водителя.
Этот парень выглядел неисправимым оптимистом, что порой равняется идиотизму, и мне тогда очень хотелось надеяться, вопреки здравому смыслу, что уверенность Шурика на чем-то основана. На чем-то конкретном, что неизвестно мне.
– Водитель тоже человек.
– Но тогда почему в конце маршрута?! До банка всего четыре квартала, рядом комплекс музеев, везде полно вооруженной охраны!
– Я на это и рассчитываю. Охранники хорошо умеют проверять сумки посетителей, вооружены они револьверами, а у нас будут скорострельные автоматы. И главное, никто не ожидает нападения именно здесь. Охрана броневика перевозбуждена и внимательна на дальних подступах, а в этом месте, на последней миле, они расслабятся.
– Нужна засада. Где именно ее делать? Нужен автомобиль, вернее, что я несу: нужен грузовик, а здесь, в центре, он привлечет внимание. Да я и не уверен, что грузовики пускают в эту часть города. И где его взять?
Шурик широко, обаятельно улыбнулся. Улыбка вышла на сто процентов американской – в тридцать два зуба.
– Почему обязательно грузовик? Почему не автобус?
Я было открыл рот спросить, где он возьмет автобус, но Шурик, который сидел напротив окна, смотрел поверх моей головы. Я проследил направление его взгляда, повернулся к окну и увидел, что рассматривает он стоянку перед центром Конституции. Вся она была буквально запружена желтыми школьными автобусами, которые привозили маленьких американцев на идеологическую обработку. Для школьников каскад музеев Филадельфии почти то же, чем был для советских пионеров Мавзолей или шалаш Ленина.
– Ты что? Это дети!
– А я и не собираюсь угонять автобус с этой стоянки, если ты об этом. У нас будет такой же. Дова очень хороший сотрудник, по исполнительности ей нет равных.
– Она и впрямь квакерша?
Он посмотрел на меня с удивлением, у Шурика вообще было очень эмоциональное лицо, он играл им, словно профессиональный актер. Хотя если немного подумать, то международный авантюрист и должен быть актером, кредо которого – «верю!».
– А по-твоему, какого черта она делает в квакерском центре?
– А ты?
– Я?! Я – нет. Я не отношусь ни к одной из конфессий, даже к атеистам не отношусь. Предпочитаю вообще не думать о религии. Моя религия – это я сам. Считаю себя вполне самодостаточным для того, чтобы и верить в себя же.
Хорошая позиция. Хороша прежде всего тем, что она честная, практичная и всегда оставляет возможность все-таки начать уповать на Всевышнего, когда припрет окончательно и самоуверенность оставит в по-настоящему тяжелый миг.
…Школьный автобус был угнан от муниципальной школы городка Лисбург, что примерно в трехстах километрах от Филадельфии, четыре месяца назад, и все это время простоял под землей, в старом канализационном коллекторе. Несмотря на то что коллектор долгое время не использовался, запах того, что по нему текло еще со времен основания города, так и не выветрился. В автобусе изрядно воняло, и я представил себе, что должен был чувствовать человек, перегонявший его в Филу сразу после похищения. Видимо, у него был хронический насморк и гайморит, он не ведал запахов. Не в противогазе же он ехал, в самом деле!
Помимо запаха нечистот в автобусе нашелся небольшой арсенал: ничего лишнего, но для небольшой войны должно хватить. Мы вымыли автобус из шланга снаружи, и я с удовольствием «пролил» бы его изнутри – таким нестерпимым был въевшийся в обшивку аромат. В четыре утра мы с Шуриком переоделись в шоферскую униформу, он уселся за руль, я рядом, на откидное сиденье, еще раз повторили поминутно план наших действий и по длинному сточному желобу шириной с двухполосное шоссе выехали на поверхность. Солнце еще не встало, но намек на рассвет уже был: слабый отголосок зари появился на востоке тонкой контрастной полосой. Шурик вел спокойно, без рывков, как будто он полжизни водил школьные автобусы и немало поднаторел в этом. На обочине стояла полицейская машина, я видел, как коп проводил нас скучающим взглядом и зевнул.
– Пронесло, – заметил я, глядя в зеркало заднего вида. – Чертов ментяра, и не спится ему. С почином вас, Элекзендер.
– Так и должно быть, – отчеканил Шурик. – Мы с тобой два дерева, остальные пни.
Я медленно стек на пол…
Скорость была миль двадцать, не больше, до места мы добрались без происшествий, и даже полиция нам больше не встречалась, а это было делом небывалым, так сказал Шурик.
– Здесь полиции как того, чем пахнет наш автобус. Фила – номер один на побережье по количеству убийств. Черные шалят, – пояснил он, – но это ночами, а днем все в норме, почти как везде.
Мы въехали на стоянку перед центром Конституции, и Шурик поставил автобус так, что он своей желтой физиономией, похожей очертаниями на профиль ретривера,[16] глядел на нужную нам Вишневую улицу. Двигатель глушить не стал, колеса ручным тормозом не блокировал. Автобус просто уперся колесами в бордюр и замер, готовый к прыжку.
– Пора отрыть топор войны, – Шурик вел себя довольно спокойно, особенно если учесть, что за неизвестность нас ожидала. Он лишь немного побледнел – впрочем, это вполне можно было списать на белесый рассвет.
Я молча кивнул и откинул крышку длинного, похожего на гроб дощатого ящика, выкрашенного в защитный цвет: два пулемета, одноразовые базуки, маски, перчатки, тяжелые армейские бронежилеты.
– Элекзендер, пахнет электрическим стулом – не иначе.
Шурик мрачно поглядел на меня и согласно кивнул:
– И запах дерьма вполне аутентично дополняет этот образ. Не зря же человек обделывается в момент смерти, – он поглядел на часы. – Еще остается пятнадцать минут. Хорошо, что они так рано, что стоянка пуста, что нет детей и случись что, мы их не заденем.
– Чего не скажешь о тех, кто сидит в броневике. Хотя о чем я… Человек, профессия которого – охранять чужие деньги, должен рассчитывать, что он может не дожить до пенсии. Так что как получится.
Десять минут… Я не хочу рассказывать о своем прошлом, совсем не хочу. Но было в нем такое, и не раз, когда в руках оружие, когда до решающего мгновения остаются минуты, – это просто моя гребаная жизнь, и мне она, по всей видимости, должна нравиться. Чувствуете, как я рассуждаю? Ох, голова моя, голова, зачем ты так рано испортилась, словно кто-то проник в тебя, обосновался и сейчас вовсю оспаривает мое право на владение тобою. А ведь иногда, в сладкие моменты просветления, я все еще мечтаю. Мечтаю о том, что однажды наконец пойму – либо я слишком хорош для этого мира, либо, что, конечно же, вернее, этот мир слишком хорош для меня. И тогда я уеду в Сергиев Посад и напрошусь в семинаристы. Возьмут ли? Должны. Что остается человеку, который устал жить, но все еще хочет каждый день встречать рассвет? Только Бог. Забыв о нем в переполненной желчью жизни, где все одинаково на вкус, получив возможность выйти из проклятого круга, начинаешь ощущать его чистый запах, похожий на запах свежескошенной травы и полевых цветов. И удивляешься тому, что, когда ты там пил желчь, принимая ее за истину, то иногда, совсем нечасто, ловил себя на мысли, что где-то есть вот такой, настоящий и честный запах, запах твоего спасения. Да, в моей жизни часто случалось, что между жизнью и смертью оставались минуты, но всегда я ощущал, что скошенная для меня трава и розовые, трепетные соцветия клевера в ней еще не превратились в ломкое желтое сено.