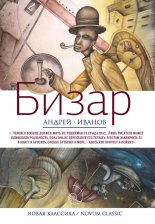Уезжающие и остающиеся (сборник) Басова Евгения

Бежит она скоро со слезами,
Святые мощи слезами обливает:
Пошто ты мне в животе не сказался?
Я бы тебя поила-кормила.
У меня слёзы выступили на глазах, я вдохнула воздуха и не выдыхала – будто с воздухом и слёзы вытечь могли наружу и тогда в классе станут меня дразнить. Я представила, как его родители вечерами за ужином гадают, жив ли он сейчас. И его мама, как моя, говорит:
– Может, мается где-то, как тот Николаша – без денег, без документов…
А он совсем рядом, за стенкой был. И тоже грязный, оборванный – как Николаша.
– «В животе не сказался»! – передразнивают Ольгу Петровну девчонки.
Точно не помнят, что «живот» раньше означало «жизнь». Может, оттого, что в старые времена люди много воевали, а медицина тогда какая была? Если кого ранило в живот, тому уже спасения не было. Пока цел живот – ты живёшь.
Но я не могу сказать девчонкам, чтобы они замолчали. Мне надо воздух в себе удерживать…
На следующем уроке – на биологии – я всё же сдаюсь. Перестаю удерживать в себе воздух. Надежда Ивановна говорит:
– Я проверила ваши работы об условных и безусловных рефлексах. Больше всего мне понравилась работа Вали Пудякиной. Валя рассказывает о своём котёнке Копе, который помогает ей не опаздывать на уроки. Коп знает: если раздался звук будильника, хозяева должны встать и покормить его… И знаете что, – добавляет Надежда Ивановна. – Не по всякому тексту видишь отношение автора. А Валя написала о своём Копе так, что, читая, я поняла, что она очень любит его…
А я ведь писала это ещё до того, как наш Коп исчез. Выходит, я любила его. Но сама про это не знала.
Я вылетаю из класса и там, в вестибюле, реву.
В три, как всегда, подхожу к подъезду – а там на крыльце наш Толик маячит. У него-то уроки раньше кончаются.
– Что здесь стоишь? – спрашиваю. – Ключи забыл?
– Нет, – отвечает. – В подъезде – там Николаша. Я боюсь заходить.
Дворник Алик на подвал повесил замок, и Николаша теперь в подъезде расположился. Чёрный матрас перетащил на площадку к мусоропроводу. Сам стоит у стены, читает, что на ней написано. Читать там не перечитать…
Николаша поворачивается к нам и виновато улыбается: вот он, мол, я, некуда мне себя деть. Простите меня, что я живу. И если мне придётся вашего Копа в лесопарке съесть – тоже простите. И не хочу я убивать его – а само всё к тому идёт.
И кто меня за язык дёрнул?
– Николаша, – говорю, – давай я тебе щец вынесу.
С тех пор он, что ни день, ждёт, когда я приду из гимназии. Торопясь, не снимая гимназической клетчатой жилетки, я тащу в подъезд миску щей. Щи дымящиеся, мясные, жирные. Мама говорит – как удобно, сваришь большую кастрюлю и на балкон, на холод её. Всю неделю потом о еде не беспокоишься.
Мы, конечно, с Толиком хотели бы, чтобы у нас на обед были котлетки с картошкой, и лучше всего с жареной. Но мама говорит, щи – это самая здоровая еда. Это наша, исконно русская еда – что может быть лучше?
Мама всегда огорчалась, что щи убывают медленно. Мы с Толиком после школы так, разогреем себе, похлебаем… Зато теперь они стали убывать очень быстро. Мама говорит: дело к холодам, у детей аппетит повысился. И мне страшно, что она узнает. Небось, обидится, что её вкусные щи – и Николаше.
Николаша улететь готов кверху носом. От щей поднимается ароматный дымок, летит к потолку вдоль трубы мусоропровода. У Николаши на лице написано такое счастье, точно ему больше ничего в жизни не нужно. Точно он уже стал святым, как тот Алексей, человек Божий.
– Николаша, – спрашиваю я у него на всякий случай, – а ты умеешь лечить людей?
Он туманно смотрит на меня. Потом говорит:
– Нет, я на врача не учился. Я мастером работал, на заводе.
Сашка заходит за Толиком и ждёт, когда Толик завяжет шнурки. А они всё развязываются. Сашка говорит:
– Я скоро за тобой не буду заходить. Если захочешь, буду тебе за списывание деньгами отдавать. Мне, – хвастается, – теперь вся ваша математика – только чтоб деньги считать и ещё чтобы учительница не донимала почём зря.
Сашка хвастается: он взрослый человек! Уже работает. Какому-то Сергею на базаре по мелочи подносит, когда что ему нужно, а бывает, ящики выгружает из машины…
Мама ахает. Но потом, верно, думает, что Сашка сочиняет. Как может такой малыш ящики грузить?
– И этот ваш работает, – рассказывает Сашка. – В подъезде у вас живёт… Ну, дядя Коля…
И мы не сразу понимаем, что речь – о Николаше.
Вскоре Николаша исчезает куда-то из подъезда. Может, на базаре, в каком-то закутке, ему нашлось убежище. Мы с мамой поднимаемся по лестнице, дворник нам попадается навстречу – тащит из подъезда чёрный матрас.
– Не нужен стал, – виновато говорит он нам. Как будто мы станем ругать его за то, что Николаша, надумай он вернуться, не найдёт на прежнем месте своего лежбища.
А после как-то утром Сашка сообщает, что Николаша на рынке больше не работает. И мама, сонная, кивает ему:
– Ну да, ну да… Когда человек уже отвык работать, ему трудно начать опять…
А маме трудно утром начать что-то говорить. У неё редко получаются такие длинные фразы. Я даже удивляюсь. Мама же по утрам на автопилоте – странно, что Сашка этого не замечает.
– А то не трудно! – как равный, кивает моей маме он. – Позавчера-то дядя Коля поднял мешок дынь – и надорвался. Лежит теперь животом мается… Хозяин говорит: ну, дурень, кто так берётся за мешок?
И тут я вижу, как с мамы на глазах слетает сон. И она глядит на маленького Сашку, рассуждающего про то, что тяжесть надо равномерно распределять сзади, по спине. Тебе на спину кладут мешок, и ты не бежишь с ним; ты как бы падаешь вперёд, но падаешь не сразу, а медленно – за это время ты таки успеваешь добежать, куда бежал, и сваливаешь мешок в нужное место…
– Так это правда, что ли, Сашка, ты работаешь? – запоздало спрашивает мама.
– Я не таскаю мешки, – успокаивает нашу маму Сашка, – вы что, тёть-Света…
– Саша, послушай… – мама не знает, что сказать. Она поднимает руки, чтобы обнять Сашку, но тот подныривает под её руками и оказывается нос к носу перед Толиком – на четвереньках, точно какая-то зверушка. А Толик, сидя на пуфике, завязывает ещё шнурки.
– Ну ты, копуша! – бросает ему Сашка.
И с этого дня он за моим братом больше не заходит.
Толик сразу же начинает отчаянно опаздывать. И маму вызывает его учительница. Толик записку от неё приносит. Мама кипятится:
– Хотела бы я знать, она подумала, как я с работы выскочу? Мы, между прочим, делаем заказ… панно в городской администрации. Это же далеко – туда-сюда за час не обернёшься!
Толику теперь – стой и отдувайся, что учительница об этом не подумала.
– И что я стану говорить? – спрашивает мама, как будто он знать должен. – Что – ах! – больше такого не повторится, для верности я дома тебя выпорю? Да я, между прочим, и сама опаздываю, – сообщает она нам, точно мы не знаем.
– Я утром, – говорит, – всегда спать хочу. Да и вообще, с тех пор как папка ваш пропал, мне, кажется, всегда охота спать. Никак я отоспаться не могу…
Я спрашиваю:
– А когда папка был, ты легко вставала?
Мама говорит:
– Да тогда всё другое было. И я тогда вставала только к вам. Только агукнете – и я сразу к кроватке. Мишка, ты, Толик – вы же все рождались друг за дружкой, и один только подрастёт – а другой уже тут как тут.
Мама улыбается чему-то.
– Нет, это не сравнишь с тем, как на работу вставать. Мне кажется, я счастливая тогда была…
И у меня сжимается сердечко. Мамочка моя, с тех пор как папка пропал, выходит, ты и не была счастливой! Ты продираешь по утрам глаза, натягиваешь свою робу. А после ты целые дни проводишь с тонкой кисточкой на тонкой лестнице на верхотуре. Был бы папа – разве пришлось бы тебе рисовать на сквозняке?
Но папа с нами был – точно в каком-то другом мире. Не то что мы – и мама, верно, стала забывать его. И фотография не помогает надолго память сохранить. На тех рисунках, набросках карандашом, что мама делала по памяти, наш папа каждый раз другой. То он мальчишка вроде Мишки, то пожилой мужчина, старше дворника. У него длинные вертикальные морщины на щеках. Только выражение глаз одно и то же – уж до того грустное, что не могу я долго в эти глаза смотреть.
В гимназии нам говорили: художник, когда портрет рисует, всегда рисует как бы самого себя. Что-то от себя он обязательно портрету добавляет. Вот и ты, мамочка, рисуешь свои грустные глаза, свою усталость. Я слышала, как ты говорила тёте Анжеле: если бы ты не умела рисовать лучше всех там у вас, хозяин мастерской давно бы тебя выгнал. Ведь ты опаздываешь на свою работу.
А тут ещё кто хочет может выговорить тебе, что ты что-то делаешь не так. Например, Толикова учительница может за здорово живёшь тебя позвать и накричать на тебя за то, что наш Толик опаздывает.
И я решаю пойти к ней вместе с мамой. Мало ли что? Постою за дверью. А если учительница и впрямь начнёт кричать на маму, доводить до слёз – тогда уж я вмешаюсь. Распахну дверь – сразу же скажу: пусть на себя посмотрит. Только и умеет, что твердить о какой-то дисциплине. Нет чтоб учить получше! Ну почему, ну почему во всех школах не учат одинаково? И детям приходится переходить в гимназию и мучиться, как я сейчас? Кстати, и Толик собирается уйти…
Мы идём, а все летят навстречу, к раздевалке. Мне пару раз бросают мимолётом:
– Предательница!
Это ещё я с мамой иду, а то досталось бы мне от бывших одноклассников!
Завуч с англичанкой тормозят нас в коридоре, и завуч начинает маму упрекать, что они здесь меня учили, пестовали. А я – фрр! – и улетела из гнезда. Гимназия по городу сливки собирает – детей, которых подготовили другие. А после занимает в олимпиадах первые места. А простой школе и выставить-то некого.
Она укоризненно смотрит на нас. Как будто мы должны ей что-то отвечать. Но мы не представляем, что ответить.
– А потом, – сердито продолжает завуч, – эти дети поступают учиться в Москве. И всё! Сюда они уже больше не вернутся.
Она кивает мне:
– Ведь, небось, тоже в Москву хочешь? Ясно, хочешь. Москва со всей провинции сливки собирает. Ваш Миша уже там?
Все знают, что он там. Про него писали в городской газете, когда он победил в олимпиаде.
Ольга Петровна, словесница в гимназии, нам объясняла, что такое риторический вопрос. Это вопрос, который не требует ответа. Но завуч без ответа никак не успокоится.
– Вам даже сказать нечего! – бросает она маме.
И мама начинает оправдываться, как ученица:
– Мы просто не думали так… в государственных масштабах…
– А надо думать! – говорит нам завуч. – Никто не хочет думать в государственных масштабах! – И наконец-то оставляет нас, уходит наводить порядок в раздевалке. А то там в дверях образовалась пробка. Здесь, в школе, ей не дают думать в государственных масштабах.
И англичанка, наклонившись к маме, говорит свистящим шепотом:
– Я, между нами, скажу: вы поступили правильно. Что вам престиж школы – вы думаете о будущем своих детей. В гимназии они получат образование совсем другого уровня. У них же такой сильный английский! Там есть даже возможность поехать в Англию.
Далась им эта Англия!
Интересно, в Англии учителя на родителей кричат? Нам-то сейчас достанется! Скажут – можете забирать документы, если Толик не успевает к первому уроку. Понятно, мы их не заберём, да и в канцелярии так за здорово живёшь не отдадут. Справка нужна, что тебя берут в другую школу. Я уходила в гимназию, я знаю. Да и кто захочет с отличником расстаться! Толик – отличник. Но маме всё равно всё это скажут – так только, чтоб она начала оправдываться.
Но нет. Толикова учительница совсем молодая. Она теряется, когда видит маму. Говорит:
– Ой! Здравствуйте!
Хватает маму за руки. Замечает в дверях меня и говорит снова:
– Ой! Как хорошо, что вы вдвоём! Спасибо, что пришли… А то я больше не знаю, кого позвать…
И начинает уговаривать нас простить её.
Оказывается, она позвала нас не из-за Толика, а из-за Сашки. Она видела, что Сашка с Толиком друзья.
Сашка перестал в школу приходить. Жил он всегда у бабушки, учительница уже ходила к ней. Бабушка сказала ей, что этот разбойник, наверное, у мамы. А дальше стала жаловаться на своё здоровье. Сашкина бабушка всем жалуется в нашем дворе: «Ах, там болит, здесь ноет, там стреляет». С ней рядом вообще останавливаться нельзя. С ней – «здравствуйте!» и мимо. Иначе загрузит тебя своими болячками по самую макушку. Но учительнице-то было откуда это знать? И она чувствовала себя совсем разбитой и больной, когда отыскала на другом конце города Сашкину маму. А вышло, что совершенно зря. Мама сказала, что не видела Сашку уже четыре месяца, с самой своей свадьбы.
Сашкина мама недавно вышла замуж, и у неё родились двойнята. Учительница их не видела, Сашкина мама держала её в дверях. В комнате дуэтом пищали малыши. Сашкина мама разводила руками и говорила:
– Вы видите, я вам фи-зи-чес-ки ничем помочь не могу. Я фи-зи-чес-ки не успеваю.
Ещё у Сашки есть отец, но он…
– Пропал, – подсказывает мама.
– Я разыскала его, – успокаивает её учительница. – Разве бесследно люди пропадают? Есть адрес…
Она читает по бумажке: город, а дальше какие-то буквы, номера. Всё это вместе означает – исправительно-трудовая колония номер два, отряд восьмой. Моряков Игорь Андреевич – Сашкин отец. Статья 158, кража. Сидеть осталось полтора года.
– В общем, считай, что нет его, – сочувственно говорит мама.
– Ну почему же? – возражает учительница. – А письма? Он мог бы влиять на Сашку… в письмах! Наставлять его, как-то контролировать. Но этого нет…
– Понятно, – кивает мама. – Начнёт учить, Сашка скажет: а сам-то? На себя погляди!
– Что вы, не скажет, – говорит учительница. – Они же ещё маленькие!
Учительница волнуется, что её не понимают. Одёргивает на себе пиджак. Мне кажется, её стесняют строгий пиджак и юбка. Она ждёт не дождётся, когда сбросит их, как я – гимназическую форму. А я-то думала, что она станет кричать на нас. Мне делается стыдно за свои предположения.
– «А сам-то?» – так дети могут говорить… – учительница смотрит на меня, – ну, может, с седьмого класса. А маленьким всегда нужен папа, они рады любому… И ведь Сашка тоже мог бы поддерживать его – своими письмами. Я бы заботилась, чтоб Сашка отвечал… Я столько раз писала об этом и Игорю Андреевичу, и в администрацию колонии…
– Но вам не отвечают, – догадывается мама.
– Отвечают, – машет рукой учительница. – Но только так, чтоб что-нибудь ответить. Как будто им всё равно…
Мы обещаем ей, что, как только встретим Сашку, мы обязательно уговорим его вернуться в школу. По пути домой я думаю, как это она сказала: детям нужен папа, какой бы он ни был. Я спрашиваю:
– Мама, а наш папа какой был?
Мама отвечает:
– Хороший был, я же говорила.
– Нет, а работал он кем? – спрашиваю.
Мама говорит:
– Пока завод не закрыли – мастером работал на заводе.
Вечером тётя Анжела заходит к нам. Сразу понятно – у неё всё в порядке. Она как будто в белой шапочке. Блондинистые волосы уложены крупными кудрями, как будто тёте Анжеле наклеили на голову парик Деда Мороза. Тётя Анжела не ходит на работу, она может хоть каждый день с утра пораньше отправляться в парикмахерскую. А мама каждое утро хвост завяжет – и вперёд. И нет ничего красивее длинного хвоста, болтающегося по маминой спине.
Тётя Анжела смотрит снисходительно, как всегда, когда побывает в парикмахерской.
– Мы с Косачихой решили, – говорит, – надо поставить в подъезде домофон.
Мама спать хочет.
– Зачем? – спрашивает, зевая. Рот прикрывает ладошкой, на ладошке голубая краска. Не отмывается.
Тётя Анжела пожимает плечами:
– Зачем ставят домофон? Чтобы подъезд, конечно, был закрыт. А то повадился к нам ночевать этот… Николаша.
– Но его вроде сейчас нет… – возражает мама, а тётя Анжела, не слыша её, продолжает:
– И Косачиха говорит – в своём хозяйстве уже троих котов недосчиталась. Или четырёх. Ругается всё.
Мама спрашивает:
– Так что, подъезд закроем, чтобы её коты не разбежались?
Тётя Анжела понимает, что сказала глупость. За Косачихой вообще глупо повторять. Но отступать не хочется.
– И дочери моей на стенке пишут всякую ерунду, – неохотно говорит тётя Анжела. – Ведь кто-то ходит сюда, а?
И она глядит на маму так, точно мама скажет сейчас, кто сюда ходит.
Мама молчит, тётя Анжела жалуется на свою Наташу:
– Совсем неуправляемая стала. Как же – появился неизвестный воздыхатель! Спрашиваешь, почему полы не вымыты, – дерзит…
Она машет рукой.
– В общем, с тебя… Вот, здесь написано… – она протягивает маме листочек в клетку. – Мы с Косачихой подсчитали. Уже во всех квартирах были, собираем деньги…
Мама отодвигает листок:
– Я не смогу…
– Не сразу! – убеждает её тётя Анжела. – А пока денег нет, я за тебя внесу. Расплатишься с получки. Мой не против, чтобы за тебя внести.
«Мой» – это она про дядю Гену.
Мама говорит:
– Анжела, нет, ты не поняла. Я не смогу с получки расплатиться. У меня денег всегда в обрез. Получила – значит, за квартиру, за гимназию надо заплатить…
– Светка, я правда не понимаю тебя, – говорит тётя Анжела. – Вы нищие, и всё же у тебя дети учатся в гимназии. Среди богатеньких сынков, которые по заграницам разъезжают. У меня только одна Наташка, и мужик мой зарабатывает нормально, а я ведь её туда не поведу. Сколько ты в месяц платишь, а?
Мама говорит:
– А это уже, Анжела, тебя не касается.
В гимназии Кира Ильинична, наша англичанка, теперь только об Англии и говорит. Мы с Мухиным и ещё тройка-четвёрка одноклассников не понимаем, что мы-то здесь делаем. Всем остальным втолковывают, что в Англии надо ходить по струнке. Как гимназисты в старые времена.
– А то ведь прошлая группа ездила, – негодует Кира Ильинична, – так они всю Трафальгарскую площадь семечками заплевали! Тоже ещё – элита…
Волей-неволей, а посочувствуешь одноклассникам. Ну что она кричит? Они, что ли, плевались семечками?
– Не слушай её, – говорит мне Мухин на перемене, – на самом деле элита – это не они, а мы.
– Как это – мы? – спрашиваю.
Мухин объясняет:
– Меня взяли сюда, потому что я умный.
Он так спокойно, просто говорит: «Я умный». Никакого хвастовства. Летом трава зелёная. Но скоро уже зима. Сейчас под ногами хлябь. Небо вверху, а не внизу. А он – умный. Всё это – факты.
– И ты умная, – говорит Мухин. – А ещё брат у тебя… Это… Составил славу гимназии. Я стенд видел.
– Миша? – киваю я.
– Ну, да. Значит, у вас это семейное. У тебя гены. Я-то про свои гены не знаю. Мамка у меня продавщица, на хозяина работает. А про отца она молчит. Но сам я умный, видно же. Не были бы мы умные, разве нас приняли бы сюда?
Тоже ещё спросил!
– Конечно, нет, – говорю.
– Так что это не они, это мы – элита, – объявляет Мухин. – Не думай, мы ещё будем с тобой в Англии.
Он так и говорит: «Мы с тобой».
А я про Англию и не думаю. Я на уроке английского думаю про словесность. Про то, как мы читали про Алексея, человека Божьего.
Семнадцать лет он прожил в родном доме, а никто и не узнал его. Как было его узнать, когда он был вроде Николаши. Может, Николаша уже умер? Сашка ведь говорил – он мается животом.
Я мотаю головой, но мысли не отгоняются. Им хоть бы что. Зато Кира Ильинична окликает меня:
– Пудякина!
И потом снова:
– Пудякина, к тебе же обращаюсь!
Я Пудякина Валентина Николаевна. Мой папа, пока не пропал, работал на заводе. Он был мастером. «Не может, не может быть», – уговариваю я себя. Но уже поздно себя уговаривать. Николаша может быть моим отцом – всё совпадает.
В классе горит яркий свет, он делается всё ярче. Головы моих соучеников отбрасывают тёмные тени. От Киры Ильиничны тоже падает чёрная тень, она взмахивает руками, и тени начинают кружиться – быстрей, быстрей, быстрей. И сквозь эту пляску пытается прорваться металлический голос Киры Ильиничны:
– Проверим, как дела у наших аутсайдеров. Они не едут – им тем более важно заниматься дома! Пудякина совсем завяла…
И сразу же я слышу, как она говорит:
– Совсем, совсем завяла. Это голодный обморок…
– Они что, впроголодь живут? – спрашивает наш гимназический врач, а ещё кто-то в расстановку ей отвечает:
– Не наш, конечно, контингент, но почему так сразу – впроголодь?
А дальше всё сливается в один клубок, и я не различаю, где чей голос.
– Вы что – про контингент? Это сестра Миши Пудякина! Он же на стенде у нас висит, на первом этаже.
– Висит-то он висит, а здесь у меня тоже ходил прозрачный…
– От напряжения! Им же тянуться надо! Им же не как остальным, им не на «пять» – на «шесть», на «десять» учиться надо… Вот вам и обмороки…
– Сейчас ведь все хотят пробиться в люди… Как же, здесь ведь элитная гимназия!
– А что там за семья?
– Мама одна. Художница.
– Ну, как художница… Не то чтобы известная художница… Вот помните, у нас на входе делали панно? Там тоже одна Пудякина была…
– Да, женщина была – на мальчика похожа…
– На мальчика с длинным хвостом…
– Ну да… Ещё наверху всё время, под потолком… Там вроде она одна только рисовала – на лестнице, туда мужики не лезли…
– А кто бы удержался из них? Я говорю, она такая худенькая…
– Что, тоже худенькая, как дочь? Небось, работает на одну плату за гимназию.
– А в доме есть нечего…
– Подумать только, голодный обморок случился. И прямо на моём уроке.
– Тоже мне элитная гимназия…
– Нет, что вы! Я дома у них была. Они не голодают… Миша учился в моём классе…
– А что вы пошли к нему?
– Я всех решила посетить… Знакомилась. Так легче с ними потом… Мне, кстати, у Пудякиных больше всех понравилось…
Кто-то хихикает.
– Нет, дело не в том, что в однокомнатной живут. Как-то у них спокойно себя чувствуешь…
Я соображаю: это говорит Мишкина классная, Галина Васильевна. Больше к нам никто из гимназии не приходил.
– Чистенько у них, и дома, по крайней мере, всегда есть щи…
«Щи!» – спохватываюсь я. И сразу вспоминаю дымящиеся щи в нашем подъезде. «М-м-м», – мычит от счастья Николаша. Это мой отец. Капуста с луком оседают в бороде, он не замечает. Гимназический врач хлопает меня по щекам – не увернёшься. Слёзы выбивает из глаз. И я реву от души, беззвучно – точно краник открыла. Два краника в глазах. «Ой, мамочка!»
Мама гладит меня по щеке. За мамой сбегали. Гимназия совсем рядом с городской администрацией. Мы с мамой едем домой, она укладывает меня в кровать. Толик уже дома. Я слышу, как мама им командует. Вместе они что-то разогревают и жарят котлетки. Толик приносит тарелку в комнату – надо кормить меня. Он серьёзен – мама дала задание, надо его выполнить. Он не понимает, как это я не хочу котлетку. Мама убежала обратно в администрацию. Они там сдают панно. Толик говорит:
– Мама просила глядеть, чтоб ты не вставала.
Когда ещё можно спа-а-ать? Мне спится сладко, я сладко плачу во сне. Мне очень тепло. Я точно освобождаюсь от тяжёлой болезни… Потом, потом подумаю, что с этим со всем делать…
«С чем?» – спохватываюсь я и сажусь на кровати. И уже не понять, как я могла спать спокойно, если Николаша – мой отец. И Толику он тоже отец, и Мише. Что будет, когда они узнают? Что будет, когда узнает мама?
А может, ещё нет? Мне хочется срочно узнать наверняка. В кухне позвякивает посуда – Толик хозяйничает. Он умеет варить макароны. Мама придёт – а стол накрыт. Мне не лежится. С тумбочки я беру фотографию: мама, папа, Мишка, я и Толик-гусеничка. Надо найти Николашу и поглядеть: похож, не похож?
Одеваюсь, беру с вешалки куртку… Тихо-тихо-тихо проскальзываю в коридор, открываю дверь…
Наташа отшатывается от стены. В руках у неё чёрный маркер, на стене свежая надпись: «Наташа моя короле».
– Это ты сама? – изумляюсь я. И, видя Наташкин испуг, понимаю: – Ты всё – сама?
Все объяснения в любви, обезобразившие наш подъезд, написаны ею собственноручно.
Ей в это время никто не мешает. Я в гимназии, Толик один не выходит. Взрослые, кто работает, – те на работе. Тётя Анжела учится готовить по телевизору, сидит перед экраном. Дядя Гена, если он дома, лежит на диване, отдыхает. Они оба думают, что Наташа выходит гулять во двор.
Наташины глаза делаются больше, шире. Она не может ни слова сказать, ни с места сдвинуться от испуга.
– Наташа, зачем ты? Ну, скажи!
Наташа хочет на месте исчезнуть. Она сутулится ещё больше, хлюпает толстым носом и вытирает его рукой, в которой зажат чёрный маркер. На щеке остаётся след. Как раньше никто не догадывался, что она пишет сама?