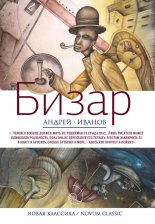Уезжающие и остающиеся (сборник) Басова Евгения

Я обнимаю её, она плачет, как я сегодня в гимназии. Какой сегодня… день плача. Я обещаю Наташке, что никому ни слова не скажу. Тащу её к нам – как её отпустишь?
Вечером мама возвращается с работы и приносит ту самую фотографию: она, папа, Миша, я, Толик-гусеничка. Видать, я выронила в подъезде и от неожиданности не вспомнила про неё.
– Я нашла это у нашей двери, – говорит мама. – У нас только одна такая фотография, где мы все пятеро вместе.
Но выяснять, кто бросил фотографию на пол в подъезде, мама не берётся. Она устала, ей хочется спать.
Назавтра в гимназию я иду с опаской. Нам говорят: «Кто собирается болеть, тот может отправляться в простую школу. Вас предупреждали, какие у нас здесь нагрузки».
Хотя бы на уроки успею вовремя. Мы с Толиком выходим заранее. Он в школу побежит, а я на остановку.
Воздух холодный, под ногами ледок. Дворник долбит этот ледок ломом.
– Здравствуй, дворник Алик! – говорит ему Толик. – Дай мне, пожалуйста, немножко поработать.
Толику трудно удержать лом. Он корябает лёд и так и эдак. Дворник рад случаю передохнуть.
– Нет деток, – говорит он, точно мы только что его об этом спросили. – Один Алик остался.
Он забирает у Толика лом, но, перед тем как начать долбить, смотрит ещё на чистое, ясное небо.
– Скоро зима, – говорит нам дворник. – Русская зима – тяжело. Я никак не привыкну. Сильно холодно. Нельзя – чтобы так холодно. Но и домой ехать нельзя.
– Почему – нельзя? – спрашиваю.
– Дома больно жить, – говорит дворник. – Жена была, детки были. Дом был хороший. Бомба упала – всё, ничего нет…
– У вас была война? А где ты жил? В Чечне? – тормошит его Толик.
А я от неожиданности вспоминаю Мухина, как он вот так же спокойно сказал мне: «Я умный». Это само собой. Небо над головой, а под ногами лёд. Мухин умный. А у дворника всех убили.
Мне трудно сосредоточиться на английском. Дворник Алик выучил русский, и теперь он говорит на двух языках. И я выучу английский. Но сейчас у меня каша в голове. Николаша – мой отец. Наташа сама себе признаётся в любви – расписывает весь подъезд чёрным маркером. У дворника Алика, оказывается, бомбой убило семью. А я вчера потеряла сознание прямо на уроке. Кира Ильинична решила, что это был голодный обморок. И она думает теперь, что мы живём впроголодь и мне не место в элитной гимназии.
Кира Ильинична загадочно смотрит на меня. И в глазах что-то мелькает… доброе. Наверно, мне кажется. Она так на меня ни разу не смотрела. Она просит зайти к ней после уроков.
– Девочка, – она сдержанно улыбается и вдруг неловко обнимает меня. – Девочка, спонсор нашёлся. Ты едешь в Англию.
– Какой спонсор? – не понимаю я.
Она машет рукой.
– Тебе не надо знать. Люди, которые занимаются благотворительностью, часто хотят остаться неизвестными. И нам с тобой не важно, откуда эти деньги, как они были заработаны. Главное, что есть люди, готовые помогать одарённым детям.
Мне не верится, что это наша чопорная англичанка. Она тормошит меня:
– Зря ты страдала! Ведь надо же, какие у нас были переживания, до обморока!
Она, оказывается, думает теперь, что я упала в обморок, потому что очень хочу поехать в Англию. Вот стыдно-то! Поддразнивала она меня этой своей Англией и думает, что я повелась. И как повелась!
И Мухин тоже думал, что я переживаю… Как он сказал – «Мы ещё будем с тобой в Англии».
– А Мухин едет? – спрашиваю.
– Нет, может поехать кто-нибудь один. По уровню вы идёте где-то наравне. И я решила: если уж ты так переживала…
– Я? Я не переживала, – говорю. – Я вовсе не из-за Англии упала в обморок.
И она спрашивает:
– А из-за чего?
И что-то становится другим. Меня охватывает паника. Попробуй только узнай Кира Ильинична, что Николаша – мой отец. Тут не обойдётся одними восклицаниями: «Ах, в нашей элитной гимназии!» – как вчера, когда она думала, что я голодаю. Тут будет что-то такое страшное, что я себе и представить не могу. Я с опаской гляжу на Киру Ильиничну. Она пытается дознаться:
– Ты ведь не голодаешь дома? Значит, у тебя слабое здоровье? У тебя часто бывают обмороки? Да? Не знаю, можно ли тебе поехать с нами в Англию…
Сидеть и отвечать на её вопросы становится невыносимо.
– Нельзя мне в Англию, – говорю. – Пусть Мухин едет.
После уроков, уже в Ольховке, я не иду домой, а от остановки сворачиваю к базару. Он занимает чуть ли не половину посёлка. Я не люблю базар – у меня здесь сразу начинает болеть голова. На базаре всегда толпы народа. Сюда приезжают на машинах затариваться на всю неделю, а то и на месяц. По левую руку продуктовые ряды, по правую – промтоварные. Они проходят как улицы, и на каждой тебя сто раз окликнут:
– Колготки, колготки, девочка, берём!
– А вот помаду покупаем!
– Спрашивайте, девочка, что вам интересно!
Я спрашиваю:
– Мне бы Сергея…
Торговка кривит губы.
– Там, в конце прохода павильон…
Мама нам говорила, чтобы мы никогда не ели в этом павильоне. Того и гляди отравишься. Не исключено, что мясные блюда готовят из кошек и собак. Но в павильоне полно народа. Сердитая женщина ходит с ведром воды от стола к столу, вытирает тряпкой поверхность – раз, раз! Народ только успевает тарелки поднимать.
Сергей вельможный, как сказала бы наша словесница Ольга Петровна. Проще сказать, его распирает от сознания своей важности. С такими, как он, не говорят – с такими лепечут:
– Здравствуйте, я бы хотела…
– Молодая ещё, – говорит Сергей. – Сколько лет тебе?
– Тринадцать. Я хотела… У вас мальчик работает.
– Не знаю мальчика. Сказал – молодая. Года через два-три приходи, возьму официанткой.
Приду, жди!
Назавтра я выпроваживаю Толика и маму, а сама бегу не на остановку, чтобы ехать в гимназию, а снова на базар. С утра пораньше он ещё пустой. Ряды просматриваются насквозь. Несколько человек в ярко-зелёных жилетках подметают там и здесь. Кто-то копается в мусорных контейнерах. Может быть, здесь я увижу Николашу и Сашку?
Но нет, они сидят на пустом прилавке под навесом, пьют чай из пластиковых стаканчиков. Нитки от заварочных пакетиков торчат. Чай дымится, на лицах у Николаши с Сашкой написано удовольствие. М-м-м…
Сашкиных круглых щёк как не было. Можно было бы сказать, что его стало не узнать. Хотя, конечно, я сразу узнаю его, и только по нему я узнаю и Николашу. Живой! Ведь он же это – подстриженный, без бороды, лицо только в короткой щетине. Одет он теперь иначе. Тоже бедно, плохо. И всё же людей в такой поношенной, ветхой одежде не так уж редко встретишь на улице. С ними разговаривают, и они ходят в магазин и ездят в троллейбусе – никто не шарахается от них, как прежде шарахались от Николаши. Размытые Николашины черты проявились и стали чётче. Пятна сошли. Лицо приобрело осмысленное печальное выражение.
Я подхожу, думая, что стану им говорить, но Сашка опережает меня – издалека ещё он спрашивает:
– Чего пришла сюда, гимназистка?
И я теряюсь: он никогда со мной так не разговаривал. Как маленькая перед взрослым, я начинаю объяснять:
– Учительница меня просила, чтобы ты снова в школу приходил…
– А ты что, – перебивает Сашка, – на побегушках у неё?
Тут Николаша осаждает его:
– Полегче, сынок. Ты барышню эту не обижай. Барышня мне щей наливала. М-м-м – щи!
Лицо Николаши принимает мечтательное выражение.
– Наши щи, – говорит, – и покойника к жизни вернут. Кто варил-то?
– Мама, – отвечаю. – Пудякина Светлана Ивановна.
А Николаша и бровью не ведёт.
– Я ведь, – говорит, – и был покойник. А твои щи меня подняли. Нутро согрели, да и не одно только нутро, а самую душу согрели. Видишь, живу.
И я вижу: он больше не извиняется за то, что живёт. Просто рассказывает.
– На той неделе едва не помер, да вышло – рано ещё мне на отдых. Мне дальше трудиться-маяться… – Он огляделся, кивнул на Сашку: – И не один я теперь. Парнишка ко мне прибился.
И Сашке на меня пальцем тычет:
– Вот, чистая душа меня щами кормила, как в сказке. Если принцесса полюбит чудище да пожалеет – оно станет принцем…
И тут же по голове себя хлопает:
– А это мысль! Если меня поцелует хорошая девочка, то я, может, и вовсе человеком стану.
И тянется ко мне, щёку подставляет:
– Не поцелуешь, барышня?
Щека вся заросла грязным волосом.
– Что, противно? – спрашивает Николаша.
Тогда я говорю:
– Дурень ты, Николаша. Ведь ты мой отец.
И чувствую – обмерла вся. Сколько я думала, как я ему это скажу. А тут само вылетело.
Он глядит, не понимает:
– Это – в отцы я тебе гожусь?
– Это, – говорю, – ты мой отец! Он пропал восемь лет назад. Он мастером на заводе работал.
И достаю фотографию, тычу ему в лицо. Он тупо спрашивает:
– Кто это?
– Вот мама, – говорю. – А вот я. А вот это ты…
– Я? – спрашивает Николаша. – Я, – говорит, – сюда из Пензы приехал. У меня жену Катей звали. А у тебя мамка – Светлана… Как там? Ивановна?
И Сашка говорит мне, как маленькой:
– Вот выдумала. Мало ли кто мастером на заводе работал.
Я зачем-то оправдываюсь:
– Его Николаем звали… – хотя уже знаю, что делать мне здесь больше нечего.
В гимназию я прихожу только ко второму уроку. Классной, конечно, доложат. А что сказать – где я была?
Кира Ильинична ловит меня в коридоре. Первый у нас был английский. Я не успеваю ничего придумать – она мне говорит:
– Серёжа Мухин сразу сказал, что поедет с нами в Англию. У него даже мысли не было спросить: а едет ли Пудякина?
Кира Ильинична вздыхает отчего-то:
– Дурочки же мы, женщины…
Не знает она, что придёт время – и я смогу сколько угодно ездить в Англию. Да хоть совсем оттуда не вылезать.
Мои одноклассники учат на уроках, как будут обращаться к экскурсоводу и как станут благодарить его:
– This was a great excursion! I dreamed of watching the Tower…[1]
Мухин тянет руку. Кира Ильинична спрашивает его, он оттарабанивает:
– I can tell about myself! I’m a regular boy. My mama’s a sales associate, she works in a shop. I’m a student. I am studying in the best school in my town. I have many friends in my class…[2]
Всем сразу видно, что он едет в Англию. Счастье играет в нём, заставляет подпрыгивать на стуле, так что Кире Ильиничне приходится осаживать его:
– Keep according to your status of gymnist![3]
Я буду keep according, Кира Ильинична. По мне сразу будет видно, что я училась не в какой-нибудь, а в лучшей в городе гимназии. Вам, Кира Ильинична, не будет за меня стыдно. Из Англии я вам напишу письмо.
Я открываю тетрадь с конца и начинаю набрасывать черновик письма.
«Dear my teacher Кира Ильинична! How are you? I’m fine. I live with my mama, brothers & Cop here in England. I like England very much»[4].
Придёт время, и я напишу ещё: «My mama became a great artist. Her paints are on big exhibitions»[5].
Но это будет потом, со временем. Мама сама говорит, что ей надо ещё многому учиться. «My mama is studying in a very good art school, – тороплюсь я сообщить Кире Ильиничне. – We live altogether in a wonderful house just near the sea. I have many pets except of Cop…»[6]
Мне представляется почему-то, что и Прошак живёт где-то в нашем английском дворе. Я любуюсь им всякий раз, когда иду через наш двор в Ольховке. Шерсть длинная, на животе – бахромой. Таких, как Прошак, моют специальным шампунем, а потом ополаскивают и в воду добавляют синьку, чтобы шерсть приняла благородный стальной оттенок.
Об этом нам рассказывали на кошачьей выставке. Мы туда ходили с мамой и Толиком.
Мама сразу забилась в угол между клетками и стала в блокноте рисовать. Там на стене висело «Съёмка запрещена». Мама спросила:
– А рисовать можно?
Служащий, парень с бейджиком, удивился и ответил:
– Рисуйте, пожалуйста.
И тут раздался Толиков рёв. Оказывается, он отстал и ему было не пробиться к нам. И тут оказалось, что на этой выставке кто-то глядел за нами. Народ-то на котов собрался посмотреть, вся толпа. Но нас таки выделили в этой толпе. Там надо было двигаться по часовой стрелке мимо клеток, чтобы не допустить давки. Я продвигалась против стрелки, наступая на чьи-то ноги. Толик ревел, а в ухо мне шипели:
– Мать-то пристроилась рисовать. За детьми надо глядеть, если нарожала. А если рисовать хочешь – не рожай.
Тоже ещё советчицы.
Я выговаривала Толику:
– Сашка-то всюду ходит один и не боится!
Хотя на выставке и Сашка, может, испугался бы. Кругом куда ни глянь – коты, собратья Прошака, дичились, вид у всех был затравленный. Страх так и висел в зале облаками. Хотя могло бы ведь и что-нибудь другое висеть. Гордость, например, хозяев – за то, что у них есть редкие породы. Или уж наше любопытство – на выставку, наверно, полгорода пришло. Но нет, кошачий животный страх тогда всё пересилил.
А в Прошаке нет никакого страха. Царственно идёт он по двору. Он вырос здесь. А мог бы и не вырасти. Маленьким котёнком он у нас клянчил всё подряд. Он не умел добывать себе еду, прятаться от дождя и холода. Но теперь всё позади, и вольный Прошак здесь хозяин. Кажется, и другие коты, и люди признают это.
И только однажды, когда я выхожу в гимназию, наперерез мне из-за мусорных баков вылетает камень. Я не успеваю ничего сообразить, а камень метко попадает в Прошака, сбивает с лап. Прошак, король двора, испускает униженный, позорный писк. Он хочет ретироваться, спрятаться, но лапы не держат его. Он неловко ползёт по газону, а я со всех ног бегу к мусорным бакам. И Валера с девятого этажа попадает прямо ко мне в руки. Он этого не ждал. Он меня не видел. Я хватаю его за воротник, он вырывается:
– Ну, чо? Пусти…
Валера на два года младше меня, он щуплый и со мной ему не сладить. Он храбрый только с теми, кто слабей его.
Что делать с ним?
Я оглядываю его, не выпуская. Валера дрожит – знает: нашкодил, теперь попадёт ему. Как – попадёт? Что-то я должна сделать сейчас. Конечно, наподдать ему. Но делать это надо было сразу, пока не ощутила в своих ладонях эту крупную чужую дрожь, пока не разглядела покрасневший затылок – сквозь мягкий белый ёжик видно розовую кожу. И нежные пульсирующие уши…
«За ухо надо!» – подсказываю я себе. Осторожно беру его за неожиданно мягкое тёплое ухо, тяну, тяну… Валера вырывается и убегает, и я вместе с досадой чувствую вдруг облегчение. Хотя и стыдно перед Прошаком.
Прошак жмётся к стене. Я хватаю его и бегу с ним назад, домой. Миленький, куда мне ещё спрятать тебя, чтобы ты был в безопасности?
Видно, Прошак линяет. Вся гимназическая юбка у меня в пуху. Казалось бы, кому какое дело? Но Зинке Шульдяшовой дело есть.
– Пудякина, – спрашивает она, – откуда пух? Ты что, в курятнике живёшь?
Мухин улыбается Зинкиным словам. Он больше не говорит ей, что она дурочка. Он смотрит мимо меня, точно меня и нет.
За день Прошак успевает и кучку сделать, и лужу напрудить. Но я готова убирать за ним сколько угодно. А потом он освоится – он же умный. Но осваиваться Прошак не хочет. Он не отходит от входной двери, сидит на коврике и хрипло орёт. Мама приходит и выпускает его в подъезд.
Мама говорит:
– Мы не можем его держать, у него вся улица дом.
Я бурчу:
– Но в Англию-то, надеюсь, мы его возьмём?
И мама спрашивает:
– Доча, ты что? В какую Англию?
Тут раздаётся звонок, и мама спрашивает неясно у кого:
– Кто это может быть? Анжела с Наташей, что ли?
Но это Сашка.
– Дядя Коля сказал мне идти к вам, – с порога объявляет он.
– Зачем? – пугаюсь я.
Сашка объясняет:
– А он сказал: иди, там не дадут пропасть. Там барышня щей мне наливала.
Мама вопросительно смотрит на меня. Я делаю Сашке пугающие знаки, морщу лицо и так и эдак. А он продолжает как ни в чём не бывало:
– Дядя Коля сказал, что Валька его вернула к жизни. Что у него две дочки есть. Он к ним сейчас поехал. В Пензу, что ли…
– Так что ж он раньше-то… – начинает мама.
– Раньше он был не человек, – серьёзно объясняет Сашка. – А после ему совестно стало. Он сказал: может, его дочки тоже папу ищут, как Валька?
Мама снова в недоумении смотрит на меня. Сашка, не теряя времени, ей сообщает:
– Дядя Коля сказал – вы обязательно что-нибудь для меня придумаете.
– Что? – спрашивает мама.
И беспомощно кивает на телефон:
– Ты хоть бабушке, что ли, позвони…
Сашка сразу набычивается и говорит:
– Не буду.
Мама звонит сама. Сашка пока отмывается в ванне, а после я наливаю ему щей. Мы-то с Толиком не едим щи по вечерам. Мы любим на ужин макароны с луком и чай. А Сашка первую тарелку съедает сразу, как не заметив, что ел. Зато потом он нюхает каждую ложку и повторяет, как Николаша:
– М-м-м… щи…
Я жду, чтобы помыть тарелку, а мама всё ещё сидит и периодически кивает в трубку:
– Да, да, я понимаю вас… Да, да…
Видать, Сашкина бабушка снова жалуется на здоровье.
– Нет, мне не трудно, – говорит ей мама. – Что вы… Да, да…
Тут снова раздаётся звонок в дверь, и у мамы наконец-то хватает духу сказать:
– Простите, там кто-то пришёл…
И я тогда говорю:
– А вот и тётя Анжела с Наташей!
Но это дворник Алик.
В руках он держит охапку свалявшейся грязно-белой шерсти. Секунду я не понимаю, что это. Дворник Алик точно оправдывается:
– Не похож на того, что с Прошаком спорил, когда ещё листья на деревьях были. Да только я подумал: вдруг это ваш так поизносился…
Наш, наш! Когда он был чистенький, только что из дома, я его не узнала. А теперь сразу узнаю! Он прыгает на пол и виновато трётся о мои ноги:
– Мрмяв!
– Ждёте ещё? Слышу – пищать подвала, – снова начинает путаться в русском Алик. – Думал, мне кажется. Третьего дня кажется, вчера кажется… Сегодня – дай, думаю, посмотрю…
Оказывается, Алик запер подвал и успокоился. Окошки-то там узкие – только руку просунешь в них. А в подвал вела ещё одна дверь – под балконом первого этажа. Её почти доверху заложили кирпичом, осталось довольно узкое отверстие. Но Валерка мог в него пролезть, и пойманных котов проталкивал туда. В каких-то коробках, чтоб они не разбежались по подвалу. Они так и сидели у него в коробках, ждали своего часа. И час наступал. Из одного конца подвала шла вонь, Валерка туда мёртвых выбрасывал. А как он их убивал, про то Алик не стал рассказывать.
Алик выпустил из подвала котов на улицу, они и кинулись врассыпную. А наш Коп стал к его ногам жаться. Было уже довольно темно, но Алик почему-то подумал: «А вдруг – Коп?»
– Валерку бы как поймать? – горячится Алик. – Бегает быстро, не могу поймать!
И мне снова делается стыдно: Валерка – никчёмный, злой. Бегающее по двору маленькое абсолютное зло. Сколько народу хотело бы его поймать. И это зло было сегодня у меня в руках. У зла оказались мягкие живые уши. И у меня не хватило духу сегодня эти уши надрать.
Тётя Анжела с Наташей приходят совсем поздно. Наташа прижимает к себе подушку, у тёти Анжелы в руках целый ворох тряпок. Ночные сорочки, одеяло. Дядя Гена завтра уезжает в Москву. А перед отъездом он всегда учит своих, что дома должен быть порядок.
Я расстилаю постель, и скоро Толик, Наташа и Сашка уже крепко спят. Я уложила их поперёк дивана. Они маленькие, и им почти не приходится поджимать ноги. Взрослые будут спать на Мишкиной кушетке. А сама я улеглась на Толиковой кровати и почему-то не могу уснуть. В кухне мама устало говорит тёте Анжеле:
– Где его носило? Где этот Валерка-нелюдь поймал его? Мы-то везде искали, а нелюдям везёт… Чуть не пропал Коп…
– Но ведь вам тоже повезло, – отвечает ей тётя Анжела.
– Ну да, – тут же соглашается мама. – Алик прямо домой принёс.
– Какой Алик? – не понимает тётя Анжела.
– Да я же говорила тебе – дворник.
– Он Алик?
Копа мама всё ещё держит на руках. Она искупала его и завернула в свою тёплую юбку. Мама совсем не носит юбок. С утра надела джинсы – и вперёд. Я представляю, как она прижимает к себе Копа. И слышу – за стеной тётя Анжела говорит ей, точно упрекая:
– Светка, да тебе вообще везёт.
– Мне? – спрашивает мама.
– Рисуешь ты, – объясняет ей тётя Анжела. – А мне, если мой Генка бросит меня, только на рынок и дорога…
– Зачем на рынок? – не сразу понимает мама.
Наверно, ей уже охота спать. А тёте Анжеле что – ей спозаранку вставать не надо. Она бойко откликается:
– На рынке стоять придётся. А куда меня возьмут ещё?
Тут в ней просыпается надежда. Она спрашивает:
– Послушай, а может, это когда ты одна осталась, в тебе дар проснулся?
Мама переспрашивает:
– А какой дар?
– Рисуешь ты…
– А… это, – слышно, как мама зевает. – Это уже давно. Я ведь в художественную школу ходила…
И тётя Анжела победно говорит ей:
– Вот видишь, тебе везёт!
И дальше расписывает ей её счастье:
– Дети у тебя умные. И трое. Весело вам. А мой-то, – жалуется она на дядю Гену, – мой больше детей не хочет. С одной Наташкой, говорит, плохо справляешься, растёт никчемная…
Как мы живём, вот это называется – везёт?