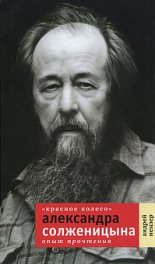Спаси меня, вальс Фицджеральд Зельда

– Не надо, Джоанна! Алабама всего лишь хочет покороче.
– Маменькин ангелочек! А мне помнится, она хотела как раз такую длину.
– Откуда мне было знать, что так будет смотреться?
– Я бы знала, как тебя приструнить, будь ты моей дочерью, – с угрозой произнесла Джоанна.
Алабама, стоя на теплом субботнем солнце, разглаживала матросский воротник. Потом осторожно сунула пальцы в нагрудный карман, не отрывая недовольного взгляда от своего отражения в зеркале.
– В этой юбке у меня как будто не мои ноги, – проговорила она. – А впрочем, может быть, и ничего.
– Никогда не слышала столько криков из-за платья, – сказала Джоанна. – На месте мамы я бы покупала тебе готовые.
– То, что в магазинах, мне не нравится. Кстати, у тебя все отделано кружевом.
– Но я же сама плачу.
Стукнула дверь в комнате Остина.
– Алабама, хватит спорить! Я хочу подремать.
– Девочки, папа! – испугалась Милли.
– Сэр, я не виновата, это Джоанна! – взвизгнула Алабама.
– Господи! Она всегда на кого-нибудь кивает. Не я, так мама виновата или любой другой, кто подвернется под руку. Сама же она всегда ни при чем.
Алабама удрученно подумала о том, как несправедлива жизнь, которая сначала создала Джоанну, а уж потом ее. Мало того, она еще наделила сестру недостижимой красотой, она была прекрасна, как черный опал. Что бы Алабама ни делала, ей все равно не удалось бы изменить цвет глаз на этот золотисто-карий и она не могла заполучить эти загадочно оттененные скулы. Когда на Джоанну падал прямой свет, она была похожа на блеклый призрак самой себя, своей красоты. От ее зубов исходило прозрачное голубое сияние, и волосы были до того гладкими, что казались бесцветными из-за блеска.
Все считали Джои милой девочкой – в сравнении с другими сестрами. Когда ей перевалило за двадцать, Джоанна как будто завоевала право быть в центре родительских интересов. Стоило Алабаме услыхать, как отец с матерью сдержанно что-то обсуждают насчет Джоанны, она тут же в этих редких родительских погружениях в прошлое отлавливала то, что, как ей казалось, могло принадлежать и ей. Ей было очень важно узнавать то об одном, то о другом семейном наследии, которое, возможно, перешло к ней, это все равно как удостовериться в том, что у нее все пять пальцев на ноге, потому что пока ей удалось насчитать только четыре. Здорово, когда есть какие-никакие опознавательные знаки, благодаря которым можно еще что-то разведать.
– Милли, – как-то вечером озабоченным тоном спросил Остин, – как ты думаешь, Джои в самом деле собирается замуж за сына Эктонов?
– Не знаю, дорогой.
– Полагаю, ей не стоит всюду разъезжать с ним и посещать его родственников, если тут ничего серьезного. К тому же она слишком часто встречается с Гарланом.
– Я тоже нанесла визит Эктонам, ведь они нам родственники по моему отцу. Почему же ты разрешаешь ей?
– Я не знал о Гарлане. Есть обязательства…
– Мама, а ты хорошо помнишь своего папу? – вмешалась в разговор Алабама.
– Конечно. Когда ему было восемьдесят три года, лошадь выбросила его из повозки. На скачках в Кентукки.
То, что у маминого папы была своя яркая жизнь, которую можно так или иначе использовать, звучало для Алабамы весьма многообещающе. Это тоже пригодится для спектакля. Она рассчитывала на время, которое само обо всем позаботится и само – обязательно – предоставит ей случай разыграть историю своей жизни.
– Так что там с Гарланом? – стоял на своем Остин.
– Да ладно тебе! – уклонилась от ответа Милли.
– Не знаю. Джои как будто от него в восторге. А ведь у него ни гроша. Зато Эктон твердо стоит на ногах. Я не могу позволить своей дочери выйти замуж за нищего.
Гарлан приходил каждый вечер и вместе с Джоанной пел песни, которые она привезла из Кентукки: «Время, место и девушка», «Девушка из Саскачевана», «Шоколадный солдатик»[16], песни из книг с двухцветными литографиями на обложках, изображавшими мужчин с трубками, принцев на балюстрадах и луну в облаках. Голос у него был звучный, как орган. Очень часто Гарлан засиживался до ужина. Кстати, у него были такие длинные ноги, что все остальное казалось неким декоративным приложением к ним.
Алабама придумывала танцы и показывала их Гарлану, аккуратно ступая вокруг ковра.
– Он когда-нибудь отправится к себе домой? – каждый раз Остин спрашивал у Милли. – Не понимаю, о чем думает Эктон. Джоанна не должна быть такой безответственной.
Гарлан умел добиваться расположения. Но Остина не устраивал его статус. Если бы Джоанна вышла за него замуж, ей пришлось бы начинать с того, с чего начинали Судья и Милли, вот только у Остина не было скаковых лошадей, чтобы поддержать ее в первое время, как это делал отец Милли.
– Привет, Алабама. У тебя прелестный нагрудничек.
Алабама зарумянилась. Однако старалась не показать, как ей приятно. Насколько ей помнилось, покраснела она тогда впервые; и это было еще одним убедительным доказательством того, что все ее реакции заложены в ней наследственностью – смущение и гордость, и умение с ними справиться.