Осада, или Шахматы со смертью Перес-Реверте Артуро
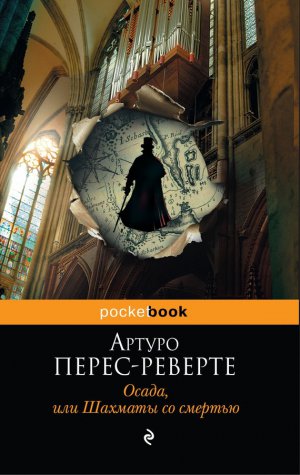
– Не знаю.
Профессор достает из кармана эмалевую табакерку, но медлит открыть ее.
– К чему относится эта ваша доска?
– И этого не знаю. К нашему городу, я полагаю… И убитая девушка на берегу.
– Черт возьми, друг мой! – Барруль берет понюшку. – Вы что-то не в меру таинственны нынче… Кадис – это шахматная доска?
– Да. Или нет. Ну, в общем, более или менее.
– Расскажите, какие же там фигуры.
Прежде чем ответить, Тисон оглядывается по сторонам. Кофейня, дающая точнейшее представление обо всем, что происходит в осажденном городе, переполнена: жители окрестных домов, коммерсанты, ротозеи, беженцы, студенты, священники, чиновники, журналисты, военные, депутаты кортесов[14], недавно перебравшиеся в Кадис с Исла-де-Леона. Мраморные столики, плетенные из ивняка стулья, медные пепельницы и урны-плевательницы, несколько кувшинчиков шоколада и, уж как водится, кофе, кофе, неимоверное количество кофе, который беспрестанно мелется и варится на кухне, подается обжигающе горячим и, все здесь пропитывая своим ароматом, перебивает даже сигарный дым, сизыми полотнищами висящий в воздухе. Женщины в «Коррео» допускаются исключительно во время карнавала, так что здесь одни мужчины, причем – самого разнообразного облика, происхождения и состояния: изношенная одежонка бедных эмигрантов соседствует с элегантными костюмами богатых; ветхие штопаные и перелицованные сюртуки перемежаются с цветастыми мундирами местных волонтеров и обтерханными – флотских офицеров, которым уже полтора года не выплачивают денежное содержание. Посетители, приветствуя или демонстративно не замечая друг друга, собираются в кучки в соответствии со вкусами, пристрастиями и интересами; громко переговариваются со стола на стол, обсуждают последние газетные новости, играют в шахматы или на бильярде, просто убивают время в одиночестве или в шумной компании, где говорят о войне, политике, женщинах, ценах на индиго, табак и хлопок, о последнем памфлете, где благодаря недавно обретенной свободе печати – многие этот закон горячо приветствуют, другие, которых тоже немало, поносят – высмеиваются Такой-то, Сякой-то, Эдакий и вообще все и вся.
– Не знаю, какие фигуры, – отвечает наконец Тисон. – Наверно, они все. И мы.
– А французы?
– Может быть, и французы. Не поручусь, что и они не имеют к этому отношения.
Профессор обескуражен и явно сбит с толку:
– К чему – «к этому»?
– Не знаю, как сказать… Ко всему происходящему.
– Ну так как же им не иметь к этому отношения? Они ведь взяли нас в осаду.
– Не о том речь.
Барруль, подавшись вперед, теперь ассматривает комиссара с особым вниманием. Потом очень непринужденно берет его нетронутый стакан, медленно выпивает воду. Вытирает губы извлеченным из кармана платком, глядит на пустую, расчерченную клетками столешницу и снова поднимает глаза на комиссара. Слишком давно они знакомы, чтобы путать шутливые речи с серьезными.
– Следы на песке… – повторяет он.
– Именно.
– А уточнить не можете?.. Было бы нелишне…
Тисон как-то неуверенно поводит головой:
– Это как-то связано с вами, профессор… С чем-то, что вы сделали или сказали уже довольно давно… Потому я вам и рассказал это.
– Полноте, милый друг! Пока еще вы ничего толком не рассказали!
Новый пушечный выстрел, на этот раз раскатившийся где-то в отдалении, прерывает разговоры в кафе. От грохота, чуть смягченного расстоянием и стенами зданий, слегка задребезжали стекла.
– Это далеко, – замечает кто-то. – Где-то у порта.
– Проклятые лягушатники, – слышится в ответ.
На этот раз лишь несколько человек выбежали на улицу посмотреть, куда угодила бомба. И один из них, вернувшись, рассказывает – упала с внешней стороны стены, где-то возле Круса. Жертв и разрушений нет.
– Хорошо, я попытаюсь вспомнить, – не очень убежденно говорит Барруль.
Рохелио Тисон прощается и, забрав шляпу и трость, выходит на улицу, под уже меркнущий к вечеру свет: солнечные лучи ложатся почти горизонтально, трогая красными бликами беленые стены колоколен. На балконах еще стоят люди, глядят туда, где упала последняя бомба. Какая-то неприглядного вида, пахнущая вином женщина сторонится, давая ему пройти, бормочет сквозь зубы бранные слова. Комиссару к такому не привыкать. Делая вид, что не слышит, он идет вниз по улице.
Пешки черные и белые, вдруг осеняет его. Вот оно! А Кадис – шахматная доска.
Мастерство чучельника – в сотворении жизнеподобия. Проникнувшись сознанием этого, человек, в клеенчатом фартуке поверх серого халата, с мерной лентой в руке, начал должные, предписанные наукой и искусством приготовления. Красивым, убористым почерком занес в тетрадку результаты замеров от уха до уха и от головы до хвоста. Циркулем отложил расстояние от наружного до внутреннего угла каждого глаза, отметил цвет – темно-карий. А когда наконец закрыл тетрадь, то, оглядевшись, убедился – свет, проникающий сюда через приоткрытую на лестницу дверь из разноцветных стекол, меркнет и скудеет. И потому зажег керосиновую лампу, накрыл стеклянным колпаком, отрегулировал пламя так, чтобы распростертый на мраморном столе труп собаки был хорошо освещен.
Ответственный момент. Очень ответственный. Плохое начало может испортить всю работу. На шкуре со временем могут появиться проплешины, а если какая-нибудь козявка успела отложить яйцо в козьей шерсти или водорослях, применяемых для набивки, вылупившаяся личинка окончательно погубит дело. И никакое мастерство не поможет. В свете керосиновой лампы видно, как изуродовал ход времени иные произведения, стоящие здесь, в кабинете: сказалось то ли несовершенство исходного материала, то ли губительное воздействие света, пыли, влаги, то ли переизбыток винного камня, извести, или природный цвет изменило скверное качество лаков. Наука тоже не всесильна. Эти неудачные работы, грехи молодости, плоды неопытности, стоят здесь тем не менее, чтобы засвидетельствовать – или напомнить? – что ошибки в этом – да, впрочем, и во всяком ином – виде деятельности чреваты опасными последствиями: вот они – неестественная поза, исказившая повадку, которая свойственна каждому зверю, небрежно отделанная пасть или клюв, неладно пригнанные друг к другу части каркаса… Все учитывается в стенах этого кабинета, хоть из-за войны и того, что творится в городе, трудно стало работать. И доставать новый, достойный внимания материал. Не остается ничего иного, как брать, что дают. Изворачиваться и придумывать на ходу.
Подойдя к черному шкафу, который стоит между дверью на лестницу, печью и витриной, откуда неподвижными глазами, сделанными из стекла и засохшего теста, смотрят на кабинет рысь, сова и обезьянка-тити, чучельник выбрал в наборе инструментов стальной пинцет и скальпель с рукояткой из слоновой кости. Вернулся к столу, склонился над трупом собаки – молодой, средних размеров, с белым пятном на груди и точно таким же на лбу. Отменные клыки. И вообще – превосходный экземпляр: на гладкой, нетронутой шкуре не проступило ни малейшего следа отравы, которой умертвили пса. Чучельник, сначала перерезав оптические нервы, ловко и очень осторожно извлек пинцетом из орбит оба глаза, почистил и засыпал глазные впадины загодя растолченной в ступке смесью квасцов, танина и минерального мыла. Вставил ватные шарики. Затем, убедившись, что все сделано как должно, перевернул пса на спину, заткнул все телесные отверстия паклей, отделил лапы от туловища и, проведя длинный надрез от грудины до живота, принялся потрошить.
В углу полутемного кабинета, под сидящими на жердочках чучелами фазана, сокола и бородатого ягнятника, едва виднеется развернутый на столике план Кадиса, напечатанный типографским способом, подробный, с двойной масштабной линейкой – во французских туазах и испанских варах. Сверху лежат компас, линейки, чертежный угольник. План расчерчен причудливыми кривыми, которые веером расходятся из одной точки на востоке, испещрен, будто оспинами, карандашными кружками и крестиками. Кажется, что над городом растянута паутина, а все эти точки и пометки похожи на запутавшихся в сети насекомых.
Медленно темнеет. Чучельник, осторожно надрезая, отделяет шкуру от костей и мышц. Через полуоткрытую на лестницу дверь доносится с террасы голубиное воркование.
2
Добрый день. Как поживаете. Здравствуйте. Пожалуйста, кланяйтесь от меня супруге. Добрый день. Будьте здоровы, рада была вас видеть. Поклоны всему семейству. Бесконечный обмен краткими любезными репликами, улыбки знакомых, иногда мимолетный разговор, из коего выясняется здоровье жены, успехи сына, негоции зятя. Лолита Пальма проходит в густой толпе людей – кто фланирует, кто остановился поболтать, кто разглядывает витрины. Позднее утро, кадисская улица Анча. Это душа города, его средоточие. Конторы, агентства, консульства. По тому, кто как ведет себя, кто о чем говорит, местных жителей нетрудно отличить от нахлынувших в Кадис беженцев: одни, временные насельники постоялых дворов и гостиниц на улицах Нуэва и Фламенкос-Боррачос, меблированных комнат и пансионов в квартале Авемария, глазеют на витрины дорогих лавок, жмутся у дверей кофеен, другие, занятые делами, держат в руках портфели, папки, перелистывают на ходу газеты. Одни обсуждают ход военных кампаний, стратегические перемещения войск, поражения и невероятные победы, а другие – цены на хлопок в Нанкине, на индиго и какао, на кубинские сигары, которые, того и гляди, будут стоить как бы не по сорок восемь реалов за фунт. Что же касается депутатов кортесов, они в эти часы не слоняются по улице. Заседают в часовне Сан-Фелипе, расположенной в нескольких шагах отсюда, где на галерее толпится множество праздного народа – из-за французской осады многим в Кадисе решительно нечем заняться – вместе с дипломатами, обеспокоенными тем, что происходит: британский посол с каждым кораблем отсылает депеши в Лондон. И, выйдя из Сан-Фелипе не раньше двух пополудни, законодатели рассядутся в кофейнях и ресторанах, чтобы обсудить перипетии сегодняшнего заседания и мимоходом, как водится, сцепиться друг с другом сообразно политическим взглядам, притяжениям и отталкиваниям, ибо у каждого, будь он клирик или мирянин, либерал или консерватор, сугубый прагматик или неисправимый идеалист, относится ли к пылкому юношеству или к замшелому старичью, есть свой печатный орган и свой круг предпочтений и единомышленников. Здесь, как в капле воды, видна вся Испания вместе с ее заморскими территориями, из которых иные под шумок войны уже восстали.
Лолита Пальма только что вышла из самой изысканной в городе модной лавки на площади Сан-Антонио: заведение, раньше называвшееся «Парижская мода», теперь в соответствии с духом времени переименовано в «Испанскую». Кадисские дамы и барышни из высшего общества алчно вожделеют к его ассортименту, а вот владелица компании «Пальма и сыновья» там себе туалеты не заказывает – портниха и кружевница шьют ей наряды по эскизам, которые Лолита придумывает сама, вдохновляясь картинками из парижских и лондонских дамских журналов. В лавку она зашла, чтобы узнать, что произошло за день, да заодно и купить кое-что из аксессуаров и галантереи: горничная несет за нею в трех шагах две тщательно упакованные картонные коробки, где лежат полдюжины перчаток, полдюжины чулок и кружева для постельного белья.
– Благослови тебя Бог, Лолита…
– Здравствуйте… Кланяйтесь от меня жене…
Мимо и навстречу бесконечной вереницей проплывают более или менее знакомые мужские лица, снимаются шляпы. Такова она, эта главная улица города. Женщин в этот час здесь встретишь редко. Оттого Лолита и ловит на себе особо внимательные взгляды. Звучат приветствия, обнажаются и учтиво склоняются головы. Все, кто здесь хоть что-то собой представляет, знают эту сеньориту – она, хоть и принадлежит к относительно слабому полу, уверенно и умело держит бразды правления, ведет семейное дело, доставшееся ей по смерти деда и отца. В Кадисе только успевай поворачиваться – торговля с колониями, корабли, размещение капиталов, страховые выплаты и премии за морские риски. Лолита Пальма – не чета другим дамам-негоцианткам, в большинстве своем вдовам, которые, если называть вещи своими именами, ограничиваются лишь ростовщичеством, ссужая деньги и взимая проценты. Она же ведет рискованную игру, где можно и сорвать крупный куш, и разориться. Умеет зарабатывать сама и дает работу другим. Свободна от долгов и полновластно распоряжается своим капиталом. Ни пятнышка на деловой репутации. Не дает ни малейшего повода для сплетен и пересудов о личной жизни. Платежеспособность, уважение, доверие. Состояние, которое на глазок, по самым скромным подсчетам, потянет миллиона на полтора. Нет сомнения, что она – плоть от плоти нашей, от тех десяти или пятнадцати семейств, которые и задают здесь тон. У нее есть голова на плечах – и, если верить слухам, плечи эти красивы: впрочем, никто покуда не мог похвастаться, что убедился в этом самолично. В тридцать два года – и все еще на выданье.
– Доброе утро… Будьте здоровы…
Вздернув подбородок, она идет по середине тротуара. Неторопливо и мерно отстукивают каблучки. Это ее улица и ее город. Темно-темно-серое платье оживляет единственная яркая деталь – голубая тесьма, которой отделана фланелевая мантилья. Мантилья, волосы, собранные на затылке в узел, а с висков вдоль щек спускающиеся локонами, да еще, пожалуй, вышитые серебром туфли – вот те немногие уступки, что сделаны ради выхода на люди; во всем остальном ее наряд строг, крайне сдержан, безупречно, как сказали бы англичане, «корректен», удобен для работы и приема посетителей в конторе компании. Да, сейчас она здесь, на главной улице, но ведь и из дому-то вышла ради деликатного финансового вопроса, касающегося сомнительных векселей, полученных три недели назад; и вот часа не прошло, как в банке «Сан-Карлос» вопрос этот благополучно решился – за соответствующую мзду, разумеется. Перчатки, чулки и кружева из некогда «Парижской», а ныне – «Испанской моды» были куплены в ознаменование удачи. Скромно, пристойно, достойно. Как и все, что Лолита Пальма делает и думает.
– Поздравляю с прибытием «Марка Брута». Прочел в «Вихиа», что он уже в порту.
Это ее зять Альфонсо. Представитель компании «Соле и партнеры: английское сукно и товары с Гибралтара». Как обычно, высокомерно-холоден; облачен в орехового цвета фрак и бледно-лиловый жилет, шелковые чулки, держит на отлете камышовую трость из Индий. Шляпу не снимает, а лишь чуточку приподнимает, дотронувшись двумя пальцами до поля. Прошло уже шесть лет, как он женился на ее сестре Каридад, но сейчас, как и тогда, зять почти нестерпимо неприятен Лолите. Впрочем, «нестерпимо» – не то слово: они именно что терпят друг друга, поддерживая, пусть и формально, родственные отношения. Раз в неделю Альфонсо с женой навещают сеньору Пальму – да тем, пожалуй, все и ограничивается. Он остался очень недоволен суммой в девяносто тысяч песо, доставшейся ему от покойного тестя, а семейство Пальма – тем, как он, от большого ума да с малым доходом, распорядился этими деньгами и куда их вложил. Помимо того, семейственной любви не способствовала тяжба по поводу загородного дома в Пуэрто-Реале, на право владения коим Альфонсо претендовал по праву своей женитьбы. Завещание Томаса Пальмы было оспорено, дело перешло в руки стряпчих и нотариусов, но начавшийся судебный процесс из-за войны приостановился.
– Да, слава богу, прибыл. Мы уж смирились с потерей груза.
Лолита Пальма знает, что зятю глубоко безразлична судьба «Брута» и наплевать, на морском ли дне он окажется или во французском порту. Однако здесь, в Кадисе, полагается соблюдать приличия. И когда родственники встречаются на главной улице на виду у всего города, им непременно следует перемолвиться хотя бы несколькими словами. Здесь никакая компания не только что не добьется успеха, а и не выживет, не снискав себе доверия и уважения в обществе, которое, если не будет соблюдена форма, может лишить ее и того и другого.
– Как поживает Кари?
– Спасибо, хорошо. В пятницу повидаетесь.
Альфонсо, вновь прикоснувшись к полю шляпы, прощается и уходит вниз по улице. Весь, до кончика своей трости, сухой, жесткий, подобранный. Сердечности нет и в отношениях Лолиты с младшей сестрой. Нет и никогда не было. Лолита всегда считала, что Каридад – бездельница, думает лишь о себе и норовит въехать в рай на чужом горбу. Даже кончина отца, даже гибель брата – Франсиско де Паулы – не сблизили их. И в скорби, и в трауре каждая была сама по себе. И сейчас единственным связующим звеном, сколь бы формальным ни было оно, остается мать: еженедельный визит в дом на улицу Балуарте, шоколад, кофе, легкая закуска, пустота ни к чему не обязывающих разговоров, неизменно вертящихся вокруг погоды, французских бомб и цветов на балконах. Оживление вносит лишь появление кузена Тоньо, жизнерадостного, обаятельного холостяка. Когда Каридад вышла замуж за Альфонсо Соле, который тщеславием и чванностью пошел в отца, поставлявшего сукно для нужд местных ополченцев-волонтеров, а высокомерием и глупостью – в мать, сестры окончательно стали чужими друг другу. Ни Каридад, ни ее супруг так и не простили покойному Томасу Пальме, что не взял Альфонсо в семейное дело, а в обеспечение прав младшей дочери просто выделил ей некую долю и великолепный трехэтажный дом на улице Гуантерос, оцененный в триста пятьдесят тысяч реалов. В нем сейчас и живет чета Соле. «Довольно с них, – говорил отец. – А вот моя старшенькая, Лолита, получит все необходимое, чтобы двигаться вперед. Поглядите, какая она дельная, сметливая, усердная. Я могу на нее положиться, я доверяю ей, как никому больше: она умеет зарабатывать деньги и знает, как не потерять их. Это у нее с детства. Если в один прекрасный день решит выйти замуж, то, будьте покойны, не станет читать романы и часами напролет чесать языками с подругами в кондитерских, предоставив своему избраннику надрываться на работе. Уж будьте уверены. Она из другого теста».
– Чудесно выглядишь, Лолита, как, впрочем, и всегда… Рад тебя видеть. Как здоровье матушки?
Эмилио Санчес Гинеа – лет шестидесяти, тучный, с редкими седыми волосами – держит в одной руке шляпу, в другой – толстый пакет с письмами и документами. Проницательный взгляд. Одет на британский манер; по жилету, продернутая из кармана в карман меж пуговицами, вьется двойная цепочка от часов; во всем облике сквозит та чуть заметная усталость, что присуща деловым людям, достигшим определенного возраста и положения. В Кадисе, где в глазах общества нет греха тяжелее, чем неизвиняемая обстоятельствами праздность, хорошим тоном считается легкая небрежность туалета, свидетельствующая о напряженном и достойном уважения трудовом дне: надо, чтобы галстук был полураспущен, а первоклассного сукна, превосходно сшитый сюртук – слегка помят.
– Я уже слышал, что корабль вернулся. Гора с плеч…
Эмилио Санчес – ее старый, добрый и многократно исытанный на верность друг. Соученик покойного Томаса, пайщик семейной компании, он разделяет с Лолитой риски и деятельно участвует в негоциях. Не так давно даже питал надежду породниться, женив на ней своего сына Мигеля, который стал ныне его компаньоном и счастливым супругом другой кадисской барышни. Добрые отношения между семействами Пальма и Гинеа неудавшийся брак не омрачил. Эмилио после кончины Томаса не оставлял заботой и советом Лолиту, делавшую первые шаги на поприще коммерции, да и сейчас всегда готов помочь, как только ей потребуется его опытность и здравомыслие.
– Ты домой?
– Нет, мне надо зайти в книжную лавку Сальседо. Может быть, уже пришли мои заказы.
– Пойдем, я провожу тебя.
– У вас, наверно, есть дела поважней?..
Старик жизнерадостно смеется в ответ:
– Я забываю обо всех делах, когда вижу тебя. Пойдем.
Она берет его под руку. По дороге обсуждают общее положение и некое предприятие, в успехе которого оба заинтересованы. Восстания в колониях породили множество сложностей. Больше, чем французская осада. Экспорт на другой берег Атлантики упал до пугающих величин, доходы сократились разительно, не хватает наличности, и многие коммерсанты уже попали в ловушку, принимая векселя, которые в результате почти невозможно опротестовать. Лолита Пальма тем не менее сумела возместить нехватку ликвидных средств за счет новых рынков: из Соединенных Штатов вывозит зерно и хлопок, в Россию ввозит товары, а используя единственное в своем роде положение Кадиса как перевалочной базы, дополняет торговые операции осторожными вложениями в векселя и страхованием морских рисков – на последнем как раз специализируется компания Санчеса Гинеа, в делах которой принимает участие компания «Пальма и сыновья», авансируя торговые рейсы через океан, а затем получая возмещение в виде процентов, страховых премий, надбавок за рассрочку и прочего. Опыт и присущий дону Эмилио трезвый расчет делают подобные финансовые операции очень рентабельными, тем более что дело происходит в городе, неизменно нуждающемся в наличных деньгах.
– Надо отдавать себе отчет, Лолита: рано или поздно война окончится, вот тогда и придется задуматься по-настоящему. А когда судоходство станет безопасным, будет уже слишком поздно. Наши с тобой соотечественники в колониях уже привыкнут торговать с янки и британцами напрямую. А мы здесь тем временем жалеем отдать им то, что они могут взять сами, своими руками… Хаос в Европе позволил им понять, что они в нас не нуждаются.
Лолита Пальма идет с ним под руку по улице Анча мимо широких подъездов, роскошных лавок, представительств торговых домов. В ювелирном магазине Бональто, как всегда, много покупателей. Снова и снова с ней раскланиваются прохожие, приветствуют знакомые. Позади несет пакеты горничная – та самая Мари-Пас, которая таким приятным голоском напевает куплеты, поливая цветы в патио.
– Мы сумеем восстановить с ними связи, дон Эмилио… Америка очень велика, общий язык и культуру так просто не разорвать… Мы всегда будем там. А новые рынки появятся непременно. Посмотрите на русских… Если царь объявит Франции войну, им понадобится все на свете.
Дон Эмилио с сомнением качает головой. Нет, дело это давнее, не вчера началось. Город потерял силу. Лишился смысла своего бытия. И случилось это, когда в 1778 году отменили монополию на торговлю с заморскими территориями. Вот тогда ему и подписали приговор. Автономию американских портов уже не отнимешь. И с креолами этими уже не совладать. А для Кадиса череда кризисов, а потом и война – это последние, что называется, гвозди в крышку гроба.
– Вы слишком печально смотрите на вещи, дон Эмилио.
– Печально? Сколько несчастий уже пережил город? Сначала колониальная война с Англией повредила нам бесконечно. Потом началась война с революционной Францией, а следом – опять с Англией… Вот это нас и доконало. Как много ждали от Амьенского мира[15], а что вышло? Пшик! Сколько французских компаний, которые обосновались тут с незапамятных времен, отправились отсюда к дьяволу… Да, а потом еще одна война с англичанами, потом блокада и новая война с Францией. Печально смотрю, говоришь? Эх, милая моя Лолита, двадцать пять лет бросает нас из огня да в полымя.
Лолита Пальма с улыбкой нежно сжимает ему руку:
– Не обижайтесь, друг мой. Я не хотела…
– Как я могу на тебя обижаться? Этого только недоставало!
На углу улицы Амаргура, возле британского посольства, в одном доме с коммерческой конторой помещается маленькая кофейня, облюбованная иностранцами и флотскими офицерами. Этот квартал удален от восточной окраины Кадиса, где чаще всего падают французские бомбы, – сюда не долетело еще ни одной. За столиками у дверей несколько развеселых англичан наслаждаются хорошей погодой, листают старые лондонские газеты. Рыжие бакенбарды, вызывающе небрежная одежда. Два-три красных военных мундира.
– Вот погляди-ка ты на наших союзничков. – Дон Эмилио понижает голос. – Добились-таки от Регентства и от кортесов отмены всех ограничений на торговлю с Америкой. Свой интерес соблюдают везде и всюду, свою линию гнут неуклонно – и нигде в Европе хорошего правительства не допустят. С появлением на Полуострове герцога Веллингтона они убивают одним выстрелом не двух, а целых трех зайцев – держат Португалию, изматывают Наполеона, а попутно навязывают нам долг, который не преминут взыскать, когда время придет. Дорого нам обойдется этот альянс.
Лолита Пальма показывает своему спутнику на газетный киоск посреди улицы: вокруг него начинается суета – только что доставили свежий выпуск «Диарио Меркантиль», и покупатели, толпой обступив продавца, буквально рвут у него из рук номера.
– Может быть, вы и правы. Но взгляните… В городе бурлит жизнь, процветает торговля…
– Все это дым, Лолита… Чуть только снимут блокаду, эмигранты исчезнут, а нас, как и прежде, останется шестьдесят тысяч. Что тогда делать тем, кто сейчас безбожно взвинтил цены в гостиницах и дерет втридорога за бифштекс? Тем, кто наживается на чужой нужде? Вот они и торопятся урвать свое сегодня, пока не наступило завтра.
– Но ведь кортесы действуют…
– Кортесы твои, – бурчит без снисхождения старый негоциант, – живут как на другой планете. Конституция, монархия, Фердинанд Седьмой… все это не имеет отношения к делу. Разумеется, Кадису остро нужна свобода, кто ж будет спорить. Свобода и прогресс. На этом, в конце концов, зиждется всякая торговля. Однако же с новыми законами или без них, будет ли установлено, что право монарха имеет божественное происхождение, или что короли – суть всего лишь хранители национального суверенитета, положение не изменится: порты испанской Америки – в чужих руках, а Кадис – в руинах. Попомни мое слово: пройдет эта конституционная корь – замычат коровы тощие.
Лолита Пальма смеется. Смех ее девически звонок. Звучен, чистосердечен, непритворно весел.
– А я-то вас всегда считала либералом!
Дон Эмилио, не выпуская ее руки, останавливается посреди улицы.
– А кто ж я, черт возьми? Самый либерал и есть! – Он озирается с негодованием, будто отыскивая того, кто дерзнет оспорить это утверждение. – Однако из племени тех либералов, которые предлагают труд и процветание. Политическими восторгами и сам сыт не будешь, и народ не накормишь. А кортесы твои много просят да мало дают. Сама посуди – сейчас у нас, кадисских негоциантов, они вымогают миллион песо на военные расходы! И это после того, как столько уже вытянули допрежь! А между тем государственный советник получает сорок тысяч жалованья в месяц, а министр – восемьдесят!
Они продолжают путь. Книжная лавка Сальседо – неподалеку, посреди других, в изобилии расположенных на площадях Святого Августина и Почтовой. Проходят, иногда задерживаясь у витрин. В лавке Наварро выставлены несколько неразрезанных книг в бумажных обложках и два огромных тома в роскошных переплетах: надпись на титульном листе одного гласит: «Антонио Солис. История завоевания Мексики».
– При такой перспективе, – говорит дон Эмилио, – самое милое дело – вложить деньги во что-нибудь надежное. Я имею в виду недвижимость – дома, землю… Сохранить деньги в том, что останется стабильным и после войны. Прежней коммерции – такой, что была во времена твоего деда или как понимали ее мы с твоим отцом, никогда уже больше не будет… Без Америки Кадис лишен смысла.
Лолита Пальма рассматривает книги на витрине. Что-то он чересчур разошелся сегодня, думает она. Обо всем этом было уже бессчетно говорено, а старик – не из тех, кто станет терять время в пустопорожних разглагольствованиях, да еще в рабочие часы. Для дона Эмилио пять минут, не принесшие дохода, – пропащие пять минут. А они беседуют уже добрых четверть часа.
– Мне кажется, вы что-то хотите мне сказать…
На миг у нее возникает опасение, что речь пойдет о контрабанде: за последние месяцы Лолита отвергла три таких предложения. Впрочем, ей ли не знать, что ничего уж такого особенного здесь нет. Дело житейское, дело обыденное. Контрабанда цветет здесь чуть ли не с той поры, как первые галеоны пошли в Индии и обратно. Конечно, совсем другое дело, когда кое-кто из негоциантов, не скованных моральными запретами, еще с начала блокады стал перегонять контрабанду в области, оккупированные французами. Фирма Санчеса Гинеа репутацию свою такими делами, конечно, не порочит, но все же случается, что в каком-нибудь глухом месте побережья, подальше от войны и действующего законодательства, выгрузит из трюмов кое-какой товарец, не платя при этом таможенных сборов и пошлин. Среди респектабельных граждан Кадиса это называется «левачить».
– Полноте, друг мой, не ходите вокруг да около!
Дон Эмилио не отрывает глаз от витрины, хотя Лолита знает, что история покорения Мексики занимает его не слишком. Он выжидает. И лишь через минуту начинает. Как ему кажется, Лолита поступает верно. Урезает расходы, отказывается от всяческих роскошеств. Это мудро. Понимает, что процветание не может длиться вечно. Сумела сберечь самое трудное и самое главное – кредит. И дед, и отец, будь они живы, могли бы гордиться ею. Да что он говорит! «Могли бы!» Они и гордятся, глядя на нее с небес. И прочее в том же роде.
– Чувствую, вы намерены подсластить мне пилюлю, дон Эмилио, – снова смеется она, не отпуская его руки. – Я умоляю вас, довольно околичностей, перейдите наконец к сути дела.
Старик смотрит в землю, на глянцево сверкающие носки своих сапог. Потом – снова на витрину. И наконец, решившись, обращает взгляд к ней:
– Я намереваюсь снарядить корсара… Купил патент.
Произнеся это, он жмурится в комическом ужасе, как бы ожидая удара. Потом снова устремляет на Лолиту вопросительный взгляд: что, мол, скажешь на это? Та лишь качает головой: об этом тоже давно и не раз было говорено. Да и о патенте доходили до нее слухи. Ах, старый лис! А то будто не знает, что ей не по душе инвестиции такого рода. Она не желает мешаться в эти дела и иметь с этими людьми что-либо общее.
Санчес Гинеа воздевает свободную руку, одновременно как бы и прося прощения и возражая:
– Это коммерция, милая моя девочка. А люди – в точности такие же, как и те, кто плавает на торговых судах и с кем тебе приходится иметь дело ежедневно. А от войны ты страдаешь не меньше, чем все прочие.
– Терпеть не могу пиратства. – Лолита, выпростав руку из-под его локтя, сжимает сумочку, словно обороняясь ею. – Мало мы сами натерпелись от них?
Дон Эмилио принимается убеждать ее. С непритворным жаром приводит один довод за другим. Корсар – не пират. Лолита ведь и сама знает, что корсар действует по закону, притом – писаному. И пусть она вспомнит, какого мнения придерживался на этот счет Томас, ее покойный отец. В восемьсот шестом году они с ним при половинном участии снарядили корсара, и все получилось просто превосходно. И сейчас опять момент благоприятный. Пусть подумает, какие соблазнительные премии сулит взятый с бою неприятельский корабль с грузом. Да и сами грузы будут как нельзя более кстати. И все – совершенно легально, прозрачно, как горный хрусталь. Вопрос только в том, чтобы правильно вложить средства, как вложил их он, владелец «Санчес Гинеа и K°». Это всего лишь дело, притом весьма доходное. Очередной «морской риск», не более того.
Лолита Пальма смотрит на их отражение в витрине. Она знает: дон Эмилио не больно-то нуждается в ее средствах, по крайней мере – в безотлагательном их вложении. Скорее, он и вправду хочет удружить ей и, как близкий их семье человек, предлагает выгодную инвестицию. В Кадисе множество негоциантов, готовых финансировать этот проект, однако же из всех возможных претендентов старик предпочел ее. Основательную и серьезную. Уважаемую и надежную. С неограниченным кредитом, в том числе – и доверия. Дочь своего старого друга Томаса.
– Дайте мне подумать немного, дон Эмилио.
– Ну разумеется. Думай.
Капитану Симону Дефоссё несколько не по себе. Никак нельзя сказать, что прежде он водил знакомство с генералами, а теперь перед ним оказались сразу несколько. Оказались – или свалились как снег на голову. И пусть все они жадно ловят каждое его слово, это нимало не избавляет от скованности. Утром в сопровождении усиленного эскорта гусар 4-го полка в Трокадеро нагрянул с инспекцией маршал Виктор, герцог Беллюнский, начальник его главного штаба Семелье, дивизионные генералы Рюффен, Вильят, Леваль и непосредственный начальник Дефоссё генерал Лезюер, командующий артиллерией Первого корпуса, сменивший убитого барона де Сенармона.
– Задача в том, чтобы наш огонь накрывал всю территорию Кадиса, – объясняет теперь Дефоссё. – До сих пор нам это не удавалось, мы работаем на пределе досягаемости и сталкиваемся сразу с несколькими сложностями. С одной стороны – слишком велика дальность, с другой – слишком быстро горит запал… Это очень важно, поскольку по моему приказу город обстреливается разрывными ядрами, действующими по типу гранат. В них применяется запал замедленного действия, но дистанция такая, что бомбы взрываются в полете, еще до того, как поразят цель. И потому разработана запальная трубка новой конструкции: горит медленнее и в полете не гаснет…
– Уже имеется в наличии? – осведомился генерал Леваль, командир 2-й дивизии, стоящей в Пуэрто-Реале.
– Будет через несколько дней. Теоретически срок горения должен превысить тридцать секунд, но как получится на деле – неизвестно… Бывает, что сопротивление воздуха иногда увеличивает скорость горения, а иногда – просто гасит запал.
Капитан замолкает. Раззолоченные генералы выслушали его внимательно и теперь смотрят, как бы выжидая, не скажет ли еще что-нибудь. Маршал сидит за столом, прочие пристроились кто где, Дефоссё – стоит. На грубо сколоченном столе расстелены подробные планы Кадиса и прилегающей к нему части залива. Из открытого окна доносятся голоса саперов, строящих эспланаду для новой батареи. В квадрате солнечного пятна на полу вьются вокруг раздавленного таракана мошки. Здесь, в блиндажах и траншеях Трокадеро, те и другие водятся в удивительном изобилии. Нет недостатка также и в крысах, клопах, блохах и москитах, одолевающих императорскую армию.
– Тут возникает еще одна сложность. Дальность. Нужно, чтобы бомба летела на три тысячи туазов, то есть пересекала из конца в конец город, в котором, таким образом, не остается зон, недосягаемых для нашего огня. С тем, чем располагаю сейчас, я не могу гарантировать дальность, превышающую две триста, да притом следует брать в расчет ветры из бухты, которые усиливают боковой снос и сокращают дистанцию. И следовательно, мы покрываем всего лишь… видите?.. вот отсюда досюда…
Он показывает участки в восточной части города – Пуэрта-де-Мар, кварталы вокруг таможни. Обходится без названий: все и так знают Кадис – целый год смотрят на него в подзорные трубы. Указательный палец прочерчивает линию перед крепостными стенами и, не углубляясь дальше нескольких улиц в квартале Пополо, возле Пуэрта-де-Тьерры, медленно проползает по бумаге, обводя зону поражения. Потом капитан отдергивает руку и поднимает глаза на своего прямого начальника – генерала Лезюера, безмолвно уведомляя, что «все прочее решать вам, ваше превосходительство», и прося разрешения удалиться. Вернуться к своим расчетам, подорным трубам и почтовым голубям. То есть делом заняться. Никуда он, разумеется, не уходит. Предвидит, что самое увлекательное еще впереди.
– Корабли противника, стоящие в бухте на рейде, находятся в пределах досягаемости, – говорит генерал Рюффен. – Почему не обстреливаете их тоже?
Командир 1-й дивизии Франсуа Амабль Рюффен сухощав, точен в движениях, сосредоточен, но взгляд у него при этом отсутствующий. Среди прочих сражений был под Аустерлицем и Фридландом. В войсках его любят за то, что никогда не порет горячку, бережет солдат. Ему ровно сорок лет – совсем немного для человека в его чине. Храбр. У него прямо на лбу или еще где написано, что надо будет – умрет, но не отступит. Дефоссё объясняет: по кораблям он не бьет, потому что они рассредоточены: английские – подальше от города, испанские – поближе, но в данном случае это не важно. С такой дистанции поразить отдельно стоящую цель – задача почти невыполнимая. Стрельба-то ведется по площадям, и потому одно дело – обрушить бомбу на город, куда попало, в любое место, как бог на душу положит, и совсем другое – накрыть определенный объект. В этом случае попадание почти невозможно. Взгляните хоть, к примеру, на здание таможни. Да-да, вот здесь. Да, это в нем сейчас расположилось правительство мятежников. Так вот, его не накрыли ни разу.
– С тем, что имеется, – заключает он, – увеличения дистанции и точности мы достичь не можем.
Капитан вроде бы хочет что-то прибавить к сказанному, но не знает, стоит ли, и генерал Лезюер, слушавший его вместе со всеми остальными, молча вскидывает бровь, как бы предостерегая: «Не стоит. Себе жизнь не осложняй, да и мне тоже. Это обычная инспекционная поездка. Вот и докладывай начальству то, что оно хочет услышать, а остальным займусь я. И все».
– Если же, и вовсе пренебрегая точностью, всецело сосредоточиться на дальности, то, я полагаю, наилучшие результаты даст применение мортир, а не гаубиц.
Все-таки вымолвил. И не жалеет об этом, хотя Лезюер готов испепелить его взглядом.
– Ни к чему это, – говорит генерал сухо. – В ноябре проводили испытания двенадцатидюймового «Дедона», отлитого в Севилье… Полный провал. Не покрывали и двух тысяч туаз.
Маршал Виктор, откинувшись на спинку стула, строго смотрит на своего командующего артиллерией. Тот славится дотошной требовательностью, страстью к порядку и принадлежит к числу тех, кто суется в воду, лишь досконально разведав брод. Маршал знает его со времен осады Тулона, когда сам еще звался не Виктор, а Клод Перрен, а вместе с ними по редутам роялистов и кораблям англо-испанской эскадры садил из пушек их сослуживец, некто капитан Бонапарт. «Не мешай художнику самовыражаться, – означает этот взгляд, – тебя я вижу рядом ежедневно, а этот Дефоссё – дельный малый, ну или, по крайней мере, слывет таким. Мы и приехали сюда затем, чтобы его послушать». После этой безмолвной отповеди Лезюеру остается лишь замолчать, а герцог Беллюнский оборачивается к капитану, как бы приглашая его продолжать. И тот продолжает:
– Я своевременно предупреждал, что «Дедон» никуда не годится. Орудие не обеспечивает точности наводки, очень опасно в обращении… Тридцать фунтов пороха, которые надо в него забить, – это слишком много, такое количество сразу может не воспламениться, а если уменьшить – сократится дистанция выстрела… По дальнобойности уступает даже полевым пушкам.
– Одно слово – Дедон… – замечает маршал. – Ничего иного и ждать от него нельзя…
Все смеются, кроме Дефоссё и Рюффена, который все с тем же отсутствующим видом уставился в окно, словно видит там нечто особенно интересное. К генералу Дедону вся императорская армия питает дружную неприязнь. Высоколобый теоретик и ученый-артиллерист своим благородным происхождением и изысканными манерами донельзя раздражает тех, кого революция вынесла наверх с самых низов, – и прежде всего Виктора, который тридцать лет назад в Гренобле начал службу барабанщиком, за Маренго получил золотое оружие, а при Фридланде заменил раненого Бернадотта. Все, от кого это зависит, по мере сил стараются не давать хода проектам Дедона и стремятся похоронить его мортиры.
– Тем не менее сама идея, лежащая в основе, совершенно справедлива, – замечает Дефоссё с апломбом высокого профессионала.
Вслед за этими словами повисает молчание столь плотное, что даже генерал Рюффен у окна, слегка заинтересовавшись, оборачивается. Лезюер же, в стремлении унять своего подчиненного подняв уже не одну бровь, а обе, буквально буравит его глазами: они горят гневом и сулят многое.
– Проблема неполного воспламенения крупного порохового заряда возникает у пушек и других систем, – невозмутимо продолжает Дефоссё. – Возьмите, например, гаубицы Вильянтруа или Рюти.
Новая пауза. Герцог Беллюнский, не сводя пытливого взгляда с капитана, в задумчивости запустил пальцы в свою седую львиную гриву, так тщательно уложенную испанским цирюльником в Чиклане. Дефоссё ли не знать, чем грозит пренебрежительный отзыв об этих пушках – их технические достоинства взахлеб расхваливал его начальник Лезюер. Но огромные надежды, которые возлагают на них в штабе, капитан считает несбыточными, а проще говоря – полной чушью.
– Различие все же есть, и коренное, – говорит маршал. – Император считает, что взять Кадис удастся именно благодаря этим гаубицам… Он лично прислал нам эскизы и чертежи полковника Вильянтруа.
В тишине слышно лишь, как жужжат мухи. Все взгляды вонзаются в капитана, а тот сглатывает слюну. Что я здесь делаю, проносится у него в голове. Какого черта меня душит жесткий ворот неудобного и тесного мундира, какого черта я торчу здесь и развожу дурацкие рацеи, вместо того чтобы преподавать физику в Меце? Несчастный я человек… Как меня занесло в эту дыру, в самую что ни на есть европейскую глухомань? И зачем? Чтобы играть в солдатики с этими густо раззолоченными вояками, желающими слышать от меня лишь то, что им нравится? Вернее, им так кажется. Скотина Лезюер: понимает суть вопроса не хуже меня, знает, что я прав, а бросил меня им на растерзание…
– При всем моем уважении к мнению императора я считаю, что Кадис следует обстреливать не из гаубиц, но из мортир.
– При всем вашем… – с улыбкой повторяет маршал.
От этой задумчивой улыбки любого французского солдата или офицера проймет дрожь. Однако перед ним стоит человек глубоко штатский, даром что в военном мундире. Солдат на час – на то время, пока проводятся эти испытания. Сейчас полигоном их стал Кадис. Вот Дефоссё и привезли сюда из Франции, нацепив капитанские эполеты… Нет, его царствие явно не от мира сего.
– Ваша светлость, даже наши неудачи со взрывателями имеют к этому самое прямое отношение… Запалы для гранат, на которые рассчитаны гаубицы, очень несовершенны… А бомбу большего калибра, предназначенную для мортиры, можно будет снабдить и взрывателями большего размера. Кроме того, устройство их таково, что пороховой заряд весь целиком будет взрываться в каморе в момент выстрела, что увеличит дальность.
Командующий Первым корпусом по-прежнему улыбается. Однако на лице его проступает любопытство. Когда у маршалов, генералов и прочего начальства пробуждается это чувство – берегись, добра не жди.
– Император считает иначе. Не забудьте, он тоже артиллерист и весьма гордится этим. Да и я принадлежу к этому роду войск.
Дефоссё кивает, но он уже не в силах сдержать себя. Его будто обдает жаром, ему нестерпимо хочется рвануть крючки высокого тугого воротника. Как бы то ни было, другого случая выложить все начистоту может и не представиться. Разве что в камере военной тюрьмы или перед расстрельной командой. И вот, раза два глубоко вздохнув, он отвечает. Нет, он ни в коей мере не подвергает сомнению компетентность его величества императора, равно как и его светлости герцога Беллюнского в артиллерийском деле. Именно поэтому и осмелился сказать то, что сказал, основываясь на собственных познаниях и по долгу совести. Верности артиллерии. Убежденности в том, что ничто на свете не может быть выше Франции. Руководствуясь патриотическим сознанием… и прочая, и прочая…Что же касается гаубиц, то маршал Виктор самолично изволил присутствовать вТрокадеро на испытаниях. Не угодно ли ему будет вспомнить? Предельная дальность стрельбы из всех восьми орудий под углом возвышения ствола в сорок четыре градуса не превысила двух тысяч туазов. Значительная часть снарядов взорвалась в воздухе.
– Потому что порохового заряда кладете недостаточно, – не без злорадства уточняет генерал Лезюер.
– Бомбы в любом случае не достигали бы городской черты. Дальность уменьшается с каждым выстрелом.
– Почему? – осведомляется Виктор.
– Клинья в запальном канале ослабевают при каждом выстреле, и оттого сила заряда уменьшается.
На этот раз воцарилось еще более продолжительное молчание. Маршал внимательно рассматривает план города. Генерал Рюффен опять уставился в окно, за которым слышны голоса саперов. Стучат их топоры, позванивают лопаты. Виктор наконец отрывается от панорамы Кадиса.
– Я вам вот что скажу, капитан… капитан… Как вас? Напомните, пожалуйста, свое имя.
Бух! Бух! – раздается за окном. Дефоссё снова проглатывает слюну, и ему кажется: этот звук громче пистолетного выстрела. Муха, сволочь испанская, кружит над столом, перелетает от генерала к генералу.
– Симон Дефоссё, ваша светлость.
– Так вот, Дефоссё… На Кадис наведено триста крупнокалиберных стволов, а Севильский литейный двор работает круглосуточно. У меня есть главный штаб артиллерии, у меня есть вы – истинный гений в своей области, как уверял покойный генерал Сенармон, земля ему пухом. Я предоставил в ваше распоряжение всякое необходимое оборудование, я облек вас властью и полномочиями… Что вам еще нужно, чтобы засадить маноло бомбу в самое очко?
– Мортиры, ваша светлость.
Муха присаживается маршалу на нос.
– Мортиры?
– Точно так. И большего калибра, чем модели «Дедон», – четырнадцатидюймовые.
Виктор отмахнулся, сгоняя муху, – и в тот же миг из-под раззолоченного, вылощенного маршала вдруг проглянуло его казарменное, солдафонское нутро.
– Думать забудьте о своих мортирах драных! Слышите?
– Прекрасно слышу, ваша светлость.
– Если император сказал – «гаубицы», значит будут гаубицы. И всё на этом!
Капитан Дефоссё поднимает руку. Но все же – позвольте еще два слова… Еще минутку… В этом случае он обязан осведомиться у его светлости, нужно ли, чтобы бомбы в Кадисе все же рвались, или довольно и того, если будут падать просто так. Он произносит это и умолкает в ожидании. Маршал после краткого раздумья, переглянувшись со своими генералами, отвечает, что не понял, куда клонит капитан. Дефоссё снова показывает на разостланный план и просит уточнить задачу. Что же все-таки требуется – причинить осажденному городу всамделишный ущерб или подорвать боевой дух защитников. Если второе, то безразлично, будут бомбы взрываться или нет. Ущерб будет относительный.
Маршал, совершенно очевидно сбитый с толку, почесывает нос там, где посидела муха.
– Что вы понимаете под «относительным ущербом»?
– Так называемая болванка, весом около восьмидесяти фунтов, может что-нибудь разрушить или сломать, причем – с сильным грохотом.
– Послушайте, капитан… – Виктор вроде бы даже унял досаду. – Я хотел бы сровнять этот проклятый полуостров с землей, а потом с моими гренадерами поднять его на штыки… Но раз уж это невозможно, то пусть хотя бы «Монитёр», не привирая ни слова, напечатает, что от нашего огня Кадис содрогается до основания и ходит ходуном.
Дефоссё впервые за все это время улыбнулся. Нет, не ощерился во всю пасть, что было бы и неуместно, и несовместимо с его чином. Но всего лишь раздвинул губы. Скромно и многообещающе.
– Я провел испытания десятифунтовой гаубицы, стреляющей особыми снарядами. Особыми, но на самом деле очень простыми – они без пороха и не взрываются. Ни запала, ни фитиля. Ядра двух видов – литые и начиненные свинцом. Могут представлять интерес в отношении дальности, если мне удастся решить одну дополнительную задачку.
– И каково же их действие?
– Крушат, ломают, рушат. Если повезет и они угодят в дом. Могут убить кого-нибудь или покалечить. Производят очень много шуму. Полагаю, что предельная дистанция может возрасти на сто–двести туазов.
– Каково поражающее действие?
– Никакого.
Маршал снова переглянулся с Лезюером, и тот кивком подтвердил все сказанное, хотя Дефоссё ли не знать: его начальник понятия не имеет, о чем идет речь. О последних испытаниях с «Фанфаном» известно лишь лейтенанту Бертольди.
– Ну хорошо. И то хлеб. Для газетной трескотни пока достаточно. Но и «классику» в небрежении не оставляйте. Работайте. Совершенствуйте гаубицы со снарядами зажигательными, разрывными, обычными, бомбами, гранатами, с запалами, без запалов и так далее. Полезно одну свечку поставить Христу, а другую – дьяволу.
Он поднялся. И выработанная годами службы привычка непроизвольно вздернула навытяжку остальных. На грохот стульев обернулся от окна генерал Рюффен.
– Да, и вот еще что… Разорвется или не разорвется, но если накроете часовню Сан-Фелипе-Нери, где сейчас заседает эта шайка, которая называет себя кортесами, – произведу в майоры. Слышите? Обещаю.
Генерал Лезюер слегка поморщился, и это не ускользнуло от маршальского внимания.
– В чем дело? – надменно осведомился он. – Есть возражения?
– Нет, какие же возражения, ваша светлость… Просто капитан Дефоссё уже дважды отказывался от повышения в чине.
С этими словами он посмотрел на предмет обсуждения со смешанным чувством зависти, подозрительности и досады. В мире профессиональных военных всякий, кто не стремится продвинуться по службе, неизбежно кажется человеком сомнительным. Немудрено: это идет вразрез с самым духом армейской касты, всякий член которой желает расти в чинах, получать кресты и, если повезет, – вслед за герцогом Беллюнским и генералом Лезюером грабить города, страны, народы и свозить трофеи в милую отчизну. А что они три десятилетия кряду добывали славу для республики, консульства, империи, глотали, не морщась, огонь и свинец – никак не помеха тому, чтобы окончить свои дни в богатстве и, если получится, в своей постели. Противоречия тут нет, зато есть еще одна причина косо смотреть на тех, кто, подобно капитану, желает маршировать под собственный барабан. Если бы не светлая голова Дефоссё, Лезюер давно бы отправил его гнить на редут, месить грязь на гибельных заболоченных берегах каналов, окружающих Исла-де-Леон.
– Ладно. Желает, как я посмотрю, быть наособицу, сам по себе. И вероятно, глядит на нас, не гнушающихся делать карьеру, свысока, – промолвил Виктор.
Очередную напряженную паузу – а и в самом деле, что тут скажешь? – прервал его хохот.
– Ладно, капитан. Делайте свое дело и постарайтесь прошибить бомбой купол Сан-Фелипе. Мое обещание остается в силе. Чин вы не хотите – а чем же вас наградить в случае удачи?
– Четырнадцатидюймовой мортирой, ваша светлость.
– Убирайся отсюда! – гаркнул герой Маренго, указывая на дверь. – Прочь с глаз моих! Провались, мерзавец!
Рано поутру чучельник входит в парфюмерную лавку Фраскито Санлукара, что на улице Бендисьон-де-Дьос, возле Ментидеро. Здесь тесновато, полутемно и прохладно, окно глядит во внутренний дворик. В глубине на прилавке громоздятся ящики и коробки, часть – с прозрачными крышками, чтобы можно было разглядеть товар. Сосуды, флаконы, склянки. Изобильная пестрота красок, разнообразие ароматов, запах цветочных эссенций и душистых масел. Раскрашенный литографический портрет короля Фердинанда Седьмого на стене. Рядом – старый судовой барометр на узкой длинной подставке-колонке.
– Доброе утро, Фраскито.
Очкастый рыжеватый хозяин в сером рабочем халате больше похож на англичанина, чем на испанца. Все лицо и даже клинья залысин, врезающиеся с висков в кудреватые негустые волосы, – в густой россыпи веснушек.
– Доброе утро, дон Грегорио. Чем сегодня услужу вам?
Грегорио Фумигаль – так зовут чучельника – улыбается ему. Он здесь завсегдатай: в лавке Фраскито неизменно широчайший выбор наилучших в Кадисе товаров – от изысканных заграничных до самых ординарных, местного производства помад, притираний, бальзамов, туалетных мыл.
– Мне нужна краска для волос. И два фунта белого мыла – такого же, как я в прошлый раз у вас брал.
– Подошло, значит?
– Превосходно подошло. Вы оказались правы – шкуру отчищает просто чудесно.
– Я ведь говорил! Отчищает лучше, а расходуется меньше.
Появляются две молодые женщины.
– Я не тороплюсь, – говорит чучельник и отходит от прилавка, покуда хозяин обслуживает покупательниц. Простолюдинки из соседнего квартала – шерстяные полушалки, саржевые юбки, гребни в высоко взбитых волосах, корзинки на руке. Бойкие и бесцеремонные – истые жительницы Кадиса. Та, что помельче, – хорошенькая, белокожая, с изящными ручками. Грегорио Фумигаль наблюдает, как девицы перебирают выставленные на прилавке коробочки и мешочки.
– Завесь мне полфунтика вот этого желтенького, Фраскито.
– Это тебе не годится. Жирное слишком. Поверь мне, милая.
– И что ж с того, что жирное? Что за беда?
– Да вот то. Оно на свином сале. Будет от тебя хрюшкой нести… Давай я вот тебе лучше отмерю этого, на кунжутном масле. Прелесть что такое. Совсем другое дело.
– Ну да, и стоит небось втрое… Знаю я тебя.
Фраскито Санлукар принимает вид оскорбленной невинности:
– Разумеется, это немного подороже. Но ты заслуживаешь мыльца самого высшего качества. На красоте экономить не надо. Кстати, его же употребляет императрица Жозефина…
– Да и черт бы с ней! Не желаю мыться тем же, что эта лягушатница.
– Остынь, красавица. Ты не дослушала. И английская королева. И португальская инфанта Карлота. И еще графиня де…
– Ты кого угодно уговоришь, Фраскито.
– Так сколько, говоришь, тебе фунтов?..
Хозяин заворачивает коробочку. Когда покупку делают женщины, следует упаковать товар покрасивей, обернуть поярче – в цветную бумагу с названием лавки. Реклама заведению будет.
Грегорио Фумагаль, посторонившись, дает девицам пройти и смотрит им вслед.
– Извините, дон Грегорио, – говорит хозяин. – Спасибо за долготерпение.
– Что ж, война войной, а торговлишка, вижу, бойкая?
– Грех жаловаться. Покуда порт открыт, ни в чем недостатка нет. Даже французские товары прибывают… И слава богу, а то наш Кадис падок до всего заграничного, а испанские мыла пользуются неважной репутацией… Говорят, подмешивают туда черт знает что.
– И вы тоже подмешиваете?
Гримаса Фраскито должна означать, что достоинство его задето.






