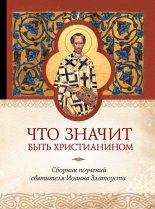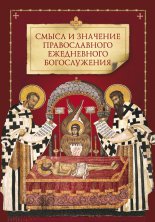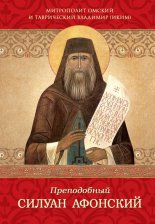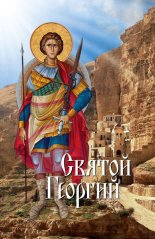Площадь Революции. Книга зимы (сборник) Евсеев Борис

Площадь Революции: Книга зимы
Роман
Ты страшишь меня снами
и видениями пугаешь меня…
Книга Иова, 7: 14
Часть I
Внизу
По вечерам в переходе играл маленький, круто сбитый оркестр.
Было до жути сладко в дымящем от холода пространстве заново вслушиваться в Глюка и Моцарта, кажется навсегда упорхнувших из сознания где-то при конце детской музыкальной школы. Музыка страстная, музыка трепетная – тревожила. Но и возвышала, и приподымала легонько над вечерним хламом, стылой грязцой, комочками снега, плющенными пивными банками.
Вверх-вниз, вправо-влево – волокла и шатала музыка тихих бухальщиц, спящих на ходу бездомных детей, вполне пристойных, клонимых усталостью вбок пассажиров.
Вверх-вниз, из начала в конец, от середины к обрыву – уплывала и возвращалась такая же, как музыка, беспокойная, непроизносимая в своем определении жизнь.
Проходя вечерами по стынущему переходу к метро, Воля всегда рядом с этим оркестром останавливалась. Она вслушивалась в едва уловимые призвуки, наполнявшие пассажи уличных лабухов таинственным, а по временам и зловещим смыслом. Вслушивалась, но не могла ухватить, не могла до конца понять суть этих призвуков.
За час до полуночи оркестр сладко немел, глох.
Чехлились альты-скрипки, стопкой укладывались скомканные десятки, раздраженно дзенькала ссыпаемая в карманы мелочь.
Пустота в переходе близ «Площади Революции» – словно в предчувствии грозно таимого, истошного визга – напрягалась, росла.
Чтобы уберечь себя от пустоты, не растерять полноту жизни, Воля, под завязочку набитая струнной музыкой, спешила дальше: в метро, на станцию. Ее било прозрачными дверьми, она неловко вставляла карточку, сбегала по эскалатору вниз…
И все ради того, чтобы на минуту-другую замереть меж бронзовых – и днем, и вечером обжигающе холодных, – грубо-насмешливо, но и с убийственной приязнью наблюдавших за нею скульптур.
Дрожа от негодования и страсти, а потом от страха и от наслаждения им, Воля гладила бронзовую узкоклыкастую собачью морду, следом – винтовку, следом – наган революционного матроса, а потом и вытертый до тупого сияния петушиный тяжелый гребень.
Странное обаяние исходило от вечерних этих скульптур!
Особенно от одной из них: от круглолицего, со взбитыми кверху волосами, упершего руку в колено, а голову задумчиво свесившего на руку, молодого человека, которого Воля про себя звала «градостроителем».
Обаяние было как знак, как сигнал. Оно влекло к бронзе, подманивало замереть, может даже – умереть под ее тяжестью…
Воля и сама не заметила, как стала представлять «градостроителя» партнером в плотской любви. Она отгоняла туманные мысли, а они опять и опять лезли в голову: бронзовая рука, выскобленные до оловянного блеска плечи, чудовищный железный уд – рвали и протыкали насквозь, радостно, не навсегда, калечили.
И еще ее влек запах: остро-металлический, со скрытыми бульбочками лечебного кислорода. Пахло сладкой кончиной, рот и уши заливало нежной бронзовой лавой…
Но все приятное быстро таяло. Металлическое теряло запах и цвет, бронзовая рука становилась удавкой, железная нога, соскользнув с пьедестала, норовила изувечить нежную человечью ступню, вместо сладкого бронзового лепета и легких прикосновений воздымалось и готовилось проломить голову тяжкое рабочее кайло…
Счетом скульптур было ровно семьдесят две. Тридцать шесть на двух равнобежных перронах и еще тридцать шесть – в зале. Скульптуры строго чередовались. При этом все повторяющиеся изваяния были расположены крест-накрест друг от друга. Этот «крест в метро» создавал дополнительное и волнующее напряжение.
Проплывая меж скульптур – как между скал, в тугой, тепло-холодной, мелко искрящей воде, – Воля, потрогав две-три из них, всегда завершала обход трудно сдерживаемым, рвущимся наружу смехом.
– Ух-ха-га… – смеялась, сцепив зубы, она. – Ух-гаа-ух… – старалась отвести от себя легкий ужас, который вслед за улыбкой бронзового градостроителя всегда накатывал на нее.
Тем вечером она собралась было, оторвавшись наконец от скульптур, ехать наверх, как вдруг кто-то бесцеремонно окрикнул ее:
– Эй, деушка! Ну вы, вы, с воротником зеленым!
В полупустом метро, сладко опорожняющем свой и без того промытый вечерними незримыми водами кишечник, близ перронов с одиночными пассажирами и все реже прибывающими поездами – этот нелепый окрик мог относиться только к ней.
Воля нехотя обернулась.
Невдалеке переступал с ноги на ногу какой-то нетесанный пень, в коротком светло-коричневом пальто, с вывернутыми наружу карманами, лысостриженный.
«Поперек себя шире, а туда же! Знакомиться лезет. А вот я тебя, дубина стоеросовая…»
– Эй, деушка. – Пень на коротких ногах подволокся ближе, и Воля сразу заметила: он смотрит мимо нее и сквозь нее. – Это какая жж станция будет?
– А «Площадь Революции» будет. – Воля пошла прямо на лысостриженного, ловко обминула его, слегка задела, чуть толкнула…
– Ну вот! – крикнул пень радостно и уже почти ей в спину. – Я жж говорил! А теперь вы и сами это признали. – Он попытался наполнить голос грозненькой педагогической брезгливостью. Это не удалось, пень махнул рукой, рассмеялся, сказал простецки: – А раз признаете, то и должны помочь настоящим ррэволюционэрам… порядочек на этой самой площади навести.
Воля приостановилась.
– Это какой же такой «порядочек»?
– Ну какой, какой… – Пенек попытался обвести томившую его мысль рукой по контуру, но опять же не смог. – Ррэволюционный, конечно…
Тут в зал с перрона высыпало сразу несколько человек. Двое вмиг очутились рядом с пеньком, подхватили его под руки. Пенек вырвался, подступил к Воле почти вплотную, засвистел полушепотом:
– Нам как раз ррэволюционэрки нужны… Понимаете? Только жженщины-ррэволюционэрки и могут искомый порядочек навести. Так это, знаете, бархатной лапкой, мягкой шкуркой… Мужики что? Мужики – пьянь и срань! Я сам – пьянь и срань… И эти тоже… – он махнул рукой в сторону поотставших спутников. – Что они, блин горелый, могут? Так… «Теоретики чужой казны»…
Воля прыснула. (Была смешлива, любила знакомства, любила щедро, без задних мыслей смеющихся мужиков, не сухих, не занудных.)
– Так помогите жж нам! – Пенек вскинул обе руки кверху. – Помогите жж! Попервоначалу здесь… А опосля в другом… В отдаленним… Ну, в отхожем месте…
Воля прыснула снова.
Была – кроме прочего – еще и толстушкой. Верней, таковой себя считала. И к мужикам солидного возраста относилась серьезно. Может, из-за двух тоскливо-неполных замужеств, из-за бегло-поверхностной жизни с двумя – по очереди – сверстниками.
В последние недели она даже убеждала себя: «Тебе, дура, старичок нужен. Да, старичок… Шамкающий такой, в дугу гнутый… В тебе, к примеру, метр семьдесят восемь. А в нем… в нем как раз метра полтора и будет. Вот тебе и парочка: малорослый баран и ярочка…»
– Так подмогнете нам туточки? А опосля… Опосля– в одно умопомрачительное заведение!.. Вниз! Да-да, вниз! Глубоко внизу оно расположено! В самом, как говорится, чреве матушки-Москвы! В самом-пересамом!
– Прекратите болтать, Витюша. – Пенька зло дернул за рукав незаметно подошедший и на ходу словно подтанцовывающий красно-рыжий франт. – Вы что, не видите – девушка не в теме. У нее совсем другое на уме. Правда, мисс? Какие такие революции? На дворе тихо-спокойно. Так что – все по домам!
Красно-рыжий, с каким-то до стона знакомым, наталкивающим на приятные воспоминания лицом, дернул Витюшу за рукав сильней, настырней.
– А я уж совсем было с вами наладилась. Как же. Держите карман шире! – словно пекучим йодинолом да на ноющую десну капнула голоском Воля.
Она бесповоротно собралась наверх, как вдруг (или это только показалось?) одна из скульптур, а именно: девушка, кормящая бронзового петуха, – чуть шевельнулась, потом резко дрогнула.
Поморгав веками, Воля на секунду их сплющила.
А разлепив – увидела: франт в ботиночках с еще не затертыми лимонными подошвами (а еще в голубой дубленке, а еще с модной барсеточкой на висюльке) встал так, чтобы Воля птичницу видеть не могла. «Встал, да еще покачивается, козел: с пятки на носок, с носка на пятку!»
Уйти, не обследовав дрогнувшую скульптуру, после всех архитектурно-строительных мыслей о дешевой советской бронзе было нельзя, невозможно. Воля стала поддерживать ненужный, гаснущий разговор. При этом незаметно перемещалась влево, чтобы зазирнуть-таки за спину красно-рыжему франту.
– Так вы, стало быть, новые революционеры будете? – брякнула она первое, что влетело в ум. – Мало нам «новых русских», так теперь еще – «новые революционеры»?
При этих словах группу из пяти мужиков разного возраста и разных (как вмиг оценила чуткая Воля) финансовых и физических возможностей – шатнуло назад. Отступив на несколько шагов, все они сплотились вокруг франта и закрыли птичницу с петухом почти наглухо. Видны были только голова и часть груди бронзовой девушки.
– То-то я гляжу… – пыталась хоть одним глазком зазирнуть за спины мужикам настырная Воля, – то-то гляжу я…
Ее разбирало тощерукое, тощезадое, уже, казалось, напрочь позабытое подростковое любопытство: померещилось? Нет? Вечерний сумрак? Усталость глаз?
Привыкнув, как архитектор, играть плоскостями и пространствами, приноровившись перемещать внутри себя немалые объемы, Воля непременно хотела знать: дрогнула скульптура или нет?
«Трещина в фундаменте? Раскололся гранит? Плаун? Подземные воды?»
Тихо-тайный, с неявным античным отблеском ужас, – с беззвучно ломающимися на части колоннами, со статуями, руки и головы теряющими, вдруг цепко ухватил ее. Ужас этот сидел себе до поры далеко, глубоко, а теперь вот вырвался наружу, накрыл, раздавил, поволок со станции вон!
Правда, ужас этот, подобно вечернему отблеску бронзы, зажженному прожекторами прибывающего поезда, сразу же и угас, и растворился в самом себе.
– Девушка, а девушка. Шли б вы отсюда подобру-поздорову. Ей-богу, не до вас сейчас. Да к вам по глупости и обратились! А вы – уши развесили…
Воля нетерпеливо дернула щекой: заглянуть за спину рыже-красному франту никак не удавалось.
Давно пора было наверх.
Она поправила воротник серо-зеленого пальто, тронула шарф на шее.
– Да ни за что! Да ни в жись! – завибрировал вдруг Витюша, ласковый заныл пень. – И не по глупости! И не случайно! Не будь я, ррэволюционэр-аграрий, ежели я не говорил: баба нам нужна! Да, баба! И одновременно… как это… героиня «новой революции». Нужна и бац… и бац… И баста! Но не видать середь наших партбабцов такой!
– Бросьте базарить, Витюша! От вас же за версту перегноем «Крестьянской партии» несет!
– Ни-ни-ни! Не брошу! А вас, героическая вы – не баба, женщина! – попрошу со мной. Я… Мы не сделаем вам ничего такого. Я собственноручно удавлю любого. Я…
– Натан Янович! Да скажите хоть вы этому олуху царя небесного…
Красно-рыжий франт вдруг совершенно озлобился и стал сразу похож на лишившегося службы, еще недавно ладно остриженного, с хорошо подбритыми баками, а теперь слегка запустившего и волосы и костюм лакея, злящегося на выгнавших его господ и не знающего, как снова лизнуть им руку, как вернуться назад: на ковровые лестницы, в хоромы высокие…
Воле от мгновенного превращения франта в отставленного от службы лакея стало тошно.
Тут, оттолкнув и Витюшу и франта, подскочил к ней седой, с приятными морщинками вокруг глаз, Натан Янович.
– Витюша не прав, ох не прав он! Сдвинутый он человек и глупезный. А ви, я вижу, девушка добрая. Ви девушка надежная… Витюша, иди погуляй, голубь!
Витюша нехотя отвалил, и тогда Натан Янович, сперва пусто шевеля детским ротиком, а потом мило коверкая слова, подпрыгивая и едва доставая Воле до шейного завитка волос, затараторил:
– Ми вас давно заметили, что ви сюда ходите. Вернее – недавно, но уже и давно! А раз ви ходите, смотрите – значит, ви та самая, что нам нужно и есть. Так ми подумали! Но теперь ми с вами – их всех, всех обманем! Они про себя некрасиво вами располагают, и могут не на то, на что нужно, использовать, если пойдете с ними! Только я один знаю, что с вами делать. Вот вам мой телефункен, а вот и мейлик мой. Ви мне завтра только одно слово черкните, мол «согласна». И все! И все! – Натан Янович сунул в карман Воле скомканную бумажку. – Дело-то у нас ох важнецкое! И ролька ваша почетная будет. Не какая-то там «эссен сервирен!» Но они, глупезные эти люди, про рольку вашу будущую ничего не знают. Даже рыжий черт Радославлев – и тот не знает! Так что и ви мейлик ваш мне суньте тихонько. И телефункен, телефункен ваш, главное, пожалуйста! В карманчик Натанчику? А?
Сама не зная зачем, Воля выщелкнула из сумочки визитку, подала незаметно Натанчику, и тот, шепча: «Я вам по электронке, по мейлику…» – откатился назад к скульптуре птичницы, к пеньку Витюше, к рыжему, с лимонными подошвами туфель, черту Радославлеву.
И здесь на станции «Площадь Революции» сделался страшный кавардак.
Пенек Витюша стал ни с того ни с сего носиться меж скульптур, дергать их за что ни попадя, орать, подвизгивать:
– Энта самая? Энтась? Энтась?
Витюшу, боязливо и на носках ступая (словно у него были повязаны тряпочкой глаза), пытался урезонить Натанчик. Натанчик время от времени спотыкался и тут же заламывал руки, что на взгляд Воли только подталкивало агрария к дальнейшим бесчинствам.
А бесчинства эти были вот какими: вынимаемой изо рта жвачкой Витюша стал клеить к скульптурам разные нелепые картинки. Картинки были формата А3, и выдергивал их Витюша из собственной хозяйственной сумки.
Среди картинок выделялись огромный серп с острыми зазубринами и черный молот, ударяющий по крыше Большого театра. На другой картинке нельзя было не заметить Кремль, выглядывающий из-под колена президента Путина. Причем на Путине – малиновая рубашка и остроухая красная шапка. А чтобы зрители не могли перепутать его с кем-то другим – понизу жирнокоряво вывели фамилию с инициалами (но почему-то со знаком вопроса в скобках).
Однако и это было не все.
Бросив клеить картинки, тут же уносимые вослед уходящему поезду раскосым метрошным ветром, Витюша выдернул из кармана пищевой воздушный пакет, в два-три выдоха поддул его и напялил на голову бронзовой собаке, отдыхающей у ног красноармейца.
– Подыши! Подыши ты нашей гнилью, собачечка! Клеем нашим вонючим, животное, подыши!
Но и собаки показалось ему мало. Вынув из портфеля второй пакет, Витюша плотно его надул, завязал, кинул на пол и – неожиданно высоко подпрыгнув – на пакет этот наступил.
Звук вышел негромким, но раздражающим и в пространствах метро безусловно лишним.
От звука ли излишнего, а может по простоте душевной Витюша вдруг уронил себя на мраморный пол, заплакал.
– На кой хрен и кому мы с революцией нашей нужны? Кому? На кой? – рюмзал пьяный аграрий. – Всем она, сердешная, до фонаря. Всем!.. – Тут, на кого-то обозлившись и уняв слезы, Витюша вскочил на ноги, крикнул: – Ну так мы сами себе и поможем! Мир-копир, явись!
Тут же «Мир-копир» в зал с платформы и выскочил. Вернее, выбежала прятавшаяся до поры до времени на платформе Мирка-копирка.
Странный вид имела эта крохотная седовласая женщина. По ней словно проехался туда-сюда дорожный каток: плоская с головы до пят, с плоским серым лицом, в черно-синем саржевом пальто, она и впрямь походила на когда-то блескучую и многим нужную, а теперь выцветшую, и начисто выведенную из оборота копирку.
Но вот действовала Мирка-копирка куда как ловко: выхватив из хозяйственной сумки скрученную бельевую веревку, она тут же ее размотала. Захлестнув, как заправский ковбоец, один конец на шее бронзового крестьянина, со вторым – кинулась к такому же, бородатому, расположенному накрест.
– Куда только ОМОН с милицией смотрят. Куда глядят только! – открыл было рот дедок в бекеше, но под грозно взметнувшимся кулаком Радославлева тут же нырнул в переход.
Тем временем Мирка-копирка веревку на шее у другой скульптуры уже захлестнула. Веревка протянулась наискосок через весь зал. На ней мигом повис Витюша, тупо заголосил:
– Мы сами – милиция! Мы сами – ОМОН! Перекроем все дороги, все трассы! Пущай нам революционные статуи помогут. Они – выдержат! Не то что людишки дохлые, людишки наши дрянные!
Рыжий черт Радославлев только сжимал и разжимал кулаки. Он уже несколько раз собирался кинуться к Витюше, дать ему в ухо, а потом и в лоб, но удерживался и лишь, вздрагивая, смотрел на часы, словно ждал кого-то.
Никто, однако, к Радославлеву, не подбегал, не шел…
Странным во всей этой полупьяной бестолочи Воле казалось лишь то, что четвертый и пятый участники всего этого безобразия, заняв место Радославлева, словно приклеились к бронзовой птичнице. Петух, во всяком случае, был закрыт напрочь. Да и хозяйка его была видна не очень. Эти четвертый и пятый глядели, кстати, на Волю и только на нее: словно собираясь влезть через приоткрытый от любопытства ротик к ней в нутро и уж там до утра вольготно расположиться.
Вдруг – все расширяясь и увеличиваясь, проходя ломаной линией чуть правее советской птичницы – в гранитно-мраморном полу означилась трещина.
Воля не поверила глазам. Трещина, однако, вмиг расширилась, сверкнула изнутри беловатым, режущим глаз огнем, побежала стремительней, дальше… Воля прикрыла лицо рукой.
Гул, грохот, топот и вой тут же влились в уши. Медленно и туго, с позорящим свистом трещина стала втягивать в себя пассажиров, камни, осколки падающих круглых светильников, тяжкую советскую бронзу. Словно обратная, сыгранная наоборот – с последнего такта до первого – музыка, в трещину с гадким скрежетом втянулись все разрозненные звуки метро, а вслед за ними и оркестр уличных лабухов, слышанный десять минут назад далеко от станции и каким-то образом переместившийся сюда, к скульптурам…
Воля отняла руку от лица, и все встало на места: бронза, мрамор, люди. Да и никакому оркестру в зале быть не следовало…
Окончательно встряхнувшись, она плотно сомкнула губки, вынула из кармана плеер, вставила под шапочку крохотный наушничек, «воткнулась» в собственную жизнь, в свою музыку.
Не оглядываясь, сперва шагом, а потом и трусцой, заспешила она прочь от криков и Витюшиных прыжков, от его песни: «Смело, товарищи, в жопу!», от гаснущего кавардака и остро царапнувших подземных видений – наверх.
На бегу старалась думать о хорошем. Вспомнила густо морщенного, но очень приятного Натанчика, представила, как, вскинув седые бровки, закатывая глаза и заламывая по временам руки, старичок будет рассматривать дома ее новенькую визитку, где значилось:
Рокотова Воля Васильевна
РИД «Слимз»,
РR-директор, кандидат искусствоведения
Как, подпрыгивая, подбежит он к компьютеру, станет вколачивать в клавиши сухонькими пальцами костяную музыку…
Впрочем, быстро откинув ненужные мысли, Воля ступила на бегущую лестницу, стала вместе с давно привязавшейся и горько любимой музыкой возноситься выше, выше, вверх…
В тот близкий к бестрепетной полуночи час на станции метро «Площадь Революции», кроме бегло обрисованных фигур, полусидел в одной из ниш, на мраморной приступочке полусидел – еще один человек.
Только что изгнанный из всех благосклонных и неблагосклонных к нему редакций за неуместные мысли, – делал вид, что заносит к себе в компьютер что-то наиважнейшее. «Крутое» заносит и «отвязное», а в то же время и недосягаемо высокое!
На самом деле ничего он не заносил, ничего в клавиши не вбивал. Потому как вбивать ему в тот миг было нечего.
Разбитый в пух и прах, вместе со своим некстати созревшим эссе о терроризме, он никак не мог взять в толк: что бы еще такое отобразить на компьютерном экране?
Может, именно поэтому доносившиеся визги и шум, долетавшие имена и крики вселяли в автора эссе о терроризме слабенькие (ни на чем не основанные) надежды.
Девушка Воля, Витюша, Натанчик, даже рыжий черт Радославлев – все они вдруг стали казаться автору людьми значительными, первостатейными. А вовсе не пьяной шелупонью, не сраной компашкой прощелыг, выделывающейся меж грозных отливов вечерней бронзы…
«Воля, Воля… почему все-таки – Воля? – повторял он про себя необычное, явно влетевшее в бронзовый зал из позднеантичного совка имя. – А с другой стороны – чем не имечко для разведенной сталелитейной жены, или для желающей опроститься, пожалуй даже “сесть на землю”, интеллигентной докторши?»
Неожиданно поднявшись – в длинно-сером, измазанном сажей с левого боку пальто, с отвисшей от безнадеги нижней губой, – автор неуместного эссе поспешил наверх, за девушкой Волей.
Наверху
Воля Васильевна Рокотова жила здесь же, неподалеку, в Ветошном старинном переулке.
Лишенный ныне жильцов, выданный чинодралам на «поток и разграбление», а когда-то веселый и хлопотливый этот переулок Воля помнила с незапамятных времен. Жила здесь сперва с «предками», потом – по очереди – с двумя мужьями. Теперь – одна. Второй муж, Антончик Портной, уже месяц с лишним как Волю покинул. И, кажется, навсегда.
По этому случаю Воля – а по-домашнему Волюн, Волюха – сильно вздыхала. Слегка даже мучилась. А потом…
Потом стали случаться с ней всякие неожиданности, стали завязываться непонятные знакомства. И жизнь Волюхина покатилась вне автобанов и дорог: влево, вправо, по откосу, по склону, вбок…
Несколько дней назад – в декабре уже – Воля пришла домой позже обычного. Она собралась было залечь на полчасика в ванную, а потом сразу на боковую, – как позвонили в дверь.
Воля никого не ждала и слегка насторожилась. Кроме нее в отселяемом доме жильцов не было, а бомжи здесь, в самом центре Москвы, близ Кремля и прочих музейных редкостей, и носу не казали.
Дверь, впрочем, Воля открыла.
На пороге стоял неправдоподобно высокий, худой, кадыкастый, нескладный, правда и с некоторым шиком одетый молодой человек. Кадыкастый чесал за ухом дохлым цветком.
«Прямо столб-верстович какой-то», – сказалось Волей про себя. А вслух она не слишком дружелюбно спросила:
– Ну и чего звоним?
– Мадам! Миль пардон… – залепетал кадыкастый, слегка походящий на молодого Шарля де Голля, но больше на французистого араба человек. – Миль пардон, мадам. Я есть к вам с предложением… Потому что ви, в свою очередь, есть… ви есть… как это… Пустите мне переночевать, мадам! Я теперь сразу из-за границы. Но… Я не есть русски эмигрант! Я есть натуральни бельгийски гражданин. Пустите переночевать, мадам!
– Пшел вон, бельгийская морда! – захохотала Воля и захлопнула дверь перед носом у кадыкастого.
Прошло минут десять-пятнадцать.
Снова тенькнул звонок.
Сжимая в кармане халата газовый баллончик, Воля отперла еще раз.
– Мадам! Ви есть не совсем верно меня понимать! Я – етот самый… как его… Я есть ваш родственник. Из Льежу, мадам…
Лицо арабистого француза («Все равно француз, какая там еще Бельгия», – решила Воля), схожее, кроме прочего, с лицом кого-то из ближневосточных тиранов – Воля не могла вспомнить толком кого именно, – кисло сморщилось.
«Родственничка» стало жаль.
– Ну а ежели ты родственник, то и приходи как положено родственнику: с утреца в субботу, с шампанью, с тортом. Да, гляди: ежели окажешься седьмой водой на киселе – не приходи вовсе!
Родственник французистый исчез, и Воля все эти дни – до вечера пятницы – о нем не вспоминала.
Вспомнился арабистый французик лишь теперь, на выходе из метро «Площадь Революции». Почему вспомнился – Воля так и не догадалась. А только показалось: длинный родственничек чем-то смахивает на франта Радославлева.
«И главное, чем, стервец, смахивает – ни за что не допрешь!»
Воля делала жизнь (иногда – «влачила дни») в рекламе. Хоть рекламу и не любила. Сперва она, конечно, как и подобает коренным москвичкам, выучилась, стала архитектором и кандидатом искусствоведения. Но несмотря на то, что строительно-архитектурной работы в Москве было хоть завались, Воля давно решила: слишком просто было бы следовать по пути, который открывал диплом и нагловато-поверхностная (на собственный вкус) диссертация. Да и новоделом заниматься не шибко хотелось. «Одни муляжи, одни имитации вокруг, а все подлинное сносят и сносят. Куда ни кинь – везде новодел. Хоть и маскируется новодел этот то под позднюю античность, то под русскую старину. А чего маскироваться, чего подделки множить? Свой, московский стиль нужен! Новое московское барокко, что ли…»
Как раз после очередного взрыва таких мыслей она в рекламу и ушла. Здесь было биение жизни подлинной, жизни настоящей! Быстрые деньги, блатные связи, производственная любовь, подставы, интриги, взятки, воровство, «наезды», даже легкая пальба. А еще – сладкий мандраж новичков, дерзкий наив бывалых…
Лишь через пару лет, наглотавшись вдоволь рекламной красочки и прочих прелестей пиара, Воля вдруг и совершенно неожиданно вспомнила детские свои занятия музыкой.
Громко-радостно забила она в ладоши: заяснел новый, необычный путь!
Так, неожиданно для себя, она стала либреттисткой. Даже вошла в знаменитую, элитную до мозга костей «Мировую лигу либреттистов».
Правда, здесь тоже случилась закавыка. Воля не хотела сочинять либретто ко всем операм подряд. Да и какие нынче оперы? Так, время от времени, – рок-опера. Ну иногда мюзикл: сладко-голенький, приторно-бодрый. Или сдуру, а может, с общего перепою, какой-нибудь музыкальный театр чего современненького, будоражащего душу запросит. А либреттисту как быть? Ему что – глохнуть в простое? Или заказуху годами с языка сплевывать, со щек пылающих сдирать?
Наверное, как раз поэтому Волю-либреттистку интересовала только одна фигура. Достойная и оперы, и оркестра, и написания либретто новых, и бережного восстановления давно утраченных!
Словно из полумглы, из таинственно-тревожных, не до конца ясных жизненных обстоятельств, выступал, приводя Волю в смятение, сочинитель хоров, балетов и опер века восемнадцатого – Евстигней Фомин.
Сперва Евстигней тоже имел очертания бронзово-архитектурные. Но постепенно стал теплеть, стал утрачивать бронзовый налет, железный вес. Словом, становился всамделишним, живым.
Да и вообще, «музыка застывшая» (скульптура и архитектура) и музыка звучащая (собственно музыка и слово) становились внутри у Воли все более далекими друг от друга. Ей сильней и сильней хотелось живой музыки: так среди долгих путешествий по каменным садам и лестницам вдруг хочется ощутить живую плоть, вкусить живого тела.
«Надоело памятники и скульптуры обнимать. А Евстигнея мягкого, Евстигнея теплого, из музыки свой облик творящего – это всегда пожалуйста! Поэтому – к музыке, в музыку! Через либретто, через слово – к чему-то живому, не поглощенному унылым отстоем смерти и ее вечным ожиданием…»
Вот и выходило: два написанных Волей либретто – только подготовка к третьему.
Третье либретто будущей оперы так и называлось: «Евстигней Фомин». Правда, иногда Воле хотелось, основываясь на отрывочных сведениях о безвременно почившем композиторе, назвать будущую оперу «Евстигней и Эвридика». Имелись в виду таинственные истории и даже легенды, и до сей поры, то есть до века ХХI-го, слабо витавшие вокруг имени быстро и ловко сведенного неведомой силой с земной нашей сцены Евстигнея Фомина.
Волина задача осложнялась, однако, тем, что часть этой современной до мозга костей оперы ей хотелось составить из музыки самого Фомина. Другая же часть должна была быть остро злободневной, то есть сочиненной кем-то из композиторов нынешних. Но при этом с музыкой века ХVIII-го кровно связанной…
Попетляв по слегка уже обрыдшим Старопанскому, Рыбному и Хрустальному переулкам, Воля Рокотова (фамилию в замужествах она не меняла) взбежала наконец к себе на третий этаж.
Быстро перехватив на кухне чего-то остро-соленого, она врубила «компуху», заглянула в почтовый ящик.
Там значилось: «У вас 1 письмо».
Мейлик был от Натанчика и поступил в 0 часов 51 минуту.
«Что-то быстро он отписал». Недоверчивая Воля, чуть помедлив, воткнула пальчики в клавиши.
«Обожаемая! – писал Натанчик. – Завтра в 11.30 утра буду у Ваших ног, у служебного входа в Гос. Думу (вход с Георгиевского переулка). Не откажите! Умоляю! Жду!
Нат. Грим.»
«Завтра суббота, – соображала Воля. – Так что вполне подходит. Вот только… Вдруг с утра этот арабистый припрется? И потом, Натанчик… Он же для амурных дел, скорей всего, не годен. А этот арабистый… Он-то как раз годен вполне. Может, чему новенькому научит… Франция с Бельгией все-таки. Мы, правда, и сами не лыком шиты… Ну да ладно. Припрется так припрется…»
Воля тряхнула русо-каштановой, на краях чуть золотой гривой, глянула на себя в зеркало.
«Ну что? Нос – вполне античный. Для коренной русачки, может, даже чуть коротковатый. Рот широконький, этого не спрячешь. Много жрешь, много лыбишься, девка! А вот зато глаза… Сине-зеленые они! С лукавым огоньком, чуть косоватые. Эх, косинка ты косиночка!
Да за такую косинку знающие мужики… Ладно. В общем, глаза – бодро зовущие и обещающие немало. Нет, глаза – что надо. Да и брови над ними – упругие, не выщипанные и уже отнюдь не русые – аспидно-черные! Порода? Уи, мадам, уи! Даже и шрам близ губы – он хоть и заметный, а милый, миленький. Да и годков тебе, девка, сколько? А всего-то 26! Все упругое, все при тебе! Ну а что полновата – так для такого росту и полнота не помеха. Ну а раз так, то бери ты, Волюн, этого арабистого завтра с собой. Ежели конечно пришлепает. И Натанчику веселей будет, и французистому на Думу укажешь невзначай: вот мы, мол, птицы какого полета!»
«Игрище невзначай» – вспомнилось ей вдруг жанровое определение, которое дал Евстигней Фомин своей лучшей комической опере, названной вполне даже современно: «Ямщики на подставе».
«Да. Вот именно. “Невзначай” и “на подставе” – это как раз про твою жизнь, дура… И хоть “подстава” теперь почтовой станцией называется…»
Воля зевнула, совершенно раздевшись, юркнула в постель.
Сразу вырубиться, однако, не удалось. Скрипнула пудовая деревянная балка над головой, треснул пакостно и сам потолок, и на пол, рядом с раскрытым диваном, шлепнулся добрый кус серо-голубой штукатурки.
Воля вскочила, тронула вмиг обутой золотой домашней туфелькой голубенький кус, и он прямо под ногой у нее развалился.
– Фу, блин, гадость какая, – глядя на гнилые деревяшки, торчавшие из куска, зашипела голая Воля.
Но потом ее разобрало любопытство: что, если тут не просто груда известки и штукатурки? Что, если – послание? Присев на корточки, она стала ноготками отщелкивать в стороны строительный мусор.
Никакого послания не было.
И все же что-то этот упавший кус штукатурки да значил.
– А то он и значит, что тебе спать пора, – сказала Воля вслух и шмыгнула обратно в постель: в отселяемом доме было прохладно.
Но заснуть опять-таки не удалось. Выхватив из-под подушки последний вариант собственного либретто, она стала его усердно править.
«Евстигней и Эвридика» – первым делом (и теперь уже окончательно) выправила она заголовок.
Шум и легкий треск под потолком были ответом на смелое ее действие.
Воля закрыла глаза, стала мысленно менять старый текст, вводить в него куплеты, подтекстовку, иное-прочее…
Сюжет
Акт первый
В первые месяцы 1800 года, в Петербурге, Евстигней Фомин сочиняет новую оперу.
Неудачи последних лет надломили его. Пышные либретто Якова Княжнина и Николая Львова не принесли операм Евстигнея успеха. Тогда он решается сам написать либретто к небывалой и, как он надеется, лучшей своей опере. В ней должна наконец зазвучать мелодия, которую Евстигней ищет всю жизнь: мелодия, оживляющая мертвых. Он уже пробовал ввести такую мелодию в оперу «Орфей и Эвридика» – не удалось. А ведь Евстигней, хоть и сквозь плотное снежное марево, а предчувствует скорую свою смерть…
Окрылясь надеждой, посылает он купить «Собрание народных русских песен с их голосами» Ивана Прача (а по-настоящему – Яна Богумира, обрусевшего чеха, страшно высоко Евстигнеем ценимого). В этом «Собрании» думает он отыскать несколько песен, «раздвинув границы коих», можно создать подходящее случаю либретто!
Но не одни лишь оперные страсти терзают сочинителя музыки. Еще сильней терзает его неразделенная любовь.
Акт второй
Тихий вечер на одной из петербургских улиц близ Адмиралтейства. Евстигней – у клавикордов. Вяловато и не слишком уверенно прикасаясь к инструменту, он сочиняет.
Неожиданно влетает мысль: испросив отпуск в Придворном театре, скакать в Москву, оттуда в Тамбов!
Через день-другой все готово к дороге. Радостный и даже помолодевший сочинитель вновь садится за клавикорды. Аккорд, еще аккорд – и потекла небывалая, вполне европейская, а в то же время и абсолютно русская музыка!
Вдруг, безо всякого доклада, к Евстигнею входит богато одетая дама в меховой накидке, в полумаске.
– Синьор Эусигнео Фомини? Прошу вас следовать за мной…
Дама обещает свести Евстигнея с настоящим, ловким и увертливым, приносящим неслыханную удачу либреттистом.
– Он вам, господин капельмейстер, всенепременно поможет. Только… Вы уж не обессудьте… Черненький, да и с шерстинкой он. Именно так. Может, оно и не слишком усладительно… Однако ж уразумейте наконец, синьор Фомини: один только Черный Либреттист вам теперь помочь и способен!
Лига либреттистов
Наутро Натанчик прислал новое письмо:
«Обожаемая! Кой-что изменилось. Не сегодня – завтра, завтра у Думы! А уж сегодня как и быть без вас – не ведаю. Но именно на следующий день! Завтра! И в то же, прошу иметь в виду, обожаемая, время: в 11.30!
Нат. Грим.»
– Ну, завтра так завтра.
Вся суббота, правда, шла при этом насмарку. Чтобы ни о чем не думать, ничем не завлекаться, Воля снова завалилась спать. «Хоть высплюсь впрок, – бормотала она, – хоть отосплюсь, как эта… как…»
Проснулась она поздно: день зимний, день короткий тихо гас. За окном пугливо вздрагивал стыло-серый московский кисель.