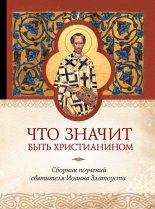Кто по тебе плачет Дружков Юрий

Блёклое небо, чистое, успокоенное, доброе, чуть голубело над лесным берегом.
Вот он, берег! А там люди, живые люди, в сухих надёжных домах почта и телефон, и билеты в надёжный уютный скорый поезд. И постель, где можно будет вытянуться, уснуть и забыть, отвести немного от сдавленного сердца мучительный озноб.
А вода была на удивление тёплой, как в жаркий день. Я направился к берегу и вдруг увидел плывущего неподалёку человека.
– Эй! – крикнул я. – Э-эй!
Пловец не ответил. Но, кажется, повернул в мою сторону, плавно покачиваясь на воде, не погружаясь и не поднимаясь от взмаха рук. Ещё на расстоянии, совсем не различая, кто плывёт вместе со мной, вдруг я подумал, заметил, почувствовал, мне показалось: человек этот плачет судорожно и горько. Плачет на воде, вдали от берега. Потом я разглядел такое, что ледяными судорогами прошло по всему телу. Маленький детский, такой знакомый голубой шар, охваченный крепко человеческими руками.
Я поплыл сильнее, резче, поплыл туда, где пятнышком синел на блёклой воде кружок.
Это была женщина, та самая вроде бы не красавица, которую мой сосед назвал мамой мальчика. Она дрожала в тёплой воде, губы кривились по-детски. Мокрые волосы плыли, текли по её лицу и плечам. А руки обнимали невесомую прозрачную щемящую голубизну.
– Девочка, – сказал я сдавленно, – деточка… не надо… не плачь…
Кажется, я говорил и про то, что берег ещё далеко, силы стоит беречь. И про волосы, которые надо отлепить от глаз. Мы плыли рядом. Я почти нёс её, такую же невесомую, как этот маленький упругий поплавок. Но довольно скоро почувствовал, как обманчива её невесомость и сколько надо усилий, чтобы нести на руке ослабевшую женщину.
Она заметила, как мне трудно, волной ушла, качнулась от моей руки.
– Он двоих удержит… возьмись тут… я больше не буду реветь, – всхлипывала она.
Мы плыли к берегу. Подул ветер. Но свежесть воды сменилась вдруг едким запахом керосина. Левее нас по глади озера змеились радужные полосы, блики, сплетенья, круги.
Я увлёк её в сторону, как можно дальше от липкой настигающей мёртвой радуги.
На берегу она попросила меня уйти от неё за деревья и не возвращаться, пока все наши нитки до последней не высохнут на солнце. Я пошёл в лес. Он поднимался круто, упруго, дерево за деревом, на большую гору или сопку, так, наверное, здесь их называют. Ноги в мокрых носках больно кололись о такую неудобную для хождения лесную землю. Всё-таки я пожалел носки, снял их, потопал босым, осторожно переступая, чтобы не попасть на какую-нибудь уж очень злую колючку или корень, отыскивая глазами открытую для солнца прогалину.
Лес оборвался неожиданно. На мягкой лесной поляне деревья склонились, поникли в одну сторону, вниз к воде. Спутанные кроны далеко наверху, от самой вершины сопки, падали к озеру точно смятые, срубленные в одну прямую линию, чётким провалом в зелёной свежести леса. Покорёженная, свёрнутая, как фольга, блестела в них обшивка самолёта. Сломанные руки ветвей держали, несли по этой последней дороге пожухлый металл, остатки металла, ужас, крики, мою неутихающую боль.
А внизу, в конце жуткой просеки плыла по озеру, тянулась душная керосиновая магия. Мёртвая в тусклых пунцовых бликах вода на живой озёрной воде.
Я упал на траву и долго лежал мокрый, утопая лицом, руками, телом в мятном дремотном лесном благе.
Потом я выложил из карманов куртки всё, что в них было, выкручивал одежду и развешивал её на ветках. И спал абсолютно голый всё на той же благословенной траве. Потом проснулся от мерного и громкого тиканья. Рядом со мной в траве лежал мокрый паспорт, с мокрой вложенной в него командировкой, бумажник с мокрыми деньгами, расчёска, платок, связка ключей с брелоком вроде ножичка, смешная картинка, нарисованная моим сорви-мальчуганом, сухая, потому что, в один прекрасный день я запечатал её в целлофан и всегда брал в дорогу, сухие водонепроницаемые противоударные часы. Но тикали не они. Их не было слышно. Тикал маленький чёрный прибор, оставленный погибшим японцем. Тикал резко и внятно.
Чёрт бы её побрал, эту коробку! Она щёлкала ритмично и ровно, как моё, в конце концов, не очень могучее, совсем не спокойное сердце. Я больше так не могу. Невыносимо для меня. Много в один-единственный день… Как её понимать? Всё вокруг: и лес, и трава, и мятный воздух, и руки мои, глаза мои, тело моё – пропитаны невидимой погибелью?.. Но когда? Сколько минут или дней у меня осталось?..
Между тем я чувствовал, как сон освежил меня. Лес по-прежнему звучал вокруг живыми голосами. Я довольно крепко стоял на земле, очень по-земному хотелось есть. Я видел и слышал, дышал и думал: я жив, я крепок. И не хочу знать никакой радиации. Важнее теперь сочинить приблизительные хотя бы шлёпанцы. Наши ботинки утонули. А придётся, кто знает, сколько шагать по этому лесу, пока не встретишь людей, пока не придут они сюда…
Посмотрел бы кто-нибудь на меня, когда я голым неандертальцем шныряя по лесу, отыскивал подходящее дерево. Лапти, конечно, лапти… Сколько лет я живу на земле, исходил, изъездил её, истоптал груду ботинок, не помышляя о том, что когда-нибудь мне придётся натужно вспоминать, как делают эти необыкновенные лапти.
Моя покойная бабушка у себя в деревне очень хорошо плела корзины и лапти. Когда маленьким ребёнком я бывал у неё летом, она просила меня подавать ей вымоченные прутья для корзин или такие же лыки, берёзовую кору, если она приступала к плетению смешной обуви, которая мне казалась чем-то несерьёзным, игрушечно-театральным, чем взрослые люди могут заниматься только для забавы.
– Подай-ка мне эти розги, – смеялась бабушка, пробуя на изгиб, выпрямляя прутья. – Чтобы никому не досталось, мы их сплетём, сплетём…
Я помню, как она перехватывала, как заплетала одну лыковую полоску за другую, как выводила носок и скручивала подвязки, упрямо не желая заменить их обыкновенной верёвочкой или шнурком для ботинок. Я очень хорошо это помню. Я очень плохо помню, как, собственно, и куда, с какого зачина вела она свои волшебные плети. Но теперь я думал, что мне без лаптей не обойтись.
Какое благо, что в эту минуту я не приглядывался к лесу, не понимал буйной дикости никем не топтаной травы, необитаемой лесной бесконечности. Мне показалась бы тогда бесполезной любая попытка выйти к людям.
Я нашёл её, старую павшую берёзу, на которой жухлая кора отслаивалась, как мешковина, и даже трава кое-где вплеталась в неё зелёными стрелами. Нашёл недалеко, почти совсем рядом от поляны, сбегал за моим ножичком на брелоке, неудобным и непослушным, и кое-как нарезал на мягких слоистых боках дерева рыжие полоски. Потом выбрал подходящий, очень отдалённо похожий на сапожную колодку сук, убрал, отскрёб от него мешающие мне загогульки, чтобы сплести на нём подобие лаптей.
Оно получилось рыхлое, вздутое, почти бесформенное подобие – лыковые шлёпанцы на любой размер. Окутал ими ноги, примерил на ходу. Если вокруг обмотать кручёной подвязкой – топать можно.
Затем я сплёл ещё одни лапти. Вторые получились, как мне показалось, почти элегантными. Одежда моя к тому времени высохла, можно было вернуться к берегу, туда, где осталась моя вроде бы не красавица.
Но там её не было.
День близился к вечеру. Тёмной стеной по самую воду стоял вокруг неподвижный глухой лес, окружая не только воду, но и меня, одного меня. Её рядом не было. Сквозь тёплую сухую одежду проник жутковатый вечерний холод одиночества. Я наклонился над водой, пытаясь не знаю что увидеть на светлом песчаном дне.
– Э-эей! – заорал я.
– Э-гэ-гэ-гэй! – прокатилось вокруг невероятное, никогда мною раньше не слышимое, долгое, с перекатом эхо.
– Что ты кричишь? – сказал кто-то совсем тихо.
Я оглянулся. Теперь она была рядом. Сухая, в джинсах, в курточке. В руке у неё кулёк из лопуха, полный земляники, протянула мне. Вкусней земляники в мире нет! Я сглотнул все ягоды в один миг и только потом увидел, как розовы её губы. Но всё равно поёжился от моей бестактности.
– Какие у тебя роскошные лапти! – сказала она.
– Твои не хуже, вот примерь. – Я подал ей пахнувшие травой, лесными грибами рыжие лапти.
– Спасибо, я этого никогда не забуду…
Потом она спросила, нет ли у меня расчёски. Я дал ей расчёску.
– И что мы будем делать? – сказала она, расчёсывая непослушные волосы.
– Подождём у воды. Кто-нибудь слышал паденье самолёта, придёт к озеру. Мы увидим. Нас увидят. Необитаемых озёр не бывает.
– А если никто не слышал?
– Самолёт начнут искать. Наверное, знают, где случилось… Пошлют вертолёт, найдут поваленные деревья, найдут и нас… Ты не беспокойся.
– Их уже никто не найдёт, – сказала она тихо.
– Почему же?.. Да… верно…
И мы замолчали надолго, боясь говорить о них, боясь вызвать в памяти чей-нибудь последний взгляд, крик, движение, боль.
Первой очнулась она:
– Самое главное забыла тебе сказать. Пойдём, покажу.
Подвела меня к дереву, на котором была вырезана до белой почти свежей основы прямая стрелка и знаки: 161 км.
– Сто шестьдесят один километр! – совсем не удивился я. – Не так уж далеко. Там люди, жильё, станция, лесопилка, что-нибудь.
– Надо спешить к ним. – Жест её был нетерпелив и решителен.
– Разумней подождать, – успокоил я. – Сами придут к месту аварии. Вот увидишь, придут. Наверное, в озере видно… если сверху…
Женщина вздрогнула от моих неосторожных слов.
– Ночью будет холодно, – поёжилась она. – У тебя нет случайно?..
– Их у меня просто не было, – догадался я, про что меня спрашивают. – Никогда не было спичек и зажигалки.
– Да, – кивнула она, – помогла бы зажигалка… не промокла…
Становилось очень прохладно, и хороший костёр виделся нам обоим как наяву. К тому же начали зудеть комары, а с ними у меня давняя паническая несовместимость.
– Я сделаю что-нибудь вроде шалаша, – придумал я, не очень представляя, как делают их, эти шалаши. Тем более, когда нет под рукой ни топора, ни стоящего ножа.
Мы ломали сухие ветки. Я соединял их, как мог, в одну пирамидку. Потом обкладывали шаткий неумелый каркас еловой бахромой, густо и щедро, вдоль и поперёк, и снова поперёк и вдоль, оставляя только лишь узкий, чуть ли не комариный лаз. Пока мы работали, вокруг стемнело. Мягкий туман поплыл от озера на берег, выделив самые ближние чёрные стволы, делая зыбким всё остальное: деревья, лесные звуки, наши голоса.
– Подожди, – сказала она и потянулась рукой в туман, к ветке над головой, сняла упругий детский шарик, незаметный в сумерках, развязала шнурок. Мягко взяла игрушку в обе ладони. Шарик вздохнул тихонько и обмяк, совсем крошечный в её руках. Она положила его себе за кофточку, на грудь…
Мы устроились в пахучем еловом логове, завалив себя от комаров, тумана, шороха воды, усталости, щемящей, как боль, тревоги.
– Зачем ты себя так? – спросил я в темноте.
– Не понимаю…
– Шарик?
– Он со мной будет всегда.
– Прости…
В лесу протяжно крикнула, наверное, птица, незнакомо, непонятно.
– Видела в Москве толпу возле сбитого ребёнка, – услышал я прерывистый голос. – Машина… грузовик… Одна прохожая старушка мне сказала: горе какое, чьё-то солнышко погасло…
Кажется, я видел в темноте, как она ладонями вытирает слёзы.
На другой день мы собирали ягоды, лежали на солнце, смотрели в ясное неоглядное небо, ловя в каждом потрескивании леса шум вертолёта. Но летели к нам лишь одинокие редкие совсем слабые тучки.
На дереве сохли сморщенными осенними листьями деньги, нанизанные, как шашлык, на тонкий прут, сох похожий на лохмотья паспорт. Сушёный паспорт и сушёные деньги напоминали о дальней желанной дороге.
Очень хотелось есть. Пить не хотелось, помогли ягоды. Мы, не сговариваясь, к воде не подходили ни умываться, ни пить. Пока не подходили…
Погода была великолепная. Можно загорать. Но мы томились таким ожиданьем встречи с людьми, казалось, вот-вот над крайним огромным деревом появится вертолёт, или чуть в стороне, там, где заросли поднимаются в гору, выплывет он, стрекоча над верхушками ёлок, и увидит нас. А нам останется только побежать, размахивая руками, и закричать:
– Вот мы где! Подберите нас…
Разве можно для такой минуты быть в пляжном виде? Они примут нас за бездельников-курортников и пролетят мимо. Страшное слово: мимо.
К тому же, в самой середине озера неподвижно и мёртво синело извилистое пятно.
Кажется, мы оба старались ничего не говорить о том, что связано с этими жуткими разводами на светлой воде, о том, что вдруг объединило нас двоих, незнакомых друг другу людей. Незаметно для себя мы стали разговаривать на «ты».
– Твой пиджак надо повесить и выпрямить, – сказала она. – После воды он жёванный. Дай-ка мне его. Ты не так сушил.
И растянула мой пиджак на дереве, обрызгав ткань озёрной водой.
– Что у тебя щёлкает?
Она вынула из кармана прибор, послушала, как он постукивает, подала мне.
– Положи на траву, – попросил я и тут же соврал. – Сам не знаю… человек оставил… японец…
Она положила на землю, туда, где сновали, спешили, суетились резвые муравьи.
Бегут, подумал я, бегут, усами шевелят, наскакивают на своих. Маленькие, но какие волокут грузы. Бегут и бегут, не признавая радиации. Он щёлкает, они бегут… А если ножки откинут?.. Когда? Сегодня? Завтра? Через неделю?.. Он щёлкает и щёлкает. Но муравьи бегут! И птицы на разные голоса, почти над нами, рядом, около, всюду, живые птицы, живые муравьи, букашки, трава, деревья, мы сами, наконец… Будь он трижды неладен… щёлкает и щёлкает…
– Извини.
Я положил в карман брюк эту коробку, подальше от весёлых неугомонных лесных муравьёв, и начал искать среди веток прямые суки для двух дорожных палок. Надо было придумать себе хоть какое-нибудь серьёзное дело.
Я срезал, вернее, соскрёб с дерева две крепкие палки – два посоха или оружие от неизвестно каких зверей.
Очень хотелось есть.
Но вертолёты вот-вот поплывут над нашими головами, разгоняя ветром листья, воду и никем, никогда не спутанные высокие травы.
– Как нам повезло, – вдруг нарушила она горький наш молчаливый обет. – Всю жизнь воды боялась, а тут вода спасла… Ударила, как бешеная… Без памяти была совсем. А если бы ремни пристегнула?..
– Мне тоже не хватило времени пристегнуться.
– Как я хочу домой, – сказала она. – Черти понесли меня в эту командировку. Сибири никогда не видела. Свет поглядеть… Больше ничего не хочу.
Неправда, подумал я, ты хочешь есть. Но разве можно представить себе, как ловить рыбу, искать её в этом озере? Да и чем ловить? И огня у нас тоже нет.
В полдень я по тонкому прутику, воткнутому в землю, по тени от него и моим часам определил точное время, нашёл север и юг. Всплыли-таки бесполезно до сих пор таившиеся где-то школьные знания. Определил, куда показывает стрелка на дереве. Почти на юг, на пять минут правее…
Ночью мы снова прятались в еловом шалаше. Туда не хотели забираться едкие злые комары. Смолистый дурман успокаивал, усыплял, но теперь я слышал все ночные звуки леса, хрипы, шелест, пересвисты, бульканье, хлопанье крыльев.
– Два дня и две ночи никто не летит, – шёпотом сказала она. – Совсем никто. Как же так? Совсем никто… Позвонить обещала, не звоню…
– Кому звонить?
– Маленькой дочке, мужу… Сначала подумают, забыла, как всегда, не торопится… – Она горько вздохнула. – Потом скажут им… Что им скажут, а?
– Не плачь… Вынужденная посадка… Идут поиски…
– Я часто про них забывала… Простить себе не могу… дела, поездки… приехала… доездилась…
– Но, зато, сколько радости будет.
– Я тоже другой буду… Скорей бы домой…
Утром она всё-таки наклонилась к воде умыться и пошатнулась неосторожно. Я подхватил её. Правда, у берега было совсем не глубоко.
– Уйдём отсюда, – нервно сказала она. – Я не могу ждать. Уйдём.
– Почему?
– Посмотри… нет, не туда. – Она подняла руку. – Посмотри…
На воде качался маленький ботинок с поднятой кверху дужкой-ремешком. Плыл одиноко печальный кораблик, не зная, в какую сторону плыть, где его ждут, зовут – не дозовутся…
– Правда, мы пойдём? – Голос её становился умоляющим.
– Да, – сказал я. – Уже утро. Самое время походов. У нас есть отличные два посоха. Мы идём…
Так отправились мы в очень дальнюю трудную дорогу.
Помню, я никогда не мог без утомления до конца читать книги, в которых люди куда-нибудь шли, добирались, пробирались, хотели дойти, доходили или не доходили. Одна страница сменяла другую, а человек шёл и шёл, через пустыню или дремучий лес, равнину или горы, по снегу или горячему песку. Меня сильнее волновали короткие дневниковые записи подлинных путешественников, иногда страшные своей краткостью.
Казалось, о чём говорить? Ну, шёл несколько дней, голодал, болел от жажды, тосковал, мучился. Но это страница или две. Дошёл, в конце концов. Так и скажи: дорога была тяжкой. Но книги подобной краткости не хотели. День за днём, шаг за шагом описывали они хожденья путников, смакуя все мелкие детали, а то и прибавляя, как по следу неотступно и страшно идёт за человеком такой же одинокий голодный волк. Долго идёт, очень долго и поэтому нудно. Простят меня классики: я пропускал эти страницы, где дотошная подробность переходила в тягостное многословие. Я уставал от них и с раздражением переворачивал, торопясь увидеть конец.
А теперь не было у нас такой благодатной возможности перевернуть страницу, вычеркнуть хотя бы один тягостный день. Увидеть окончание нашей усталости, голода и тревоги.
То, что виделось в книгах и никогда не могло, не смело, не грозилось быть наяву, пришло ко мне, городскому жителю так ощутимо, реально, так тяжко, и невыносимо, как не дай бог никому.
Страшно стало на пятый день. А сначала мы шли, надеясь на очень скорую встречу с каким-нибудь весёлым и бородатым лесным жителем, с охотником или геологом, с бабушкой, обирающей кусты малины, с кем угодно, лишь бы не было вокруг монотонности чёрных стволов и непроглядной лесной бесконечности.
Надо было поднимать ноги, чтобы трава не опутывала их, не валила наземь. Опускать их в ту же траву и снова переступать её, опираясь на палку. Шаг, другой, третий, четвёртый, сотый…
Она шла следом за мной, молча, терпеливо, не жалуясь, не торопя.
Мы очень боялись потерять направление, поэтому каждую сотню шагов останавливались, я по часам и солнцу намечал вперёди какой-нибудь заметный ствол, и двигались к нему, продираясь в мохнатой непролазной траве до нужного дерева, и там я снова подставлял солнцу мои такие необходимые теперь часы. Как и положено, до полудня справа от стрелки, потом левее от неё. Прямо на юг, на четыре минуты правее, всего на четыре минуты.
Наверное, каждый день мы шли не больше двадцати километров, пока видно было солнце. Без него мы никуда не двигались. Будто по лесу вела, тянулась невидимая слабая ниточка-паутинка, уйти от которой на шаг в сторону – гибельно и невозможно. Пугала зыбкая условность этой придуманной линии-ниточки, невозможность проверить её не таким, казалось, ненадёжным способом.
Наверное, лес вокруг был очень красив. Я не видел его, не слышал пения птиц, один шорох цепкой травы, один шорох и шорох…
Поднять ногу, опустить, поднять, опустить.
Колючие зелёные кузнечики прыгали в траве, как пружинки разлетаясь в разные стороны.
Живые, думал я про них. Зелёные, как живая зелёная трава. Ну почему ты щёлкаешь, проклятый коробок? Щёлкает и щёлкает, а птицы поют. И кузнечики прыгают, а мы идём, и нет конца нашей лесной дороге.
– Жалко, мы с тобой не ловили рыбу, – вздохнула она.
– Чем ловить?
– Моей курточкой.
– А ты могла бы есть не жареную?
– Завтра, по-моему, смогу… сырую, дохлую…
– Жареные грибы ничуть не хуже.
– Давай добудем огонь трением.
– Глупости… время терять.
– А жаль. От ягод у меня оскомина.
– В книгах путники брали два стёклышка от старинных карманных часов, складывали их, получалось увеличительное стекло. Им поджигали сухую траву.
– Одним стеклом нельзя?
– Наверное, нет. И часы надо беречь…
Мы остановились у намеченного дерева. Я снял с руки часы, чтобы снова проделать уже надоевшие замеры, чтобы найти очередной путеводный ствол.
– Береги, я в тебя очень верю, – сказала она.
К этой минуте я уже знал, как её зовут, но в моём дневнике имени её не будет, как, впрочем, никаких имён, кроме случайных, отдалённых или незаменимых.
Никому из тех, кто нам дорог, воспоминания не должны принести боли.
Над головой прыснула рыжим листиком белка, смешной с виду, очень добрый зверёк. Она покачивалась над нами, ни капельки не боясь. Я протянул руку. Белочка мягко изогнулась, шевеля губами, яркая, весёлая, живая.
А съедобны ли белки? Вдруг подумал я и поспешил опустить руку. Ведь она живая, как всё вокруг: птицы, муравьи, кузнечики. Так почему до сих пор щёлкает у меня в левом кармане, если всё кругом такое весёлое, певучее, рыжее, зелёное? Щёлкает и щёлкает.
– Я чувствую, тебя раздражает. Я чувствую…
– Кто?
– Щёлкатель.
– Почему?
– Ты всё время хлопаешь себя по левому карману. Я слышу, как он щёлкает. Выброси.
– Нет… не могу…
В ту ночь мы долго пытались уснуть на мягкой траве, не было сил делать шалаш. И трава казалась вечером уютной, мягкой, сонной, тёплой. Но только потемнело в лесу – от неё пошёл такой холод. И влажный туман, и лютые комары – всё таилось в траве, ожидая нас двоих, измученных и голодных. Если бы мы не появились в этом лесу, кого, хотел бы я знать, ело поедом, кусало, жевало свирепое комарьё? А если некого было кусать, почему все они раньше не передохли?
Передохли? Но ведь они живые. Гудят и зудят, а он щёлкает… И пускай себе щёлкает. Они зудят и кусаются, наглые, живые…
Мы бегали, чтобы согреться, прыгали, кричали на весь ночной лес дикие песни, то ли для тепла, то ли для того, чтобы спугнуть подальше от себя таинственные лесные тени, плывущие к нам отовсюду. Лес не шумел, не двигался. Ветер не качал деревья. Кругом неподвижность и холод, и мокрый туман.
Мы уснули, когда поднялось, наконец, горячее солнце, уснули в дремотной мягкой траве, потеряв половину дня из нашей солнечной дороги.
Вечером она собирала ягоды, а я думал о ночлеге, ходил вокруг, выискивая что-нибудь путное. Путное не находилось… Лапы сосен и ёлок всюду начинались высоко над головами.
Я что-то не видел или не помню таких ёлок, если это ёлки. Тут был какой-то удивительный могучий лес. Ни одного тонкого ствола, ни одной близкой ветки. Словно выросло всё одновременно, махом, крепкое, статное, хвойное. Выросло, не давая взойти молоденьким деревцам, никакой другой зелёной поросли. Будто не было тут никогда семян и шишек. Или ветром их уносило, сдувало куда-нибудь в сторону, или белки съедали весь урожай. Но я не мог ничего найти для шалаша. Даже трава почти не росла там, где мы остановились. Под ногами упругая насыпь жёлтой многолетней хвои. Моя палка вязла в ней, как в лежалой соломе.
В одном углублении под соснами хвоя поднималась колючим холмиком. Я стал разбрасывать её палкой, сначала так, от раздражения, потом сознательно, пытаясь выгрести подобие берлоги, просто ямы…
У меня вышла довольно приблизительная берлога или окопчик.
– Ты нашёл клад? – Она подошла ко мне, когда в лесу почти стемнело.
– Дороже клада. Берлогу для ночлега.
– Ты серьёзно?
– Вполне.
– А для меня?
– Для нас двоих. Больше в гостинице нет мест…
Мы легли в сухую пружинистую хвою рядом, тесно. Дальше некуда было подвинуться. Как мог, палкой сдвинул хвою на себя, на неё, с двух сторон, завалил до самых макушек. Палку, на всякий случай, положил поблизости. Но если подойдёт во мраке ночи, подумал я, какой-нибудь зверь, я не сумею проснуться. Не смогу. Такая свалилась на меня хвойная, мягкая усталость.
Муравей побежал по моей руке. Прогнать, шевельнуться не было сил. Живой, подумал я, до сих пор живой. Пускай щекочет, бегает, резвится.
Она лежала тихо. Я не слышал её дыханья, не улавливал движений. Хвоя стекала, сыпалась от сосен. Мне было невыразимо тепло. Впервые за последние тяжкие дни тревога ушла от меня. Усталость, неведомо как плыла, таяла, уходила в нежное, зыбкое, тёплое. Всюду вокруг одно только это мягкое, нежное, доброе, чему названия, кажется, нет. Одно только это.
Мне, взрослому, совсем не слабому человеку, так упоительно хорошо было давным-давно, когда я не мог ещё стать взрослым, у моей мамы. От неё самой, от нежности, от её рук и тепла.
Мы шли целый день, останавливаясь только для проверки невидимой, как след ножа на воде, линии-дороги. Тайга (пора привыкнуть к этому слову) всё-таки больше походила на чистый, хорошо проветренный, сухой лес. Трава не мешала нам, она едва пробивалась через опавшую плотную хвою. Нас окружали деревья, похожие на сосны, какие – не знаю: прямые, высокие с бронзовой корой, с иглами длинными, настоящей колючей бахромой на тугих ветках. Моя память подсказывала мне подходящие названия: кедр, пихта, лиственница, туя, можжевельник, багульник… Ну что там ещё бывает? Кедры? Пускай будут кедры. Лишь бы скорей дойти.
Чего для нас было много, до хмельной сытости, так это воздуха, почти горького на вкус, густо-зелёного, крепкого пьяной свежестью.
Мы торопились. Наши лапти уже висели клочьями. Будь перед нами видимая цель, кажется, бежали бы к ней сломя голову. Но вперёди алели на солнце бесконечные стволы. Очень много стволов. Один за другим, один за другим, один за другим, один за другим, один за другим…
Но где же последний?
Вечером она увидела огромное дупло невысоко над землёй, опустилась в него, как в деревянное кресло.
– Больше не могу. Прости меня. Лапы не идут.
Она сняла с ног то, что совсем недавно было моей гордостью, закрыла глаза, обняв руками сама себя. Я лёг у дерева под зелёным дымчатым окном в синее к вечеру небо. Лежать бы так и лежать. Будь они прокляты все на свете земные расстояния.
– Ой! – вскрикнула она вдруг. – Я нашла! Погляди! В дупле ещё дупло.
В руке у неё была сухая шишка.
– Их тут много!..
Я сел рядом с ней, открыл ножичек-брелок и стал выковыривать им из этой шишки горошины-орехи…
От губ её шёл ореховый аромат, белые зубы хрустели орешками, волосы вперемежку с хвойными иглами, совсем девичьи смуглые босые ноги – всё это, наверное, было привлекательно для постороннего взгляда: меня обожгло колючей неотвратимой жалостью к ней, так по-детски протягивала она ладошку…
Орехов, а точнее шишек, было двадцать семь. Таёжная загадка. Если кругом на земле всё подобрано лесными жителями, расклёвано птицами, как могли остаться прошлогодние шишки в дупле? Разве что беличий хвостик, прилипший к ветке, печальная суть нашего клада?
Я ковырял их ножом и кормил одичавшую лесовичку, вдыхая с наслаждением незнакомый лесной привкус.
– А ты? – возмутилась, отодвинула она мою руку…
Кажется, первый раз мы были почти сыты. Первый за тысячу дней. Правда, я долго не мог приучить себя жевать одну мякоть и от жадности крушил её вместе с корочками до боли в зубах.
– А теперь чего тебе хочется, лесная кикимора? – попробовал пошутить я.
– Тёплую ванну, телевизор и мягкое кресло, – засмеялась она.
– Ты веришь сказкам?
– Очень…
– А я нет.
– Одичал в лесу. Тёмным скоро станешь, как дупло. Мы с тобой так одиноки.
– Ну и что, беда какая? Многих полезно было бы на время хотя бы окунуть в одиночество.
Она снова засмеялась:
– В тюрягу?
– Будто без тюряги нет одиночества.
– Но зачем?!
– А чтобы однажды поняли, какое благо жить среди людей, называть кого-то близким, родным. Не каждый достоин быть не одиноким.
– Философ, – не то с иронией, не то с грустью сказала женщина, и мне расхотелось о чём-либо говорить.
Спали мы, сидя в этом дупле, как в большом деревянном кресле, жёстком и неудобном. Комары около нас больше не летали.
На другой день жадно хотелось пить, невыносимо хотелось воды. Мы ели ягодную свежесть, много ягод и всё же очень хотелось хлебнуть обыкновенной воды.
– Куда мы попали? Это не Сибирь, такая жара, – вздохнула она.
– Только днём жара. Ночью ты плачешь во сне от холода. И деревья тут вполне сибирские.
– Разве я плачу?
– Стонешь.
– Извини… Хоть бы дождь пошёл.