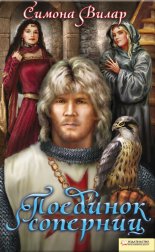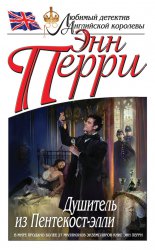Смысл икон Успенский Леонид

Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви ИС 12-217-1529
Предание и предания
В. Н. Лосский
Предание (, traditio) – один из терминов, у которого так много значений, что он рискует и вовсе утерять свой первоначальный смысл. И это не только следствие секуляризации, обесценившей столько слов богословского словаря – «духовность», «мистика», «причастие» – путем вырывания их из присущего им христианского контекста и превращения через это в выражения обыденной речи. Слово «предание» подверглось той же участи еще и потому, что в самом богословском языке этот термин остается несколько расплывчатым[1]. Действительно, чтобы не суживать само понятие предания, устраняя некоторые значения, которые оно могло приобрести, и сохранить все смыслы, нам приходится прибегать к определениям, охватывающим сразу слишком многое, отчего и ускользает подлинный смысл собственно «Предания». При уточнении его приходится дробить слишком многозначащее содержание и создавать ряд суженных понятий, сумма которых отнюдь не выражает ту живую реальность, которая именуется Преданием Церкви. Читая ученый труд отца о. Августа Денеффа «Понятие Предания»[2], спрашиваешь себя, подлежит ли вообще предание определению или же – как все, что есть «жизнь», – оно «превосходит всякий ум» и было бы вернее не определять его, а описывать. У некоторых богословов эпохи романтизма – как Мёлер в Германии или Хомяков в России – можно найти прекрасные страницы с описанием предания, представленного как некая вселенская полнота, неотличимая, однако, от единства, кафоличности («соборности» Хомякова), апостоличности или сознания Церкви, обладающей непосредственной достоверностью Богооткровенной Истины.
В этих описаниях, в общих своих чертах верных образу Предания у отцов первых веков, мы легко узнаем характер «плиромы»[3], свойственной преданию Церкви, но тем не менее нельзя отказываться от необходимости различения, обязательного для всякого догматического богословия. Различать – не всегда означает разделять и тем более – противопоставлять. Противопоставляя Предание и Священное Писание как два источника Откровения, полемисты Контрреформации заняли ту же позицию, что и их противники протестанты, молчаливо признав в Предании реальность, отличную от Писания. Вместо того чтобы быть самой [4] Священных книг, глубинной связью, идущей от живого дыхания, пронизывающего их и преображающего букву в «единое тело Истины», Предание оказывалось чем-то добавленным, чем-то внешним по отношению к Писанию. С этого момента святоотеческие тексты, исходившие из «плиромы», свойственной Священному Писанию, становятся непонятными[5], а протестантская доктрина «достаточности Писания» приобретает отрицательный смысл, поскольку исключает все, что от «предания». Защитникам Предания пришлось доказывать необходимость соединения двух противопоставленных друг другу реальностей, ибо каждая из них, взятая в отдельности, оказывалась неполноценной. Отсюда возник целый ряд таких ложных проблем, как первенство Писания или Предания, их авторитетность по отношению друг к другу, частичное или полное различие их содержания и т. д. Как доказать необходимость познания Писания в Предании? Как вновь обрести их неопознанное в этом разделении единство? И если обе они суть «полнота», то невозможно говорить о двух противопоставленных друг другу «плиромах» как только о двух различных способах выражения одной и той же полноты Откровения, сообщенного Церкви.
Различение отделяющее или разделяющее всегда остается и несовершенным, и недостаточно радикальным: оно не дает ясного понятия о том, чем отличается термин неизвестный от того, который противопоставлен ему как известный. Разделение одновременно и больше и меньше различения: оно противопоставляет два отделенные друг от друга объекта, но, чтобы это стало возможным, предварительно наделяет один из них свойствами другого. В нашем случае, стремясь противопоставить Писание и Предание как два не зависимых друг от друга источника Откровения, неизбежно придется наделять Предание свойствами, характерными для Писания: оно окажется совокупностью «других писаний» или «иных ненаписанных слов» – всем тем, что Церковь может прибавить к Писанию в горизонтальном плане своей истории.
Таким образом, на одной стороне окажется Писание или канон Писаний, на другой – Предание Церкви, которое, в свою очередь, может быть подразделено на многие источники Откровения или на неравноценные loci theologici[6]: деяния Вселенских или поместных соборов, творения святых отцов, канонические установления, литургия, иконография, благочестивые обычаи и т. д. Но можно ли в таком случае все еще говорить о «Предании» и не будет ли точнее – вместе с богословами Тридентского собора – говорить о «преданиях»? Это множественное число хорошо передает то, что хотят сказать, когда, отделяя Писание от Предания, вместо того чтобы различать их, относят последнее к письменным или устным свидетельствам, прибавляемым к Священному Писанию, как бы сопровождающим его или за ним следующим. Как «время, проецируемое в пространство», препятствует постижению бергсоновской «длительности», так и эта проекция качественного понятия Предания в количественную область «преданий» больше затемняет, нежели раскрывает истинный характер Предания, независимого от каких бы то ни было определений, ограничивающих его исторически.
Мы можем приблизиться к более точному представлению о Предании, если оставим этот термин за одной только устной передачей истин веры. Разделение между Преданием и Писанием по-прежнему сохраняется, но вместо того чтобы изолировать друг от друга два источника Откровения, противопоставляются два способа его передачи: проповедь устная и письменная. Таким образом, с одной стороны, можно вычленить проповедь апостолов и их последователей, так же как и всякую проповедь, идущую от священнослужителей; с другой – Священное Писание и все другие письменные выражения Богооткровенной Истины (причем последние будут отличаться друг от друга степенью признания Церковью их авторитетности). В этом случае утверждается первенство Предания перед Писанием, поскольку устная передача апостольской проповеди предшествовала ее письменному закреплению в каноне Нового Завета. Можно даже сказать: Церковь могла бы обойтись без Писания, но никогда не смогла бы существовать без Предания. Это справедливо лишь отчасти: действительно, Церковь всегда обладает Богооткровенной Истиной, которую она обнаруживает проповедью; проповедь же могла бы оставаться только устной, именно переходя из уст в уста и никогда не закрепляясь письмом[7].
Но пока утверждается раздельность Писания и Предания, не удается радикально отличить их друг от друга: противопоставление написанных чернилами книг и произнесенных живым голосом проповедей все же остается поверхностным. В обоих случаях речь идет о проповеданном слове: «проповедь веры» служит здесь тем общим основанием, которое смягчает противопоставление. Однако не означает ли это приписывать Преданию нечто такое, что вновь будет роднить его с Писанием? Нельзя ли пойти еще дальше в поисках ясного понятия о Предании?
В том многообразии значений, которое мы можем найти у отцов первых веков, Предание иногда трактуется как учение, которое остается тайным и не разглашается во избежание профанации тайны непосвященными[8]. Это положение ясно выражено свт. Василием Великим, когда он различает понятия и [9]. «Догмат» в данном случае имеет значение, обратное тому, которое мы придаем слову термину теперь: это не торжественно провозглашенное Церковью вероучительное определение а «необнародованное и сокровенное учение (), которое отцы наши соблюдали в непытливом и скромном молчании, очень хорошо понимая, что достоуважаемость таинств охраняется молчанием»[10]. Напротив, (что на языке Нового Завета означает «проповедь») – всегда открытое провозглашение, будь то вероучительное определение[11], официальное предписание соблюдения чего-либо[12], канонический акт[13]или всенародные церковные молитвы[14]. Незаписанные и тайные предания, о которых говорит свт. Василий Великий, хотя и напоминают doctrina arcana[15]гностиков, также считавших себя последователями сокрытого апостольского предания[16], все же очень отличаются от них. Во-первых, примеры, на которые мы ссылались, указывают на то, что «мистериальные» выражения у свт. Василия ориентированы не на эзотерический кружок отдельных лиц, усовершенствовавшихся внутри христианской общины, а на все общество верных, которое участвует в таинствах церковной жизни и противостоит «непосвященным» – тем, кого оглашение должно постепенно подготовить к таинствам посвящения. Во-вторых, тайное предание () может проповедоваться открыто, т. е. становиться «проповедью» (), когда необходимость (например, борьба с какой-нибудь ересью) обязывает Церковь высказаться[17]. Итак, если полученные от апостолов предания остаются незаписанными и сокровенными, если верные не всегда знают их таинственный смысл[18], то в этом – мудрая икономия Церкви, которая открывает свои тайны лишь в той мере, в какой их явное провозглашение становится необходимостью. Здесь мы видим одну из евангельских антиномий: с одной стороны, не следует давать святыни псам и расточать бисера перед свиньями (см.: Мф. 7:6), с другой – нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано (Мф. 10:26; ср.: Лк. 12:2). «Хранимые в молчании и тайне предания», которые свт. Василий Великий противопоставляет открытой проповеди, наводят на мысль о словах, сказанных в темноте, на ухо, внутри дома, но которые при свете будут проповеданы на кровлях (Мф. 10:27; ср.: Лк. 12:3).
Это уже не противопоставление и , проповеди устной и проповеди письменной. Теперь различение между Преданием и Писанием проникает гораздо глубже – в самую суть дела, относя на одну сторону то, что охраняется в тайне и именно потому не должно закрепляться письмом, а на другую – все, что является предметом проповеди и, открыто провозглашенное однажды, впредь может быть отнесено в область «Писаний» (Графа!). Не счел ли сам свт. Василий Великий своевременным письменно раскрыть тайну некоторых «преданий», таким образом превращая их в ?[19] Это новое различение, подчеркивающее потаенный характер Предания и противопоставляющее сокровенную глубину устных учений, полученных от апостолов, тому, которое Церковь предлагает познанию всех, погружает «проповедь» в море апостольских преданий, которое невозможно ни устранить, ни игнорировать, ибо тогда пострадало бы само Евангелие. Более того, если бы мы поступили так, то «обратили бы проповедь (то ) в пустое имя», лишенное всякого смысла[20]. Предложенные свт. Василием Великим примеры этих преданий (крестное знамение, обряды, относящиеся к крещению, елеосвящение, евхаристическая эпиклеза, обычай обращаться к Востоку во время молитвы, не преклонять колен по воскресеньям и в период Пятидесятницы и т. д.) относятся к сакраментальной и литургической жизни Церкви. Если эти «не изложенные в Писании обычаи ( )», эти «не изложенные в Писании таинства Церкви ( )», столь многочисленные, что их нельзя было бы перечислить в течение целого дня[21], необходимы для понимания Писания (и вообще истинного смысла всякой «проповеди»), то несомненно, что эти сокровенные предания свидетельствуют о мистериальном характере христианского знания. Богооткровенная Истина действительно не мертвая буква, а живое Слово, к Которому можно прийти только в Церкви, войдя через «мистерии», или таинства[22], в тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его (Кол. 1:26).
Таким образом, предания, или незаписанные таинства Церкви, упомянутые свт. Василием Великим, стоят на грани собственно Предания и приоткрывают лишь некоторые его стороны. Речь идет об участии в Богооткровенной тайне благодаря посвящению в таинства. Это некое новое знание, некий «гносис Бога» ( ), получаемый нами как милость, и этот дар гносиса преподается нам в том «предании», которое для свт. Василия Великого есть исповедание Троицы во время крещения, та священная формула, которая вводит нас в свет[23]. И здесь горизонтальная линия «преданий», полученных из уст Спасителя и переданных апостолами и их преемниками, скрещивается с вертикальной линией Предания – сообщением Духа Святого, в каждом слове Богооткровенной Истины раскрывающем перед членами Церкви бесконечную перспективу тайны. От преданий, какими показывает их свт. Василий Великий, нам следует идти дальше, чтобы достичь отличного от них Предания.
Если же мы остановимся на грани неписаных и тайных преданий, не сделав последнего различения, то все еще останемся на горизонтальном уровне , на котором собственно Предание представляется нам как бы «проецированным в область Писания». Верно, что отделить эти хранимые в тайне предания от Писания или, в более широком плане, от «проповеди» невозможно, однако их всегда можно противопоставить как слова, сказанные тайно или сохраненные в молчании, словам, высказанным открыто. Дело в том, что окончательного различения мы не сможем сделать до тех пор, пока остается последний роднящий Предание и Писание элемент – слово, являющееся основой для противопоставления сокрытых преданий открытой проповеди. Для определения точного понятия о Предании, для освобождения его от всего, в чем оно проявляется на горизонтальной линии Церкви, необходимо преодолеть противопоставление слов тайных и слов, проповеданных открыто, поставив «предания» и «проповедь» в один ряд. А общим для них оказывается то, что – явные или тайные – они все же получают словесное выражение. Они всегда предполагают выражение в слове – относится ли это к словам как таковым, произнесенным или записанным, или же к немому языку, который воспринимается зрением (иконография, обрядовые жесты и т. д.). Понятое в этом общем смысле слово есть не только внешний знак, которым пользуются, обозначая то или иное понятие, но прежде всего содержание, которое разумно самоопределяется и говорит о себе воплощенно, выражаясь в произносимой речи или какой-либо иной форме внешнего проявления.
Если такова природа слова, то ничто открываемое и познаваемое не может оставаться чуждым ему. Будь то Писание, проповедь или «хранимые в молчании предания апостольские», одно и то же слово или в равной мере может относиться ко всему, что является выражением Богооткровенной Истины. Действительно, это слово постоянно встречается в святоотеческой литературе, в равной мере обозначая как Священное Писание, так и Символы веры. Так, прп. Иоанн Кассиан говорит об Антиохийском символе: «Это то сокращенное слово (breviatum verbum), которое создал Господь, заключив в немногих словах веру обоих Своих Заветов и кратко удержав в них смысл всех Писаний»[24]. Если мы также учтем, что Писание не есть совокупность слов о Боге, но Слово Божие ( ), то поймем, почему, в особенности после Оргена, появилось стремление отождествлять присутствие Божественного Логоса в Писаниях обоих Заветов с воплощением Слова, с которым все
Писание «исполнилось». Задолго до Оригена св. Игнатий Антиохийский не хотел видеть в Писаниях всего лишь исторический документ, «архив» и подтверждать Евангелие текстами Ветхого Завета; он говорит: «Но для меня древнее – Иисус Христос, непреложно древнее – Крест Его, Его Смерть и Воскресение, и вера Его (которая от Него приходит)[25]. <…> Он есть Дверь к Отцу, которою входят Авраам, Исаак и Иаков, пророки и апостолы и Церковь»[26]. Если благодаря воплощению Слова Писания – не архив Истины, а Ее живое тело, то обладать Писанием можно только лишь через Церковь – единое Тело Христово. Мы снова приходим к идее достаточности Писания. Однако теперь в этой мысли нет ничего отрицательного: она не исключает, но предполагает Церковь с ее таинствами, установлениями и учением, переданными апостолами. Эта достаточность, эта «плирома» Писания вовсе не исключает других выражений той же Истины, возникающих в Церкви (так же как полнота Христа, Главы Церкви, не исключает самой Церкви – продолжения преславного Его вочеловечения). Известно, что защитники иконопочитания обосновывали правомерность христианской иконописи фактом воплощения Слова; иконы, так же как и Писание, выражают невыразимое, и это стало возможным благодаря Богооткровению, свершившемуся в воплощении Сына. Так же можно говорить и о догматических определениях, экзегезе, литургии – о всем том, что в Церкви Христовой сопричастно той неограниченной и неущербленной полноте Слова, содержащейся в Писании. В этой «всецелостности» Воплощенного Слова все, что выражает Богооткровенную Истину, родственно Писанию, но если бы все действительно стало «писанием», тогда сам мир не вместил бы написанных книг (ср.: Ин. 21:25).
Однако если выражение трансцендентной тайны стало возможным благодаря воплощению Слова, если все то, что ее выражает, становится как бы «писанием» наряду со Священным Писанием, то где же в конечном счете Предание, которое мы ищем, последовательно очищая понятие о нем от всего, что роднит его с реально записанным?
Как мы уже говорили, Предание не следует искать на горизонтальной линии «преданий», которые, так же как и Писание, определены в Слове. Если же мы хотели бы, тем не менее, противопоставить его всему, что является реальностью Слова, то следовало бы сказать, что Предание – это Молчание. «Кто приобрел слово Иисусово, тот истинно может слышать и Его безмолвие ( )…», – говорит св. Игнатий Антиохийский[27]. Насколько мне известно, этот текст никогда не использовался в многочисленных исследованиях, изобилующих святоотеческими цитатами о Предании, всегда одними и теми же и всем хорошо известными, и никто не догадался, что тексты, в которых слово «предание» отсутствует, могут оказаться гораздо красноречивее многих других.
Способность слышать молчание Иисуса, свойственная тем, говорит св. Игнатий, кто истинно обладает Его словом, перекликается с повторяющимся призывом Христа к Своим слушателям: Если кто имеет уши слышать, да слышит! (Мк. 4:23 и др.). Таким образом, слова Откровения содержат некую область молчания, недоступную слуху «внешних». Святитель Василий Великий именно в этом смысле говорил о преданиях: «Но вид молчания – и та неясность, какую употребляет Писание, делая смысл догматов, к пользе читающих, трудным для уразумения»[28]. Это молчание неотделимо от Писания: оно передается Церковью вместе со словами Откровения как само условие их восприятия. Если оно может быть противопоставлено словам (всегда в плане горизонтальном, где они выражают Богооткровенную Истину), то это сопутствующее словам молчание никак не предполагает недостаточности или неполноты Откровения, так же как и необходимости добавлять к нему что-либо. Оно означает, что для истинного восприятия Богооткровенной тайны как полноты требуется обращение к вертикальному плану, дабы возможно было постигнуть со всеми святыми не только что есть широта и долгота Откровения, но также глубина и высота (Еф. 3:18).
Мы пришли к тому, что больше не можем ни противопоставлять Предание и Писание, ни налагать их одно на другое как две отличающиеся реальности. Однако чтобы лучше уловить их нерасторжимое единство, которое сообщает характер полноты дарованному Церкви Откровению, нам следует различать их. Если Писание и все, что Церковь может выразить написанными или произнесенными словами, образами или литургическими символами, если все это – различные способы выражать Истину, то Предание – единственный способ воспринимать ее. Мы говорим именно единственный, а не единообразный, потому что Предание в исконном своем понятии не содержит ничего формального. Оно не навязывает человеческому знанию формальных гарантий истин веры, но раскрывает их внутреннюю очевидность. Оно не содержание Откровения, но свет, открывающий его; оно не слово, но живое дуновение, позволяющее слову звучать одновременно с молчанием, из которого слово исходит[29]; оно не Истина, но сообщение Духа Истины, вне Которого невозможно познавать Истину. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым (1 Кор. 12:3). Итак, мы можем точно определить Предание, сказав, что оно есть жизнь Духа Святого в Церкви, сообщающего каждому члену Тела Христова способность слышать, воспринимать, познавать Истину в присущем ей Свете, а не в естественном свете человеческого разума. Это – тот истинный гносис, который подается действием Божественного света (…дабы просветить нас познанием славы Божией[30]. – 2 Кор. 4:6), то единственное Предание, которое не зависит ни от какой философии, ни от всего того, что живет по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу (Кол. 2:8). В этой неотделимой от христианского гносиса свободе перед лицом какой бы то ни было естественной обусловленности или исторической случайности – вся истинность, характерная для вертикальной линии Предания: и познаете истину, и истина сделает вас свободными (Ин. 8:32). Нельзя ни познать Истины, ни понять слов Откровения, не приняв Духа Святого, а где Дух Господень, там свобода (2 Кор. 3:17)[31]. Эта свобода детей Божиих, противопоставленная рабству сынов века сего, выражается в «дерзновении» (), с которым могут обращаться к Богу те, кто знает, Кому они поклоняются, ибо поклоняются они Отцу в духе и истине (Ин. 4:23, 24).
Желая различить Предание и Писание, мы постарались освободить понятие о Предании от всего, что может роднить его с любой письменной реальностью. Нам пришлось отделить его от «преданий», отнеся их вместе с Писанием и всем тем, что может служить внешним и образным выражением Истины, к той же горизонтали, для которой мы не нашли иного имени, как только Молчание. Итак, освобождая Предание от всего, что могло стать его проекцией в плане горизонтальном, нам потребовалось войти в другое измерение, чтобы достичь предела нашего анализа. В противоположность аналитическим методам, которыми начиная с Платона и Аристотеля пользуется философия и которые приводят к растворению конкретного, разбивая его на идеи или общие понятия, наш анализ привел нас в конце концов к Истине и Духу, к Слову и Духу Святому – двум различным, но нераздельным в Своем единстве Лицам, двойное домостроительство Которых, созидая Церковь, в то же время определяет характер Писания и Предания – нераздельных, но притом отличных друг от друга.
Итог нашего анализа – Воплощенное Слово и Дух Святой в Церкви как двойное условие полноты Откровения – послужит для нас поворотным пунктом, от которого следует пойти путем синтеза и определить для Предания подобающее место в конкретной реальности церковной жизни. Прежде всего мы видим домостроителное взаимодействие двух Божественных Лиц Пресвятой Троицы, посланных Отцом. С одной стороны, Духом Святым воплощается Слово от Девы Марии. С другой, последствуя воплощению Слова и Его искуплению, Дух Святой сходит на членов Церкви в Пятидесятницу. В первом случае предшествует Святой Дух, чтобы стало возможным Воплощение и Дева Мария могла зачать Сына Божия, пришедшего, чтобы стать Человеком. Роль Святого Духа здесь функциональная: Он – сила Воплощения, действительное условие принятия Слова. Во втором случае предшествует Сын, Который посылает Святого Духа, от Отца исходящего, но главенствует именно Святой Дух: Он является целью, ибо сообщается членам Тела Христова, чтобы обожить их благодатью. Следовательно, теперь роль Воплощенного Слова в свою очередь оказывается функциональной по отношению к Духу: Он – форма, так сказать, «канон» освящения, формальное условие принятия Святого Духа.
Святитель Филарет Московский говорит, что истинное и святое Предание не есть «просто видимое и словесное предание учения, правил, чиноположений, обрядов, но с сим вместе и невидимое, действительное преподаяние благодати и освящения»[32]. Хотя и существует необходимость различать то, что передано (устные и письменные предания), и тот единственный способ, которым эта передача воспринята в Духе Святом (Предание как основа христианского знания), все же эти два момента неотделимы друг от друга; отсюда и двоякое значение самого термина «предание», одновременно относящегося и к горизонтальной и к вертикальной линиям Истины, обладаемой Церковью. А потому всякая передача истин веры предполагает сообщение благодати Духа Святого. Действительно, без Духа, «глаголавшаго пророки», все то, что передано, не может быть признано Церковью за слово Истины – слово, родственное Священным Богодухновенным книгам и вместе со Священным Писанием «возглавленное» Воплощенным Словом. Это огненное
дыхание Пятидесятницы, это сообщение Духа Истины, от Отца исходящего и через Сына посылаемого, актуализирует высочайшую способность Церкви: сознание Богооткровенной Истины, суждение и различение истинного и ложного при Свете Духа Святого: Ибо угодно Святому Духу и нам (Деян. 15:28). Если Утешитель является единственным Критерием Богооткровенной Истины, открытой Воплощенным Словом, то Он также и принцип всяческого воплощения, ибо Тот же Дух Святой, Которым Дева Мария обрела возможность стать Матерью Божией, действует по отношению к слову как способный выражать Истину в разумных определениях или ощутимых образах и символах – тех свидетельствах веры, о которых надлежит судить Церкви, принадлежат ли они ее Преданию или нет.
Эти соображения необходимы нам для того, чтобы в каждом конкретном случае мы могли бы найти связь между Преданием и Богооткровенной Истиной, воспринятой и выраженной Церковью. Мы увидели, что Предание по сути своей есть не содержание Откровения, но единственный образ восприятия его, та сообщаемая Духом Святым способность, которая позволяет Церкви познавать отношение Воплощенного Слова к Отцу (высший гносис, который для отцов первых веков и есть Богословие в подлинном смысле этого слова), а также тайны Божественного домостроительства начиная от сотворения неба и земли книги Бытия вплоть до нового неба и новой земли Апокалипсиса. Возглавленная воплощением Слова история Божественного домостроительства познается через Писание обоих Заветов, возглавленных тем же Словом. Но это единство Писаний может быть понято только в Предании, в Свете Духа Святого, сообщенном членам единого Тела Христова. В глазах какого-нибудь историка религий единство Ветхозаветных книг, создававшихся в течение многих веков, написанных различными авторами, которые часто соединяли и сплавляли различные религиозные традиции, может выглядеть случайным и механичным. Их единство с книгами Нового Завета покажется ему натянутым и искусственным. Но сын Церкви узнает единое вдохновение и единый объект веры в этих разнородных писаниях, изреченных одним и тем же Духом, Который, после того как говорил устами пророков, предшествовал Слову, соделывая Деву Марию способной послужить орудием Воплощения Бога.
Только в Церкви можно осознанно распознать во всех Священных книгах единое вдохновение, ибо одна только Церковь обладает Преданием – знанием Воплощенного Слова в Духе Святом. Тот факт, что канон Новозаветных книг установлен был сравнительно поздно и с определенными колебаниями, показывает нам, что в Предании нет ничего автоматичного: оно есть условие непогрешимого сознания Церкви, но никак не механизм, который безошибочно выдавал бы знание Истины – вне и над личным сознанием людей, вне всякого их суждения и рассуждения. Значит, если Предание – это способность суждения в Свете Духа Святого, то оно побуждает тех, кто хочет познавать Истину через Предание, к непрерывным усилиям: в Предании невозможно оставаться вследствие исторической статичности, сохраняя в качестве «отеческого предания» то, что в силу привычки льстит некоей «богомольной чувствительности». Наоборот, именно подменяя такого рода «преданиями» Предание живущего в Церкви Духа Святого, мы больше всего и рискуем в конечном счете оказаться вне Тела Христова. Не следует думать, что спасительна одна лишь позиция консерватора, равно как и то, что еретики – всегда «новаторы». Если Церковь, установив канон Священного Писания, хранит его в Предании, то эта сохранность не статичная и не косная, но динамичная и сознательная – в Духе Святом, Который вновь переплавляет словеса Господня, словеса чиста, сребро разжжено, искушено земли, очищено седмерицею (Пс. 11:7). Без этого Церковь хранила бы один лишь мертвый текст, свидетельство ушедших времен, а не живое и животворящее Слово – то совершенное выражение Откровения, которым Церковь обладает независимо от существования не согласных друг с другом старых рукописей или же новых «критических изданий» Библии.
Можно сказать, что Предание представляется критическим духом Церкви. Но в противоположность «критическому духу» человеческой науки критическое суждение в Церкви отточено Святым Духом. Поэтому и сам принцип суждения здесь совершенно иной – принцип неущербленной полноты Откровения. Так, Церковь, которой надлежит исправлять неизбежные искажения священных текстов (некоторые «традиционалисты» хотят во что бы то ни стало их сохранить, порой придавая мистический смысл нелепым ошибкам переписчиков), одновременно может признать в каких-нибудь более поздних интерполяциях (как, например, в комме[33] «трех небесных свидетелей» 1-го Послания Иоанна) подлинное выражение Богооткровенной Истины. Естественно, подлинность имеет здесь совсем иной смысл, нежели в исторических дисциплинах[34].
Не только Писание, но и устные предания, полученные от апостолов, сохранены лишь в Светоносном Предании, которое раскрывает существеннейшие для Церкви подлинный их смысл и значение. Здесь более, чем где-либо, Предание действует критически, обнаруживая прежде всего свой отрицающий и исключающий аспект: оно отбрасывает негодные бабьи басни (1 Тим. 4:7), благочестиво принимаемые теми, чей «традиционализм» состоит в принятии с безграничным доверием всего, что втирается в жизнь Церкви и остается в ней в силу привычки[35]. В эпоху, когда устные апостольские предания начали закрепляться письмом, истинные и ложные предания выкристаллизовывались вместе в многочисленных апокрифах, некоторые из которых ходили по рукам под именами апостолов или других святых. Ориген говорит: «…нам небезызвестно, что многие из этих тайных писаний составлены нечестивцами, высказывающимися в высшей степени беззаконно: некоторыми из этих подделок пользуются ипифиане, а другими – последователи Василида. А потому нам следует быть разборчивыми и не принимать все тайные писания, которые ходят по рукам под именами святых, ибо некоторые из них состряпаны иудеями, возможно, для того, чтобы сокрушить истинность наших Писаний и установить ложные учения. В то же время мы не должны без разбора отбрасывать все, что может способствовать уяснению наших Писаний. Итак, величие ума состоит в том, чтобы слышать и применять следующее изречение: Все испытывайте, хорошего держитесь (1 Фес. 5:21)»[36]. Хотя слова и дела, со времен апостольских сохраненные памятью Церкви «в непытливом и скромном молчании»[37], и разглашались сочинениями инославного происхождения, эти исключенные из канона Священного Писания апокрифы все же не отбрасывались целиком. Церковь сумела извлечь из них то, что могло дополнить или проиллюстрировать события, о которых умалчивает Писание, но которые Предание считает достоверными. Таким же образом дополнения апокрифического происхождения придают окраску литургическим текстам и иконографии некоторых праздников. Но поскольку апокрифические источники могут отражать искаженные апостольские предания, они используются с рассуждением и сдержанностью. Воссозданные Преданием, эти очищенные и узаконенные элементы возвращаются Церкви как ее достояние. Такое суждение необходимо всякий раз, когда Церковь имеет дело с писаниями, выдающими себя за апостольские предания. Она отбрасывает или принимает их, не обязательно ставя перед собой вопроса относительно их исторической подлинности, но прежде всего оценивая их содержание в свете Предания. Иной раз приходилось проводить большую работу по очищению и адаптации для того, чтобы Церковь смогла воспользоваться каким-нибудь псевдоэпиграфическим творением как свидетельством своего Предания. Именно так и поступил прп. Максим Исповедник, комментируя Corpus Dionysiacum и раскрывая православный смысл этих богословских сочинений, которые были в ходу среди монофизитов под псевдонимом св. Дионисия Ареопагита, присвоенным их автором или составителем. Хотя Corpus Псевдо-Дионисия и не принадлежит к «преданию апостольскому» в собственном смысле слова, он вписывается в «святоотеческую традицию», продолжающую предание апостолов и их учеников[38]. То же самое можно сказать и о некоторых других подобных сочинениях. Что же касается устных преданий, ссылающихся на апостольский авторитет, и в особенности тех, что относятся к обычаям и установлениям, то Церковь судит о них не только по их содержанию, но и по степени их общеупотребительности.
Заметим, что формальный критерий преданий, выраженный прп. Викентием Лиринским: Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus[39], – всецело может относиться лишь к тем апостольским преданиям, которые передавались из уст в уста в течение двух или трех столетий. Уже Писание Нового Завета оказывается вне этого правила, поскольку оно не было ни «всегда», ни «везде», ни «принято всеми» до окончательного установления канона Священного Писания. И что бы ни говорили те, кто забывает первичное значение Предания и желает подменить его неким «правилом веры», формула прп. Викентия еще меньше применима к догматическим определениям Церкви. Достаточно вспомнить о том, что термин отнюдь не был «традиционным»: за немногими исключениями[40], он не употреблялся никогда, нигде и никем, разве что гностиками-валентинианами да еретиком Павлом Самосатским. Церковь обратила его в словеса чиста, сребро разжжено, искушено земли, очищено седмерицею (Пс. 11:7) в горниле Духа Святого и свободном сознании тех, кто судит через Предание, не соблазняясь никакой привычной формулой, никакой естественной склонностью плоти и крови, зачастую принимающей облик несознательной и невежественной набожности.
Динамизм Предания не допускает никакого окостенения ни в привычных формах благочестия, ни в догматических выражениях, которые обычно повторяются механически, словно магические, застрахованные авторитетом Церкви рецепты Истины. Хранить «догматическое предание» не означает быть привязанным к доктринальным формулам: быть в Предании – это хранить живую Истину в Свете Духа Святого или, вернее, быть хранимым в Истине животворной силой Предания. А сила эта – как и все, что исходит от Духа, – сохраняет в непрестанном обновлении.
«Обновлять» – не значит заменять старые выражения Истины новыми, более развернутыми и богословски лучше разработанными. Будь это так, мы должны были бы признать, что ученое христианство профессоров богословия представляет собой значительный прогресс в сравнении с «примитивной» верой учеников апостольских. В наши дни много говорят о «развитии богословия», часто не отдавая отчета в том, насколько это выражение (ставшее почти что общим местом) может быть двусмысленным. В самом деле, у некоторых современных авторов оно предполагает некую эволюционистскую концепцию истории христианской догматики. Именно в духе некоего «догматического прогресса» пытаются толковать следующее место свт. Григория Богослова: «…Ветхий Завет ясно проповедовал Отца, а не с такой ясностью Сына; Новый открыл Сына и дал указания о Божестве Духа; ныне пребывает с нами Дух, даруя нам яснейшее о Нем познание. Не безопасно было, прежде нежели исповедано Божество Отца, ясно проповедовать Сына, и прежде нежели признан Сын (выражусь несколько смело), обременять нас проповедью о Духе Святом…»[41] Но со дня Пятидесятницы «Дух среди нас», а с Ним и свет Предания, а это означает не только то, что передано (словно некий священный и безжизненный «вклад»), но и саму данную Церкви силу передачи, сопутствующую всему тому, что передается, как единственный способ принятия и обладания Откровением. Итак, единственный способ обладать Откровением в Духе Святом – это обладать им в полноте, и именно таким образом Церковь знает Истину в Предании. Если до Сошествия Духа Святого и было некое возрастание в познании Божественных тайн, некое постепенное откровение, как «свет, приходящий мало-помалу», то для Церкви это уже не так. Если и можно говорить о каком-либо развитии, то не в смысле, что познание Откровения в Церкви прогрессирует или развивается с каждым догматическим определением. Можно подвести итог всей истории вероучения с самого начала вплоть до наших дней, прочитав Энхиридион Денцингера или пятьдесят томов in folio Манси, однако наше знание Троичной тайны не станет от этого совершеннее знания отца IV века, говорившего , или доникейского отца, не произносившего это слово, или апостола Павла, которому был еще чужд даже сам термин «Троица». В каждый момент своей истории Церковь дает своим членам способность познавать Истину в той полноте, которую не может вместить мир. Именно такой способ познания живой Истины в Предании и защищает Церковь, создавая новые догматические определения.
«Знать в полноте» – не значит «обладать полнотой знания»: последнее принадлежит лишь будущему веку. Если апостол Павел говорит, что в настоящий момент он знает отчасти (1 Кор. 13:12), то это не исключает полноты, в которой он знает. И не дальнейшее догматическое развитие отменит это «знание отчасти» апостола Павла, но эсхатологическая актуализация полноты, в которой – смутно, но верно – христиане познают здесь, на земле, тайны Откровения. Знание будет отменено не потому, что оно неправильное, но потому, что его роль заключалась лишь в приобщении нас к той полноте, которая превосходит всякую способность человеческого познания. Значит, только в свете полноты мы познаем «отчасти», и всегда исходя из полноты Церковь произносит свое суждение о том, принадлежит ли ее Преданию частичное знание, выраженное в том или ином учении. Неизбежно ложным окажется всякое богословие, претендующее совершенным образом раскрыть
Богооткровенную тайну: самим притязанием на полноту знания оно будет противостоять той полноте, в которой Истина познается отчасти. Учение изменяет Преданию, если хочет занять его место: гностицизм – поразительный пример попытки подменить данную Церкви динамическую полноту – условие истинного познания – разновидностью статичной полноты некой «доктрины откровения». Установленный же Церковью догмат, напротив, под видимостью частичного знаия каждый раз открывает новый доступ к той полноте, вне которой невозможно ни знать, ни исповедовать Богооткровенную Истину. Будучи выражением истины, догмат веры принадлежит Преданию, отнюдь не составляя при этом одну из его «частей». Это некое средство, некое разумное орудие, дающее возможность участвовать в Предании Церкви, некий свидетель Предания, его внешняя грань или, вернее, те узкие врата, ведущие к знанию Истины в Предании.
Внутри догматической ограды знание Богооткровенной тайны, уровень христианского «гносиса», достигаемого членами Церкви, различен и соразмерен духовному возрасту каждого. Это знание Истины в Предании будет расти в человеке, сопровождая его усовершенствование в святости (см.: Кол. 1:10): достигая возраста своей духовной зрелости, христианин становится более искусным в знании. Но осмелится ли кто вопреки всякой очевидности говорить о каком-то коллективном прогрессе в познании тайн христианского учения, о прогрессе как следствии «догматического развития» Церкви? Не началось ли это развитие с «евангельского детства», чтобы в наши дни – после «патристической юности» и «схоластической зрелости» – дойти до печальной дряхлости учебников богословия? И не должна ли эта метафора (ложная, как и многие другие) уступить место некоему видению Церкви – той, которую мы встречаем в «Пастыре» Ермы, явленой в образе женщины, одновременно и молодой и старой, соединяющей в себе все возрасты в мере полного возраста Христова (Еф. 4:13)?
Если мы вернемся к изречению свт. Григория Богослова, столь часто толкуемому превратно, то увидим, что догматическое развитие, о котором идет речь, вовсе не предопределяется какой-либо внутренней необходимостью, которая постепенно увеличивала бы в Церкви знание Богооткровенной Истины. История догмата, далекая от всякой органической эволюции, зависит прежде всего от осознанного отношения Церкви к той исторической реальности, в которой она должна трудиться ради спасения людей. Если свт. Григорий Богослов и говорил о постепенном откровении Троицы до Пятидесятницы, то делал это для того, чтобы подчеркнуть, что Церковь в своей икономии по отношению к внешнему миру должна следовать примеру Божественной педагогии. Формулируя догматы (ср. «» у свт. Василия Великого; см. выше на с. 10–12), она должна сообразовываться с нуждами текущего момента, «не все вдруг высказывая, и не все до конца скрывая; ибо первое неосторожно, а последнее безбожно; и одним можно поразить чужих, а другим – отчуждить своих»[42].
Отвечая на невосприимчивость внешнего мира, не способного к принятию Откровения, противоборствуя попыткам совопросников века сего (1 Кор. 1:20), пытающихся в самом лоне церковном понимать Истину по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу (Кол. 2:8), Церковь видит себя обязанной выражать свою веру догматическими определениями, чтобы защищать ее от ересей. Продиктованные необходимостью борьбы, однажды сформулированные Церковью догматы становятся для верных «правилом веры», остающимся навсегда незыблемым и определяющим грань между православием и ересью, между знанием в Предании и знанием, обусловленным естественными факторами. Всегда стоящая перед преодолением новых затруднений, перед устранением постоянно возникающих интеллектуальных препятствий Церковь всегда будет защищать свои догматы. Постоянный долг ее богословов – заново объяснять и раскрывать их, сообразуясь с интеллектуальными потребностями среды или эпохи. В критические моменты борьбы за чистоту веры Церковь должна провозглашать новые догматические определения как новые этапы в этой борьбе, которая будет длиться до тех пор, когда все придем в единство веры и познания Сына Божия (Еф. 4:13). В борьбе с новыми ересями Церковь никогда не оставляет прежних своих догматических позиций и не заменяет их новыми определениями. Эти этапы никогда не будут превзойденными в процессе некоей эволюции, их невозможно сдать в архивы истории, они всегда остаются современными в живом свете Предания. Итак, говорить о догматическом развитии можно лишь в чрезвычайно ограниченном смысле: формулируя новый догмат, Церковь базируется на догматах уже существующих, составляющих правило веры как для нее, так и для ее противников. Так, халкидонский догмат использует никейский и говорит о Сыне, единосущном Отцу по божеству, чтобы сказать затем, что Сын также единосущен нам по человечеству; в борьбе против монофелитов, принимавших халкидонский догмат в принципе, отцы VI Вселенского Собора снова опираются на халки-донские формулировки о двух природах во Христе, чтобы утверждать в Нем наличие двух воль и двух энергий; византийские соборы XIV века, провозглашая догмат о Божественных энергиях, опираются, помимо всего прочего, на определения VI Вселенского Собора и т. д. В каждом случае можно говорить о некоем «догматическом развитии» в той мере, в какой Церковь расширяет правило веры, опираясь в новых своих определениях на всеми принятые догматы.
Если правило веры развивается по мере того, как учительная власть Церкви добавляет в него новые утверждения, обладающие догматическим авторитетом, то это развитие, подчиненное «икономии» и предполагающее знание Истины в Предании, не есть возрастание самого Предания. Это становится ясным, если учесть все, что было сказано о первичном понятии Предания. Злоупотребление термином «предание» (в единственном числе и без качественного прилагательного, его определяющего) теми авторами, которые видят его проекцию лишь на горизонтальный план Церкви, а также злоупотребление термином «предания» (во множественном числе или с квалифицирующими их определениями), и в особенности досадная привычка обозначать этим термином просто вероучение, сделали возможными постоянные разговоры о «развитии» или «обогащении» предания. Богословы VII Вселенского Собора прекрасно различали «Предание Духа Святого» и «Богодухновенное учение () святых отцов наших»[43]. Они находили определение новому догмату «со всей точностью и старанием», потому что считали себя пребывающими в том же Предании, которое позволяло отцам ушедших веков создавать новые формулы Истины каждый раз, когда надлежало отвечать на требования дня.
Существует двойная зависимость между «Преданием кафолической Церкви» (т. е. способностью познавать Истину в Духе Святом) и «учением отцов» (т. е. хранимым Церковью правилом веры). Невозможно принадлежать Преданию, оспаривая догматы, как и невозможно пользоваться принятыми догматическими формулами для того, чтобы противопоставлять формальную «ортодоксию» всякому новому выражению Истины, родившемуся в Церкви. Первая позиция отличает революционеров-новаторов, лжепророков, которые во имя Духа, на Которого они ссылаются, грешат против выраженной Истины, против Воплощенного Слова. Вторая позиция свойственна формалистам-консерваторам, церковным фарисеям, которые во имя привычных выражений об Истине рискуют согрешить против Духа Истины.
Различая Предание, в котором Церковь познает Истину, и «догматическое предание», которое она устанавливает и хранит своей учительной властью, мы обнаруживаем между ними то же соотношение, в котором могли удостовериться, говоря о Предании и Писании: нельзя ни смешивать, ни разделять их, не лишая обоих той полноты, которой они совокупно обладают. Как и Писание, догматы живут в Предании с той лишь разницей, что канон Священного Писания образует законченный корпус, исключающий всякую возможность последующего расширения, а «догматическое предание», прочно сохраняя «правило веры», из которого ничего не может быть изъято, способно расширяться, приобретая и по мере необходимости новые, сформулированные Церковью выражения Богооткровенной Истины. Если совокупность догматов, которыми обладает и которые передает Церковь, не является раз и навсегда установленным корпусом, то тем более она не имеет ничего общего с незавершенностью доктрины «в стадии становления». В любой момент своего исторического бытия Церковь формулирует Истину веры в догматах, всегда выражающих умопознаваемую в свете Предания полноту, которую невозможно доконца выразить во внешних формулировках. Истина, полностью раскрытая, не была бы живой полнотой, присущей Откровению: «полнота» и «рациональное раскрытие» исключают друг друга. Но если тайна, открытая Христом и познаваемая в Духе Святом, не может быть раскрыта, она все-таки не остается невыразимой. Поскольку во Христе обитает вся полнота Божества телесно (Кол. 2:9), эта полнота Воплотившегося Божественного Слова выражается как в Писании, так и в «сокращенном слове» Символов веры[44] или других догматических определений. Полнота Истины, которую они выражают, но никогда не могут раскрыть до конца, позволяет сближать догматы Церкви со Священным Писанием. Поэтому свт. Григорий Великий объединял в том же почитании догматы первых четырех Вселенских Соборов и четыре Евангелия[45].
Все, что мы сказали о «догматическом Предании», может быть отнесено и к другим выражениям христианской тайны, которые Церковь создает в Предании, сообщая им ту же полноту Наполняющего все во всем (Еф. 1:23). Как и Богодухновенное учение Церкви, предание иконографическое также обретает свой полный смысл и тесную связь с другими свидетельствами веры (Писанием, догматами, литургией) в Предании Духа Святого. Иконы Христа, так же как и догматические определения, могут быть сближены со Священным Писанием и получать то же почитание, потому что иконография показывает в красках то, о чем в буквах письма благовествуют слова[46]. Догматы обращены к уму, будучи умопостигаемыми выражениями той реальности, которая превышает наше разумение. Иконы воздействуют на наше сознание через внешние чувства, показывая нам ту же сверхчувственную реальность, выраженную «эстетически» (в прямом смысле слова : то, что может быть усвоено чувствами). Однако элемент умопостижения не чужд иконографии: смотря на икону, мы открываем в ней «логическую» структуру, некое догматическое содержание, определившее ее композицию. Это не значит, что иконы – своего рода иероглифы или священные ребусы, передающие догматы языком условных знаков. Если умопостижение, пронизывающее эти чувственные образы, тождественно умопостижению догматов Церкви, то оба эти «предания» – догматическое и иконографическое – совпадают постольку, поскольку каждое из них выражает присущими ему образами ту же самую Богооткровенную реальность. Хотя христианское Откровение трансцендентно для разума и чувств, оно ни того ни другого не исключает: наоборот, оно вбирает и преобразует их Светом Духа Святого в том Предании, которое есть единственный способ восприятия Богооткровенной Истины, единственный способ узнавания ее выражений в Писании, догматике или иконографии, а также единственный способ нового ее выражения.
Смысл и язык икон
Л. А. Успенский
Моленные иконы ( – образ, портрет) первых веков христианства до нас не дошли, но о них сохранились как церковные предания, так и исторические свидетельства. Церковное предание, как мы увидим из разбора отдельных изображений, возводит первые иконы ко времени жизни Самого Спасителя и непосредственно после Него. В эту эпоху, как известно, портретное искусство процветало в Римской империи. Делались портреты и людей близких, и людей почитаемых. Поэтому нет никаких оснований полагать, что христиане, особенно из язычников, составляли исключение из общего правила, и это тем более, что в самом еврействе, хранившем ветхозаветный запрет образа, в эту эпоху существовали течения, допускавшие человеческие изображения. В «Церковной истории» Евсевия мы находим, например, следующую фразу: «Я ведь рассказывал, что сохранились изображения Павла, Петра и Самого Христа, написанные красками на досках»[47]. Перед этим Евсевий подробно останавливается на описании статуи Спасителя, виденной им в городе Панеада (Кесария Филиппова в Палестине), воздвигнутой кровоточивой женой, исцеленной Спасителем (см.: Мф. 9:20–22; Мк. 5:25–34; Лк. 8:43–48)[48].
Свидетельство Евсевия тем более ценно, что сам он крайне отрицательно относился к иконам. Поэтому и самое свидетельство его о виденных им портретах сопровождается отрицательным отзывом, как об обычае языческом[49].
Существование иконоборческих тенденций в первые века христианства общеизвестно и вполне понятно. Христианские общины были со всех сторон окружены язычеством с его идолослужением; поэтому естественно, что многие христиане, как из евреев, так и из язычников, учитывая весь отрицательный опыт язычества, старались оградить христианство от заразы идолопоклонства, могущей проникнуть через художественное творчество, и, основываясь на ветхозаветном запрете образа, отрицали возможность его существования и в христианстве.
Однако, несмотря на присутствие этих иконоборческих тенденций, существовала та основная линия, которая постепенно и последовательно проводилась в Церкви, но без какой-либо внешней формулировки. Выражением этой основной линии и является церковное предание, указывающее на существование иконы Спасителя при Его жизни и икон Божией Матери непосредственно после Него. Это предание свидетельствует о том, что с самого начала существовало ясное понимание значения и возможностей образа и что отношение к нему Церкви неизменно; ибо это отношение вытекает из самого ее учения о Боговоплощении. Учение же это показывает, что образ изначала присущ самой сущности христианства, ибо христианство есть откровение не только Слова Божия, но и Образа Божия, явленного Богочеловеком. Через воплощение Бог-Слово, будучи сияние славы и образ ипостаси Его (Отца) (Евр. 1:3), открывает миру и Образ Отчий. Бога никтоже виде нигдеже: единородный Сын, сый в лоне Отчи, той исповеда () (Ин. 1:18), явил образ – икону Отца. Как «в лоне Отчем», так и по воплощении Сын единосущен Отцу, будучи равночестным по Божеству Его начертанием. Эта раскрывшаяся в христианстве истина и лежит в основе его изобразительного искусства. Поэтому категория образа, иконности, начертания не только не противоречит сущности христианства, но, будучи основной его истиной, является неотъемлемой его принадлежностью. На этом и утверждается предание, показывающее, что проповедь христианства миру изначала ведется Церковью и словом, и образом. Исходя именно из этого, и отцы VII Вселенского Собора могли сказать: «Иконописание совсем не живописцами выдумано, а напротив, оно есть одобренное законоположение и предание кафолической Церкви и, по словам божественного Василия, согласно с древностию и достойно уважения»[50]; оно существовало еще во времена апостольской проповеди. Эта изначальная присущность образа христианству и объясняет, почему он появляется в Церкви и как нечто само собой разумеющееся, безмолвно и неприметно, несмотря на ветхозаветный запрет и противодействие, занимает в церковной практике надлежащее ему место. В IV в. уже целый ряд отцов Церкви (как, например, свтт. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и др.) ссылаются в своей аргументации на изображения как на нормальное и общепринятое церковное установление[51].
Как выглядели иконы первых веков христианства, мы не знаем и для суждения об этом не имеем никаких данных. Однако об общем направлении искусства этого периода можно на основании последних исследований иметь довольно ясное представление.
Катакомба Прискиллы. Рим. Общий вид
В своем капитальном труде по истории византийского искусства В. Н. Лазарев, разбирая ту сложную обстановку, в которой возникало раннее христианское искусство, и опираясь на целый ряд предыдущих исследований, приходит к следующему выводу: «Примыкая во многом к античности, особенно к ее позднейшим спиритуализированным формам, оно, тем не менее, ставит себе уже с первых веков своего возникновения ряд самостоятельных задач. Это отнюдь н “христианская античность”, как это стремился доказать Зибель[52]. Новая тематика раннего христианского искусства не была чисто внешним фактом. Она отражала новое мировоззрение, новую религию, принципиально новое понимание действительности. И поэтому данная тематика не могла облекаться в старые античные формы. Она нуждалась в таком стиле, который наилучшим образом воплощал бы спиритуалистические идеалы христианства. К выработке этого стиля и были направлены все творческие усилия христианских художников»[53]. Далее автор, ссылаясь на работу Дворжака[54], говорит о том, что уже в росписях катакомб складывается в своих основных чертах новый стиль.
Якорь. Мраморная пластина. Катакомба Прискиллы. Рим. IV в.
Рыба. Роспись катакомбы Каллиста. Рим. IV в.
Агнец. Умножение хлебов (?). Роспись катакомбы Коммодиллы. Рим. IV в.
Тематика росписей катакомб, где начиная с I и II вв. кроме аллегорически-символических изображений (якорь, рыба, агнец и др.) имеется целый ряд изображений Ветхого и Нового Завета, показывает, что она совершенно соответствует священным текстам – библейским, литургическим и святоотеческим. Основным принципом этого искусства является образное выражение учения Церкви через изображение конкретных событий Священной истории и указание на их внутреннее значение[55]. Призванное не отражать проблематику жизни, а отвечать на нее, искусство христиан с самого начала является проводником евангельского учения. Здесь уже складывается в основных чертах характер церковного искусства. Иллюзорное трехмерное пространство уступает место реальной плоскости, связь между фигурами и предметами становится условно-символической. Образ сводится к минимуму деталей и максимуму выразительности. Подавляющее большинство фигур изображаются обращенными лицом к молящимся, так как важно не только действие и взаимодействие изображенных лиц, но и их состояние, обычно молитвенное. Художник жил и мыслил образами и приводил формы к предельной простоте, глубина содержания которой доступна только духовному взору; он очищал свое произведение от всего личного, оставался анонимным, и его главной заботой была передача традиции. Он понимал, что, с одной стороны, нужно оторваться от чувственного наслаждения, а с другой стороны, что для выражения духовного мира надо пользоваться всей видимой природой, ибо, чтобы передать мир, невидимый чувственному взору, нужен не расплывчатый туман, а, наоборот, особенная четкость и точность выражения, так же как для передачи понятия о горнем мире святые отцы употребляют особенно точные и ясные выражения.
Даниил во рву львином. Роспись катакомбы на виа Анапо. Рим. IV в.
Жертвоприношение Авраама. Роспись катакомбы на виа Латина Антика. Рим. IV в.
Красота раннего христианского искусства – главным образом в том, что оно не было еще раскрытием содержащейся в нем полноты, а лишь обещанием бесконечных возможностей.
Связь этого искусства со священными текстами не означает, что оно было оторвано от жизни. Помимо того, что оно говорит на художественном языке своей эпохи, связь его с жизнью выражается не в изображении того или иного бытового или психологического момента деятельности человека, а в изображении самой этой деятельности, как, например, разных видов труда, профессий в знак того, что труд, посвященный Богу, освящается. Кроме того, сама тематика этого искусства, как мы уже сказали, не отражает проблематику жизни, а отвечает на нее.
Богоматерь с Младенцем и пророк Валаам (?). Роспись катакомбы Прискиллы. Рим. IV в.
Крещение Господне. Роспись катакомбы Петра и Маркеллина. Рим. IV в.
В эту эпоху – эпоху мученичества – мучения не показываются, так же как не описываются они в литургических текстах. Показывается не само мучение, а как ответ на него то отношение, которое должно быть к нему. Отсюда широкое распространение в росписях катакомб таких тем, как, например, Даниил во рву львином, мученица Фекла и др.
Добрый Пастырь. Роспись катакомбы Каллиста. Рим. IV в.
Амур. Роспись катакомбы Домитиллы. Рим. IV в.
Христос-Орфей. Роспись катакомбы Домитиллы. Рим. IV в.
Христианское искусство с первых веков глубоко символично, и символика эта не была явлением, свойственным исключительно этому периоду христианской жизни. Она неотделима вообще от церковного искусства потому, что та духовная действительность, которую оно выражает, не может быть передана иначе, чем символами. Однако в первые века христианства символика эта в большой мере иконографическая, т. е. сюжетная. Так, например, чтобы указать на то, что изображенная женщина с ребенком – Божия Матерь, рядом с Ней изображается пророк, указывающий на звезду (возм., Валаам)[56]; как указание на то, что крещение есть вступление в новую жизнь, крещаемый, даже взрослый, изображается отроком или младенцем (см. разбор иконы Крещения Господня) и т. д. Отдельные символы употреблялись не только из Ветхого и Нового Завета (агнец, добрый пастырь, рыба и др.), но и из языческой мифологии (Амур и Психея, Орфей и др). Пользуясь этими мифами, христианство восстанавливает их подлинный, глубинный смысл, наполняет их новым содержанием. Такое применение христианством элементов языческого искусства не ограничивается одним лишь первым периодом его существования. Оно и позже воспринимает из окружающего мира вообще все то, что может служить ему средством и формой выражения, подобно тому как отцы Церкви использовали аппарат греческой философии, применив ее понятия и язык к христианскому богословию.
Через классические традиции александрийского искусства, сохранившего в наиболее чистом виде греческий эллинизм[57], христианское искусство становится наследником традиций античного искусства Греции. Оно привлекает элементы искусства Египта, Сирии, Малой Азии и др., воцерковляет полученное наследие, привлекая его достижения для полноты и совершенства своего художественного языка, перерабатывая все это сообразно с требованиями христианской догматики[58]. Другими словами, христианство избирает и воспринимает из языческого мира все то, что было его, так сказать, «христианством до Христа», все, что рассеяно в нем как отдельные, ущербленные частицы истины, объединяет их, приобщая к полноте откровения. «Как был этот [Хлеб] преломленный рассеян по горам и, собранный, стал един, так да соберется и Церковь Твоя от концов земли в Твое Царствие», – гласит характерная в этом смысле евхаристическая молитва древних христиан[59]. Этот процесс собирания есть не влияние языческого мира на христианство, а вливание в христианство всего того из языческого мира, чему было свойственно в него вливаться, не проникновение в Церковь языческих обычаев, а воцерковление их, не «паганизация христианского искусства», как это часто преподносится, а христианизация искусства языческого.
Приобщение к полноте откровения касается всех сторон человеческой деятельности. Воцерковляется все то, что присуще Богом созданной человеческой природе, в том числе и творчество, освящающееся через причастие к строительству Царствия Божия, осуществляемому в мире Церковью. Поэтому то, что принимается ею от мира, определяется необходимостью не Церкви, а мира, ибо в этом приобщении его к строительству Царствия Божия (в зависимости, конечно, от его свободной воли) есть основной смысл существования мира. И наоборот: основной смысл существования самой Церкви в мире есть приобщение этого мира к полноте откровения, его спасение. Поэтому и собирательный процесс, начавшийся в первые века христианства, есть нормальное, а потому и непрекращающееся действие Церкви в мире. Иначе говоря, процесс этот не ограничивается каким-либо отдельным периодом ее существования, а является ее постоянной функцией. В порядке своего строительства Церковь принимает и будет до конца принимать извне все, что является подлинным, истинным, хотя и ущербленным, восполняя то, чего в нем недостает.
Этот процесс не есть обезличивание. Церковь не отменяет особенностей, связанных с человеческой природой, со временем или местом (например, национальных, личных и др.), а освящает их содержание, вливая в него новый смысл. Особенности же эти, в свою очередь, не нарушают единства Церкви, а вносят в нее новые, свойственные им формы выражения. Таким образом осуществляется то единство в многообразии и богатство в единстве, которое в целом и в деталях выражает соборное начало Церкви. В применении к художественному языку оно означает не единообразие или некий общий шаблон, а выражение единой истины разнообразными, свойственными каждому народу, времени, человеку художественными формами, которые позволяют отличать иконы различных национальностей и различных эпох, несмотря на общность их содержания.
Как мы сказали выше, в сознании Церкви домостроительство спасения органически связано с образом. Поэтому и учение о нем является не чем-либо обособленным, т. е. придатком, но вытекает из учения о спасении, будучи его неотъемлемой частью. Оно во всей своей полноте изначала присуще Церкви, но, как и другие стороны ее учения, утверждается постепенно, в ответ на нужды момента, как, например, в 82-м правиле Пято-Шестого (Трулльского) Собора, или в ответ на ереси и заблуждения, как это было в период иконоборчества. Здесь произошло то же самое, что было с догматической истиной Боговоплощения. Она исповедовалась первыми христианами более практически, самой их жизнью, не имея еще достаточно полного теоретического выражения; но потом в силу внешней необходимости, ввиду появления ересей и лжеучений, она была точно формулирована. Так было и с иконой: начало ее догматического обоснования полагается Трулльским Собором 691–692 гг. в связи с изменением символики церковного искусства, на пути развития которого указанное правило становится одним из важнейших этапов, поскольку здесь впервые дается ему принципиальное направление. Правило 82-е Пято-Шестого Собора гласит: «На некоторых живописях честных икон изображается агнец, указуемый перстом Предтечи, который был принят за образ благодати, потому что посредством закона предуказал нам истинного Агнца Христа Бога нашего. Мы же, уважая древние образы и сени, преданные Церкви в качестве символов и предначертаний истины, отдаем предпочтение благодати и истине, принявши ее как исполнение закона. Посему, чтобы и в живописных произведениях представлялось взорам всех совершенное, определяем, чтобы на будущее время и на иконах начертывали вместо ветхого агнца образ Агнца, поднимающего грех мира, Христа Бога нашего в человеческом облике, усматривая чрез этот образ высоту смирения Бога-Слова и приводя себе на память Его житие во плоти, страдание, спасительную смерть и происшедшее отсюда искупление мира»[60].
Правило это является прежде всего ответом на существовавшее в то время положение, при котором в церковной практике наряду с историческими изображениями продолжали употребляться символы, заменявшие человеческий образ Бога[61]. Значение 82-го правила заключается, во-первых, в том, что в основе его лежит связь иконы с догматом об истине Боговоплощения, с жизнью Христа во плоти, т. е. начало обоснования ее христологическим догматом, которым впоследствии широко воспользуются и которое раскроют дальше апологеты иконопочитания в период иконоборчества. Кроме того, Собор отменяет как этап уже пройденный употребление символических сюжетов, заменявших человеческий образ Иисуса Христа. Правда, Собор упоминает лишь один символический сюжет: агнца. Однако вслед за этим он говорит вообще о «древних образах и сенях», очевидно, усматривая в агнце не только один из символов, но основной из них, раскрытие которого, естественно, ведет за собой раскрытие и всех других символических сюжетов. Свое определение он обосновывает исполнением ветхозаветных прообразов в Новом Завете и предписывает переход от изображения ветхозаветных и первохристианских символов к изображению того, что они предображали, к раскрытию их прямого смысла, к тому, что явлено во времени и потому стало доступным чувственному восприятию, изображению и описанию. Образ, явленный в ветхозаветном символе, через воплощение становится реальностью, которая, в свою очередь, является образом славы Божией, образом «высоты смирения Бога-Слова». Сам сюжет, изображение Иисуса Христа, является свидетельством Его пришествия и жизни во плоти, кенозиса Божества, Его смирения, уничижения. А то, как изображается это смирение, как передается оно в изображении, отражает славу Божию. Другими словами, уничижение Бога-Слова показывается таким образом, что, глядя на него, мы видим и созерцаем в Его «рабьем зраке» Его Божественную славу – человеческий образ Бога-Слова и через это познаем, в чем заключается спасительность Его смерти, в чем заключается искупление мира. Последняя часть 82-го правила указывает, в чем назначение символики иконы. Назначение это не в том, что изображается, а в том, как изображается, т. е. в способе изображения. Иначе говоря, учение Церкви передается не только тематикой образа, но и самим способом выражения. Таким образом, определение Пято-Шестого Собора, полагая начало формулировки догматического обоснования иконы, указывает в то же время на возможность при помощи символики выразить в искусстве отображение славы Божией. Оно подчеркивает всю важность и значение исторической реальности, выделяя реалистический образ как единственный могущий передать учение Церкви, и определяет все остальное («образы и сени») как не выражающее полноты благодати, хотя и достойное уважения и могущее соответствовать нуждам известной эпохи. Этим иконографический символ отнюдь не упраздняется, но становится средством вспомогательным, второстепенным. По существу, это правило полагает начало иконописного канона, т. е. известного критерия литургичности образа, подобно тому как канон в словесном и музыкальном творчестве определяет литургичность текста или песнопения. Он утверждает принцип соответствия иконы Священному Писанию и определяет, в чем состоит это соответствие, т. е. историческую реальность и ту символику, которая действительно отражает грядущее Царствие Божие.
Таким образом, Церковь постепенно создает новое – как по содержанию, так и по форме – искусство, которое в образах и формах материального мира передает откровение мира Божественного, делает этот мир доступным созерцанию и разумению. Искусство это развивается вместе с богослужением и так же, как богослужение, выражает учение Церкви, соответствуя слову Священного Писания. Это соответствие образа и слова было особенно ясно выражено определением VII Вселенского Собора, восстановившего иконопочитание. В лице отцов этого Собора Церковь, отвергнув компромиссное предложение почитать иконы наравне со священными сосудами, установила почитание их наравне с Крестом и Евангелием: c Крестом как отличительным знаком христианства и Евангелием как полным соответствием образа словесного и образа видимого[62].
«Храним не нововводно все, писанием или без писания установленные для нас церковные предания, от них же едино есть иконного живописания изображение, яко повествованию Евангельския проповеди согласующее <…>. Яже бо едино другим указуются, несомненно едино другим уясняются», – гласит определение священного Собора[63]. Из этого определения явствует, что Церковь видит в иконе не просто искусство, служащее для иллюстрации Священного Писания, но полное ему соответствие, а следовательно, придает иконе то же, что и Священному Писанию, т. е. догматическое, литургическое и воспитательное значение. Как слово Священного Писания есть образ, так и образ есть то же слово. «Что повествовательное слово передает через слух, то живопись показывает молча через подражание», – говорит свт. Василий Великий[64], и «этими двумя способами, взаимно друг другу сопутствующими <…> мы получаем познание об одном и том же»[65]. Другими словами, икона содержит и проповедует ту же истину, что и Евангелие, а следовательно, так же как и Евангелие, основана на точных, конкретных данных, а никак не на вымысле, ибо иначе она не могла бы ни разъяснять Евангелие, ни соответствовать ему.
Таким образом, икона приравнивается к Священному Писанию и Кресту как одна из форм откровения и богопознания, в которой совершается сочетание Божественных и человеческих воль и действий. И то и другое, помимо своего прямого значения, являет отражение горнего мира; и то и другое есть символ Духа, Который в них заключается. Следовательно, как содержание слова и образа, так и значение и роль их – одни и те же. Образ, так же как и богослужение, является проводником догматических определений и выражением благодатной жизни Священного Предания в Церкви. Через богослужение и через икону откровение становится достоянием и жизненным заданием верующего народа. Поэтому с самого начала церковное искусство получает и форму, соответствующую тому, что оно выражает. Церковь создает совершенно особую категорию образа, соответствующего ее природе, само назначение которого обусловливает его особый характер. Церковь – Царство не от мира сего (ср.: Ин. 18:36) – живет в мире и для мира, для его спасения. Она имеет особую, отличную от мира природу и служит миру именно тем, что она отлична от него. Поэтому и проявления Церкви, через которые она осуществляет это служение, будь то слово, образ, пение и т. д., отличаются от аналогичных проявлений мира. Все они носят печать надмирности, которая и внешне выделяет их из мира. Архитектура, живопись, музыка, поэзия перестают быть видами искусства, идущими каждый своим путем, независимо от других в поисках свойственных им эффектов, и становятся частями единого литургического целого, которое, отнюдь не умаляя их значения, предполагает отказ каждого из них от самостоятельной роли, от самоутверждения. Все они из искусств с самостоятельными целями превращаются в разнородные средства, выражающие, каждое в своей области, одно и то же: сущность Церкви, т. е. становятся разнородными средствами богопознания. Отсюда следует, что церковное искусство по самому существу своему является искусством литургическим. Литургичность его не в том, что образ обрамляет богослужение или дополняет его, а в их совершенном соответствии. Таинство действуемое и таинство изображенное едины как внутренне, по своему смыслу, так и внешне, по той символике, которая этот смысл выражает. Поэтому православный церковный образ, икона, определяется не как искусство той или иной исторической эпохи или как выражение национальных особенностей того или другого народа, а исключительно соответствием своему назначению, столь же вселенскому, как само Православие, назначению, определяемому самой сущностью образа и его ролью в Церкви. Будучи по существу своему искусством литургическим, икона, так же как и слово, никогда не служила религии, но, так же как и слово, всегда была и есть неотъемлемая часть религии, одно из средств к познаванию Бога, один из путей к общению с Ним. Отсюда понятно то значение, которое придает образу Церковь. Оно таково, что из всех побед над множеством разнообразных ересей одна только победа над иконоборчеством и восстановление иконопочитания были провозглашены Торжеством Православия, которое празднуется Церковью в первое воскресенье Великого поста.
Наиболее полно учение об иконе явлено VII Вселенским Собором (787) и святыми отцами-апологетами в иконоборческий период. В сжатой форме оно содержится в кондаке Недели Торжества Православия, установленного, как мы видели, в память победы над иконоборчеством. Текст этого кондака следующий: «Неописанное Слово Отчее, из Тебе, Богородице, описася воплощаемь, и оскверншийся образ в древнее вообразив, Божественною добротою смеси; но исповедующе спасение, делом и словом сие воображаем».
Седьмой Вселенский Собор. Фреска Успенского собора Московского Кремля. 1642–1643 гг.
В отличие от 82-го правила Трулльского Собора, дающего указание на то, каким способом можно наиболее полно и точно выразить в образе учение Церкви, кондак дает догматическое разъяснение канонического образа, т. е. образа, уже вполне соответствующего своему назначению и отвечающего требованиям литургического искусства. Это кратко, но необычайно точно и полно сформулированное учение об иконе тем самым содержит и все учение о спасении. Оно свято хранится Православной Церковью и лежит в основе православного понимания иконы и отношения к ней.
Первая часть кондака раскрывает связь иконы с христологическим догматом, ее обоснование Боговоплощением. Следующая его часть раскрывает смысл Боговоплощения, исполнение замысла Божия о человеке, а следовательно, о мире. Обе эти части кондака являются, по существу, повторением святоотеческой формулы: «Бог стал Человеком, чтобы человек стал богом». Последняя часть кондака являет ответ человека Богу, наше исповедание спасительной истины Боговоплощения, приятие человеком домостроительства Божия и участие в нем. Последними словами кондака Церковь указывает, в чем выражается наше участие и в чем состоит осуществление нашего спасения.
Характерной чертой кондака является то, что он обращен не к одному из Лиц Святой Троицы, а к Божией Матери, т. е. представляет собой литургическое, молитвенное выражение догматического учения о Боговоплощении. Очевидно, что как отрицание человеческого образа Спасителя логически приводит к отрицанию Богоматеринства[66], так и утверждение Его иконы требует прежде всего выявления роли Божией Матери, Ее выделения как необходимого условия Боговоплощения, как причины описуемости Бога. По толкованию святых отцов, основание для изображения Богочеловека Иисуса Христа вытекает именно из изобразимости Его Матери. «Поскольку Христос, – говорит прп. Феодор Студит, – происходит из неописуемого Отца, Он, будучи неописуем, не может иметь искусственного изображения. В самом деле, какому равному образу могло бы быть уподоблено Божество, изображение которого в боговдохновенном Писании совершенно запрещено? Поскольку же Христос рожден от описуемой Матери, естественно, Он имеет изображение, соответствующее материнскому образу. А если бы Он не имел (искусственного изображения), то и (не был бы рожден) от описуемой Матери, и, значит, имел бы только одно рождение – очевидно, от Отца; но это является ниспровержением Его домостроительства»[67]. Итак, раз Сын Божий стал Человеком, то Его и следует изображать как человека[68]. Эта мысль красной нитью проходит у всех апологетов иконопочитания. При этом описуемость Сына Божия по плоти, воспринятой Им от Богоматери, противополагается (как прп. Иоанном Дамаскиным, так и отцами VII Вселенского Собора) неописуемости Бога Отца, непостижимого и невидимого, а потому и неизобразимого. «Почему мы не описываем Отца Господа Иисуса Христа? Потому что мы не видели Его <…>. И если бы мы увидели и познали Его так же, как и Сына Его, – то постарались бы описать и живописно изобразить и Его (Отца)…»[69] – говорят отцы этого Собора. Тот же вопрос об изображении Бога Отца возникает в 1667 г. на Большом Московском Соборе в связи с распространением в то время в России западной композиции Святой Троицы с изображением Бога Отца в виде старца. Собор, ссылаясь на святых отцов, и в частности на великого исповедника и апологета иконопочитания прп. Иоанна Дамаскина, указывает на неописуемость Бога Отца и запрещает Его изображение на иконах.
Изображая Спасителя, мы не изображаем ни Его божественную, ни Его человеческую природу, а Его Личность, в которой обе эти природы непостижимо сочетаются; изображаем Его Личность, ибо икона может быть только личным, ипостасным образом, природа, «сущность же не существует самостоятельно, но созерцается в лицах»[70]. Икона причастна первообразу не в силу тождества своей природы с его природой, а тем, что изображает его личность и носит его имя, что и связывает икону с изображенным на ней лицом, дает возможность сношения с ним и возможность его познания. В силу этой связи и «честь, воздаваемая образу, переходит к первообразу», – говорят святые отцы и Вселенский Собор, повторяя слова свт. Василия Великого. Поскольку икона есть образ, она не может быть единосущна первообразу, иначе она была бы не изображением, а самим изображаемым, имела бы с ним одну природу. Икона как раз тем и отличается от своего первообраза, что имеет другую, отличную от него природу[71], «ибо иное есть изображение, и другое – то, что изображается»[72]. Иначе говоря, при сущностном различии предметов между ними в то же время имеется известная связь, некоторое соучастие одного в другом. Для православного сознания очевидна возможность одновременного различия и тождества – ипостасного различия при сущностном тождестве (Триединство) и ипостасного равенства при сущностном различии (святые иконы)[73]. Это и имеет в виду при. Феодор Студит, говоря: «Как там (в Троице. – Л.У.) Христос отличается от Отца ипостасью, так здесь Он отличается от Своего собственного изображения сущностью»[74]. И в то же время «изображение Христа – Христос, также и изображение святого – святой. И власть не рассекается, и слава не разделяется, но слава, воздаваемая изображению, становится принадлежащей тому, кто изображается»[75].
Прп. Феодор Студит. Рисунок Л. А. Успенского
Прп. Иоанн Дамаскин. Рисунок Л. А. Успенского
Итак, Бог-Слово, вторая Ипостась Святой Троицы, не описуемый ни словом, ни образом, воспринимает человеческую природу, рождается от Девы Богородицы, оставаясь совершенным Богом, становится совершенным Человеком, становится видимым, осязаемым и, следовательно, описуемым. Таким образом, сам факт существования иконы основывается на Боговоплощении. Непреложность же Боговоплощения подтверждается и доказывается иконой. Поэтому в глазах Церкви отрицание иконы Христа является отрицанием истинности и непреложности самого Его вочеловечения и, следовательно, отрицанием всего домостроительства Божия. Защищая икону в период иконоборчества, Церковь защищала не только ее воспитательную роль и еще меньше – ее эстетическое значение; она боролась за саму основу христианской веры, за видимое свидетельство вочеловечения Бога как основу нашего спасения. «Человеческий вид Божий видех и спасеся душа моя (Быт. 32:30)», – говорит прп. Иоанн Дамаскин[76]. Такое понимание иконы объясняет ту бескомпромиссность и непоколебимость, с которой ее защитники в иконоборческий период шли на пытки и мученическую смерть.
Торжество Православия. Константинополь (?). Около 1400 г. Британский музей
Если первая часть кондака Недели Торжества Православия формулирует догматическое обоснование иконы, то вторая его часть, как мы сказали, раскрывая сущность домостроительства, исполнения замысла Божия о человеке, раскрывает тем самым и смысл, и содержание иконы.
Божественная Личность Иисуса Христа, обладающая всей полнотой божественной жизни, став вместе с тем совершенным Человеком (т. е. человеком по всему, кроме греха), не только восстанавливает оскверненный человеком в грехопадении образ Божий в его первоначальной чистоте («оскверншийся образ в древнее вообразив»)[77], но и приобщает воспринятую Им человеческую природу к божественной жизни – «божественною добротою (красотою) смеси». Отцы VII Вселенского Собора говорят: «Он (Бог. – Л. У.) воссоздал его (человека. – Л. У.) в бессмертие, даровав ему этот неотъемлемый дар. Это воссоздание было богоподобнее и лучше первого создания, – это дар вечный»[78], дар приобщения к божественной красоте, славе. Христос, новый Адам, начало новой твари, небесного, духоносного человека, приводит человека к той цели, для которой первый Адам был создан и от которой уклонился в грехопадении; Он приводит его к исполнению замысла о нем Святой Троицы: Сотворим человека по образу Нашему и по подобию (Быт 1:26). По этому замыслу человек должен быть не только образом сотворившего его Бога, но и подобным Ему. Однако в описании уже совершившегося акта творения – и сотворил Бог человека <…> по образу Божию сотворил его (Быт. 1:27) – ничего не говорится о подобии. Оно дано человеку как задание, осуществляемое действием благодати Святого Духа при свободном участии самого человека. Человек свободно и сознательно – «ибо выражение по образу обозначает разумное и одаренное свободною волею [существо]», входя в замысел о нем Святой Троицы, – творит в меру своих возможностей свое подобие Богу, ибо «выражение по подобию обозначает подобие чрез добродетель, насколько это возможно [для человека]»[79], становясь таким образом соучастником в Божественном творчестве.
Итак, если Божественная Ипостась Сына Божия стала Человеком, то с нами происходит обратное: человек может стать богом, но не по природе, а по благодати. Бог нисходит, становясь Человеком, человек восходит, становясь богом. Уподобляясь Христу, он становится храмом живущего в нем Духа Святаго (ср.: 1 Кор. 6:19), восстанавливает свое подобие Богу[80]. Природа человека остается тем, что она есть – тварной, но его личность, ипостась, стяжая благодать Святого Духа, приобщается божественной жизни, изменяя тем самым само бытие своей тварной природы. Благодать Духа Святого проникает в природу, сочетается с ней, заполняет, преображает ее. Человек как бы врастает в вечную жизнь уже здесь, на земле, стяжая начало этой жизни, начало обожения, которое в полноте будет явлено в будущем веке.
Откровение этой грядущей преображенной телесности явлено нам в Преображении Господнем на Фаворе. И преобразися пред ними: и просветися лице Его яко солнце, ризы же Его быша белы яко свет (Мф. 17:2), т. е. преобразилось все тело Господа, сделавшись как бы просветленной ризой Божества. «Что же касается характера преображения, – говорят отцы VII Вселенского Собора, ссылаясь на свт. Афанасия Великого, – то оно совершилось, как говорит божественный евангелист, не так, чтобы Слово сложило с Себя человеческий образ, но скорее через одно озарение последнего Своею славою»[81]. Таким образом, в Преображении «на Фаворе не только Божество является человекам, но и человечество является в Божественной славе»[82]. Причастником этой божественной славе, этому «несозданному божественному осиянию», как называет Фаворский свет свт. Григорий Палама[83], и становится человек, стяжавший благодать Святого Духа. Другими словами, соединясь с Божеством, он озаряется Его нетварным светом, являя собой подобие просветленного тела Христова. Преподобный Симеон Новый Богослов описывает свой личный опыт этого внутреннего озарения, между прочим, и в следующих словах: «Став весь огнем по душе, он (человек. – Л. У.) и телу передает от стяжанного внутри светоблистания, подобно тому как и чувственный огнь передает свое действо железу…»[84] Однако как железо не превращается в огонь, но остается железом и лишь очищается, так и здесь преображается вся человеческая природа, но ничто в ней не подвергается ни упразднению, ни ущерблению. Наоборот, очищаясь от постороннего, чуждого ей греховного элемента, она одухотворяется, просвещается. Поэтому можно сказать, что святой является человеком в большей мере, чем человек грешный, ибо, восстанавливая в себе богоподобие, он достигает изначального смысла своего бытия, облекается в нетленную красоту Царствия Божия, в созидании которого он участвует своей жизнью. Поэтому и сама красота в понимании Православной Церкви не есть красота, свойственная твари, а атрибут Царствия Божия, где Бог будет всяческая во всем… Святой Дионисий Ареопагит называет Бога Красотой – «по причине великолепия, от Него сообщаемого всем сущим, каждому в его меру, а также видя в Нем причину гармонии и блистательного одеяния всей твари, ибо Он осиявает все подобно свету Своими сообщающими красоту раздаяниями из источника Своего Светоизлучения»[85]. Итак, всякая тварь в меру, ей свойственную, причастна Божественной Красоте, носит на себе как бы печать своего Творца. Эта печать, однако, не есть богоподобие, а лишь красота, свойственная твари. Она средство, а не цель, она путь, на котором невидимая бо Его от создания мира твореньми помышляема видима суть, и присносущная сила Его и Божество… (Рим. 1:20). Красота видимого мира – не в преходящем великолепии его теперешнего состояния, а в самом смысле его существования, в его грядущем преображении, заложенном в нем как возможность, осуществляемая человеком. Иначе говоря, красота есть святость и ее сияние, причастие твари Божественной Красоте.
В плане человеческого творчества она – данное Богом завершение, печать соответствия образа своему первообразу, символа – тому, что он изображает, т. е. Царству Духа. Красота иконы – красота стяжанного подобия Богу, и потому ценность ее не в том, что она красива сама по себе, что она является красивым предметом, а в том, что она изображает Красоту.
О том, чем является изображение, икона по отношению к изображенному, отцы VII Вселенского Собора, очевидно в ответ на обвинение иконоборцами православных в несторианстве, говорят следующее: «Хотя кафолическая Церковь и изображает живописно Христа в человеческом образе, но она не отделяет плоти Его от соединившегося с ней божества; напротив, она верует, что плоть обоготворена и исповедует ее единою с божеством, согласно учению великого Григория Богослова, и с истиною, а не делает через это плоти Господней необоготворенною <…>. Как изображающий живописно человека не делает его через это бездушным, а напротив, человек этот остается одухотворенным, и картина называется его портретом вследствие ее сходства, так и мы, делая икону Господа, плоть Господа исповедуем обоготворенною и икону признаем не за что-либо другое, как за икону, представляющую подобие первообраза. Потому-то икона получает и самое имя Господа; чрез это только она находится и в общении с Ним; по тому же самому она и досточтима и свята»[86]. Как явствует из этих слов, икона представляет собой подобие не одухотворенного, а обоготворенного первообраза, т. е. является изображением (конечно, условным) не тленной, а преображенной, просветленной божественным светом плоти. Это Красота и Слава, переданные материальными средствами и видимые в иконе телесными очами. Поэтому все, что напоминает тленную плоть человека, противно самой природе иконы, ибо плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления (1 Кор. 15:50), и мирской портрет святого иконой его не может быть именно потому, что отражает не преображенное, а житейское, плотское его состояние. Эта же особенность иконы выделяет ее из всех видов изобразительного искусства.
Итак, изображая Ипостась воплощенного Бога-Слова, икона свидетельствует о непреложности и полноте Его воплощения; с другой стороны, мы исповедуем этой иконой, что изображенный на ней «Сын Человеческий» есть воистину Бог, – откровенную истину. Устремление человека к Богу, субъективная, личная сторона веры встречается здесь с ответом Бога человеку, с откровением – объективным, опытным знанием, которое человек выражает в слове или в образе. Поэтому литургическое искусство есть не только наше приношение Богу, но и схождение Бога к нам, одна из форм, в которых совершается встреча Бога с человеком, благодати с природой, вечности с временем. Те формы, в которых запечатлевается это взаимное проникновение божественного и человеческого, передаются Преданием и, постоянно обновляясь, вечно живут в Теле Христовом – в Церкви. Будучи организмом божественным и человеческим, так же как и Богочеловек Иисус Христос, Церковь нераздельно и неслиянно сочетает в себе две реальности: реальность историческую, земную и реальность всеосвящающей благодати Духа Святого. Смысл церковного искусства, и в частности иконы, заключается именно в том, что она передает, вернее, наглядно свидетельствует об этих двух реальностях, реальности Бога и мира, благодати и природы. Она реалистична в двух смыслах. Так же как Священное Писание, икона передает исторический факт, событие Священной истории или представляет историческое лицо, изображенное в его реальном, телесном облике, и, так же как и Священное Писание, указывает на вневременное Откровение, содержащееся в данной исторической действительности. Таким образом, через икону, так же как через Священное Писание, мы не только узнаем о Боге, но и познаем Бога.
Если преображение есть просвещение всего человека, молитвенное озарение его духовно-материального состава нетварным светом Божественной благодати, явление человеком живой иконы Бога, то икона есть внешнее выражение этого преображения, изображение человека, исполненного благодати Духа Святого. Икона, таким образом, не есть изображение Божества, а указание на причастие данного лица божественной жизни. Она – свидетельство о конкретном, опытном знании освящения человеческого тела[87].
Через воплощение Сына Божия человек получает возможность не только восстановить содействием благодати Святого Духа свое подобие Богу, т. е. творить икону из самого себя внутренним деланием, но и изъяснять свое благодатное бытие другим в образах словесных и образах видимых, т. е. творить икону вовне, из окружающей его материи, освященной пришествием Бога на землю – «делом и словом сие воображаем». Таким образом, святость есть реализация возможностей, данных человеку Боговоплощением, пример для нас; икона – раскрытие реализации, образное изложение этого примера. Иначе говоря, в иконе видимо передается осуществление упомянутой нами святоотеческой формулы: «Бог стал Человеком, чтобы человек стал богом». Отсюда та органическая связь, которая существует в Православной Церкви между почитанием икон и почитанием святых. Понятна и та бережность, с которой сохраняется каждая внешняя черта святого. Благодаря этому иконография святых и отличается необычайной устойчивостью. В этом сказывается не только желание передать освященный традицией образ, но и потребность сохранить живую и непосредственную связь с изображенным на иконе лицом. Поэтому, обязательно передавая род служения святого – апостольского, святительского, мученического, – икона с особой тщательностью воспроизводит характерные, отличительные его черты. Этот иконографический реализм лежит в основе иконы и является поэтому одним из главнейших ее элементов[88]. При этом личное, индивидуальное часто дается лишь в тонких чертах, оттенках, особенно когда изображенные лица имеют общие внешние признаки. Поэтому иконы, когда их много, производят на стороннего человека впечатление однообразия и даже некоторой шаблонности. Характерно, что то же впечатление остается и при поверхностном чтении житий святых. Как в иконе, так и в житии на первый план выступает не индивидуальность, а смирение личности перед тем, что она несет.
Благовестие Захарии. Cтрогановский иконописный подлинник
Прп. Даниил Столпник, сщмчч. Евграф, Ермоген и Мина. Cтрогановский иконописный подлинник
Однако и недостаточное сходство не является причиной отсутствия связи с первообразом или почитания его. «Если мы, – говорит прп. Феодор Студит, – даже и не признаем, что икона изображает одинаковый образ по сравнению с прототипом (первообразом) – вследствие неискусства (работы), то и в таком случае наша речь не будет заключать нелепости. Ибо поклонение (воздается иконе) не постольку, поскольку она отступает от сходства (с первообразом), но поскольку она представляет подобие (с ним)…»[89] Сходство, таким образом, может ограничиваться типической верностью первообразу и, не выражая его индивидуальности, довольствоваться его подобием, как это делают, например, приведенные в настоящей книге прориси. Однако обычно верность первообразу такова, что православный церковный человек без труда узнает на иконе чтимых святых, не говоря уже об иконах Спасителя и Божией Матери. Если же святой ему незнаком, то он всегда скажет, к какому чину святых он принадлежит: преподобный ли он, мученик, святитель и т. д. Благоговейно сохраняя память святых и их черты, Православная Церковь никогда не признавала писание их икон по воображению художника или с живой модели, ибо в таком случае происходит полный и сознательный разрыв с первообразом и первообраз, чьим именем надписывается икона, произвольно заменяется другим лицом. Дабы избежать вымысла и разрыва между образом и первообразом, иконописцы пишут с древних икон или пользуются пособиями. Древним иконописцам лики святых были так же знакомы, как лица близких им людей. Они писали их или по памяти, или в других случаях пользовались набросками, зарисовками и т. п.[90] Когда живое предание начало теряться, в конце XVI в., эти пособия были систематизированы, и появились так называемые лицевые и толковые подлинники. Первые дают схематическую иконографию святых и праздников (см. воспроизведенные на с. 55 схемы) с указанием основных цветов; вторые дают те же указания основных цветов и краткое описание характерных черт святых. С тех пор эти подлинники и являются необходимыми техническими пособиями для иконописцев. Их никак не следует смешивать ни с иконописным каноном, ни со Священным Преданием, как это иногда делается.
Та же устойчивость иконографии и по тем же причинам характерна для изображения праздников. Подавляющее большинство этих изображений восходит к первым векам христианства и возникло на местах самих событий. Почти все они, как и сами праздники, имеют сиро-палестинское происхождение, приняты Церковью как исторически наиболее точные[91] и свято сохраняются по настоящее время Православной Церковью. И здесь, стремясь прежде всего избежать всякого вымысла, икона строго следует Священному Писанию и Священному Преданию, передавая факты с той же лаконичностью, что и Евангелие, изображая лишь то, что передается текстом и преданием и что необходимо для выражения явленного в данном конкретном событии вневременного Откровения. Как и в Священном Писании, детали допускаются лишь те, которые для этого необходимы и достаточны. На некоторых изображениях праздников связывается в одну композицию сразу несколько различных по времени и месту действия моментов (например, в Рождестве Христове, Рождестве Богородицы, Женах Мироносицах у Гроба и др.). Таким образом, так же как и в богослужении, в иконе во всей возможной полноте передается смысл праздника.
Рождество Христово. Византия. Первая половина XV в. Византийский музей
Рождество Богородицы. Миниатюра греческой рукописи Гомилии Иакова Коккиновафского. Первая половина XII в. Ватиканская библиотека
Вторая реальность – присутствие всеосвящающей благодати Духа Святого, святость – не передаваема никакими человеческими средствами, так же как невидима она для внешнего, чувственного взгляда. В жизни, встречая святых, мы проходим мимо, не замечая их святости, ибо внешних признаков она не имеет. «Мир не видит святых подобно тому, как слепые не видят света», – говорит митрополит Филарет[92]. Но, будучи невидима для непросвещенного взора, святость очевидна для вйдения духовного. Церковь, признавая человека святым, прославляя его, указывает на его святость видимым образом на иконах с помощью установленного ею символического языка: нимба, форм, красок и линий. Эта символика указывает на то, чего непосредственно изобразить нельзя. Но при ее посредстве Откровение горнего мира, будучи выраженным в материи, становится явным для всякого человека, доступным созерцанию и разумению. Она раскрывает то, чего человек достиг своим подвигом и как он этого достиг. Поэтому иконописный канон, о котором говорилось выше, определяет не только сюжет иконы – то, что изображается, но и то, как его следует изображать, какими средствами можно указать на присутствие благодати Духа Святого в человеке и как сообщить его состояние другим.
Св. Евфимий. Фреска кафоликона монастыря Пантократор. 1363 г. Афон
Горки. Деталь иконы Св. Иоанн Креститель. Ангелос. Середина XV в. Византийский музей
Выше мы говорили, что икона есть внешнее выражение преображенного состояния человека, его освящения нетварным Божественным светом. Как в святоотеческой письменности, так и в житиях православных святых мы часто встречаемся с этим явлением света, как бы внутренним солнцевидным излучением ликов святых в моменты их высшего духовного подъема и прославления. Это явление света передается в иконе венчиком, который и является точной живописной передачей действительного явления духовного мира. Духовный же строй, внутреннее совершенство человека, внешним проявлением которого является этот свет, ни иконографически, ни словесно передать невозможно. Обычно, когда отцы и аскетические писатели доходят до описания самого момента освящения, они характеризуют его лишь как полное молчание в силу его совершенной неописуемости и невыразимости. Однако действие этого состояния на человеческую природу, и в частности на тело, все же поддается в известной мере описанию и изображению. Так, например, прп. Симеон Новый Богослов, как мы видели, прибегает к образам. Русский епископ XIX в. Игнатий Брянчанинов описывает его более конкретно: «Когда молитва осенится Божественною благодатию <…>, – говорит он, – вся душа повлечется к Богу непостижимою духовною силою, увлекая с собою и тело. <…> Не только сердце обновленного человека, не только душа, но и плоть исполняется духовного утешения и услаждения: радости о Бозе живе (Пс. 83:3)»[93]. Другими словами, когда человек достигает того, что обычное рассеянное состояние, «помыслы и ощущения, возникающие от падшего естества»[94], сменяются при содействии Духа Святого сосредоточенным молитвенным состоянием, все существо человека сливается воедино в общем устремлении к Богу. «Все, что было в нем беспорядком, – говорит св. Дионисий Ареопагит, – упорядочивается, что было бесформенным – оформляется, и жизнь его просвещается полным светом»[95]. Сообразно с этим состоянием святого вся фигура его, изображенная на иконе, его лик и другие детали – все теряет свой чувственный вид тленной плоти, одухотворяется. Переданное в иконе, это измененное состояние человеческого тела является видимым выражением догмата преображения и имеет величайшее воспитательное значение[96]. Слишком тонкий нос, маленький рот, большие глаза – все это условная передача состояния святого, чувства которого «утончены», как говорили в старину. Органы чувств, так же как и остальные детали: морщины, волосы и т. д., – все подчинено общей гармонии образа и, так же как и все тело святого, объединено в одном общем устремлении к Богу. Все приведено к высшему порядку: в Царстве Духа Святого нет беспорядка, «ибо Бог есть Бог порядка и мира»[97]. Беспорядок же есть атрибут человека падшего, следствие его падения. Конечно, это не значит, что тело перестает быть тем, что оно есть, оно не только остается телом, но, как мы говорили выше, сохраняет все физические особенности данного лица. Но переданы они в иконе так, что она показывает не житейское лицо человека, как это делает его портрет, а его прославленный вечный лик[98]. Если этот язык иконы стал для нас непривычным и кажется «наивным» и «примитивным», то это не вследствие того, что икона «отжила» или утеряла свою жизненную силу и значение, а в силу того, что «даже знание о существовании способности тела человеческого к ощущению духовному утрачено человеками»[99].
Отмеченный выше прием не только символически передает в образе преображенное состояние святого, но имеет определенное созидательное и воспитательное значение. Он обращен к нам и является назиданием и указанием, как мы должны держать себя в нашей молитве, нашем общении с Богом, указанием на то, что наши чувства не должны рассеиваться и отвлекаться от молитвы проявлениями внешнего мира. Прекрасную словесную иллюстрацию этого приема в иконе мы находим в Добротолюбии, в творениях прп. Антония Великого. «Дух сей, – говорит он, – сочетавшись с умом <…> научает его держать в порядке тело – все, с головы до ног: глаза, чтоб смотрели с чистотою; уши, чтоб слушали в мире <…> и не услаждались наговорами, пересудами и поношениями; язык, чтоб говорил только благое <…> руки, чтоб были приводимы прежде в движение только на воздеяние в молитвах и на дела милосердия <…> чрево, чтоб держалось в должных пределах в употреблении пищи и пития <…> ноги, чтоб ступали право и ходили по воле Божией <…>. Таким образом тело все навыкает всякому добру и изменяется, подчиняясь власти Св. Духа, так что наконец становится в некоторой мере причастным тех свойств духовного тела, какие имеет оно получить в воскресение праведных»[100].
Итак, икона не отрывается от мира, не замыкается в себе. Ее обращенность к миру подчеркивается еще и тем, что святые обычно изображаются лицом к молящемуся или вполоборота. В профиль они почти не изображаются, даже в сложных композициях, где общее их движение обращено к композиционному и смысловому центру. Профиль в некотором смысле уже прерывает общение, он как бы начало отсутствия. Поэтому он допускается главным образом в изображении лиц, не достигших святости (см., например, пастухов или волхвов в иконе Рождества Христова).
Дева Мария. Деталь иконы Благовещение. Конец XIV в. ГТГ
Св. апостол Иаков. Деталь иконы Преображение Господне. Мастер круга Феофана Грека. Начало XV в. ГТГ
Икона ни в коем случае не стремится расчувствовать верующего. Ее задача состоит не в том, чтобы вызвать в нем то или иное естественное человеческое переживание, а в том, чтобы направить на путь преображения всякое чувство, так же как и разум, и все другие свойства человеческой природы. Как мы говорили выше, благодатное освящение ничего не упраздняет из свойств этой природы, так же как огонь не упраздняет свойств железа. В соответствии с этим и икона, передавая тело человека со всеми его особенностями, не упраздняет ничего человеческого: она не исключает ни элемента психологического, ни элемента мирского. Икона передает и чувства человека (смущение Божией Матери в Благовещении, ужас апостолов в Преображении и т. д.), и знания, и художественное творчество (см., например, разбор иконы Рождества Христова), и ту земную деятельность – церковную (святителя, монаха) или светскую (князя, воина, врача), – которую святой обратил в духовный подвиг. Но, так же как и в Священном Писании, весь груз человеческих мыслей, чувств и знаний изображается на иконе в своем соприкосновении с миром божественной благодати, и от этого соприкосновения, как в огне, сгорает все, что не очищается. Всякое проявление человеческой природы осмысляется, просвещается, находит свое подлинное значение и место. Таким образом, именно в иконе все человеческие чувства, мысли и дела, как и само тело, переданы во всей своей полноценности.
Свв. Иаков, брат Божий, Косма и Дамиан. Первая половина XVI в. ЦМиАР
Икона, таким образом, – и путь, и средство; она сама молитва. Отсюда иератичность иконы, ее величественная простота, спокойствие движения; отсюда ритм ее линий, ритм и радость ее красок, вытекающие из совершенной внутренней гармонии[101].
Преображение человека сообщается всему его окружению, ибо свойство святости – освящение всего окружающего, соприкасающегося со святым мира. Она имеет значение не только личное, но и общечеловеческое, и космическое. Поэтому весь видимый мир, изображаемый на иконе, меняется, становится образом грядущего единства всей твари, Царства Духа Святого. В соответствии с этим все, что изображается на иконе, отражает не беспорядок нашего греховного мира, а божественный порядок, покой, где царствует не земная логика, не человеческая мораль, а божественная благодать. Это новый порядок в новой твари. Поэтому то, что мы видим на иконе, не похоже на то, что мы видим в обыденной жизни. Божественный свет проникает всё, и поэтому нет никакого источника света, освещающего изображенное на иконе с той или другой стороны: предметы не отбрасывают теней, ибо их нет в Царствии Божием. Все залито светом; на техническом языке иконописцев «светом» называется самый фон иконы. Люди не жестикулируют; их движения не беспорядочны, не случайны; они священнодействуют, и каждое их движение носит характер сакраментальный, литургический. Начиная с одежды святого все теряет свой обычный беспорядочный вид: люди, пейзаж, архитектура, животные. Вместе с фигурой самого святого все подчинено одному ритмическому закону, все сконцентрировано на духовном содержании и действует как полное единство: земля, растительный и животный мир изображаются не для того, чтобы приблизить зрителя к тому, что мы видим в окружающей нас действительности, а для того, чтобы саму природу сделать участницей преображения человека и, следовательно, приобщить ее вневременному бытию. Как по вине человека тварь пала, так его святостью она освящается. Поэтому отдельной иконы твари, вне человека, не может быть.
Особняком стоит и играет совершенно особую роль в иконе архитектура. Указывая, так же как и пейзаж, на то, что происходящее в иконе действие исторически связано с определенным местом, она, тем не менее, это действие никогда в себе не вмещает, а лишь служит для него фоном, ибо по самому смыслу иконы действие не замыкается, не ограничивается местом, так же как, явленное во времени, оно не ограничивается временем. Поэтому сцена, происходящая внутри здания, всегда развертывается перед зданием. Только с XVII в. иконописцы, подпавшие под западное влияние, начали изображать действие происходящим внутри здания. С человеческой фигурой архитектура связана общим смыслом и композицией, но очень часто логической связи с ней не имеет (см., например, ил. на с. 200: св. Макарий Унженский, а также на с. 178: св. евангелист Лука). Если мы сравним то, как передается в иконе человеческая фигура и как передается здание, то увидим между ними большую разницу: человеческая фигура, за редкими исключениями, всегда правильно построена, в ней все на своем месте; то же и в одежде. Ее разделка, построение складок и т. д. не выходит из рамок логики. Архитектура же как по своим формам, так и по их распределению часто идет вразрез с человеческой логикой и в отдельных деталях подчеркнуто алогична. Двери и окна часто пробиты не на месте, размер их не соответствует назначению и т. д (см. характерный пример в иконе Благовещения, ил. на с. 256, где ножка непонятной надстройки висит над столь же непонятным отверстием в потолке). Смысл этого явления в том, что архитектура – единственный элемент в иконе, при помощи которого можно ясно показать, что происходящее перед нашими глазами действие – вне законов человеческой логики, вне законов земного бытия. Характерно, что эта алогичность архитектуры существовала в русской иконе вплоть до начала упадка, т. е. до того момента, когда в конце XVI – начале XVII в. начало теряться понимание иконописного языка. С этого времени архитектура становится логичной и происходит фантастическое, сказочное нагромождение уже совершенно рациональных архитектурных форм.
Из вышесказанного явствует, что в задачу иконы ни в коем случае не входит создание иллюзии самого изображенного на ней предмета или события, ибо по самому своему определению икона (т. е. образ) противоположна иллюзии. Глядя на нее, мы не только знаем, но и видим, что стоим не перед самим лицом или событием, а перед его образом, т. е. предметом, который своей природой коренным образом отличается от своего первообраза. Этим исключается всякая попытка создать иллюзию реального пространства или объема. Пространство и объем в иконе ограничиваются плоскостью доски и не должны создавать искусственного впечатления выхода за нее. Однако это искусство не плоскостное в том смысле, как искусства Востока: живописная идея объема всегда существует в иконе, в трактовке самих фигур, ликов, одежд, зданий и т. д.; композиция в иконе всегда пространственна, и в ней есть определенная глубина. Она передает три измерения, но эти три измерения никогда не нарушают плоскости доски. Всякое нарушение этой плоскости, хотя бы частичное, ущербляет смысл иконы. Сохранению реальной плоскости в сильной степени способствует так называемая обратная перспектива, точка исхода которой находится не в глубине изображения, а перед изображением, как бы в самом зрителе[102]. Человек как бы стоит у начала пути, который не сосредоточивается где-то в глубине, а открывается перед ним во всей своей необъятности. Обратная перспектива не втягивает взгляд зрителя, а, наоборот, задерживает, препятствуя возможности проникнуть и войти в изображение, в его глубину, концентрируя все внимание зрителя на самом изображении.
Описанная символика иконы, естественно, порождает вопрос: на чем мы основываемся, утверждая, что символы, которыми мы пользуемся для передачи, вернее, для указания на преображенное состояние человека, действительно соответствуют этому состоянию, а не уводят нас в мир воображаемый, фантастический? Ответить на этот вопрос мы можем словами апостола Павла: мы имеем облежащь нас облак свидетелей (Евр. 12:1). Действительно, если в иконографии святых и событий Священной истории Церковь приняла те переводы, которые наиболее полно и точно выражают историческую реальность, то реальность Царства Духа Святого сообщается людьми, стяжавшими уже здесь, в наших земных условиях, начатки этого Царствия. Подобно тому как великие подвижники оставили нам в словесных образах описания Царствия Божия, которое было внутри их (см.: Лк. 17:21), другие подвижники оставили те же описания его в образах видимых, на языке художественных символов, и свидетельство их столь же подлинно. Оно – то же откровенное богословие, только в образах. Это своего рода писание с натуры при помощи символов, так же как и словесные описания святых отцов, «ибо мы говорим о том по созерцанию, – свидетельствует прп. Симеон Новый Богослов. – Почему и сказываемое должно быть именуемо паче повествованием о созерцаемом, а не помышлением ()»[103]. Как Священное Писание, так и священный образ передает не человеческие идеи и представления об истине, а саму истину – Божественное откровение. Ни реальность историческая, ни реальность духовная не допускают никакого вымысла. Поэтому церковное искусство, как мы сказали, реалистично в самом строгом смысле этого слова как в своей иконографии, так и в своей символике. Идеализации в подлинном церковном искусстве нет, так же как нет ее и в Священном Писании, и в литургии, и быть не может, ибо идеализация, как привнесение субъективного, ограниченного элемента, неизбежно в той или иной мере ущербляет или искажает истину. Распространенное мнение, что церковное искусство, и в частности икона, идеалистичны, что икона передает некую высшую идею, мнение, основанное на том, что реализм этого искусства не похож на то, что обычно понимается под этим словом, есть чистое недоразумение. Как раз наоборот: как только в образе появляется идеализация, так он перестает быть иконой. Это понятно, ибо от себя человек может возвещать только о самом себе. Никто не может возвещать о божественной жизни сам от себя. «Кто может сказать что сам от себя о каком-либо предмете, которого прежде не видал? <…> как можно сказывать и извещать что-либо о Боге, о божественных вещах и о святых Божиих, т. е. какого общения с Богом сподобляются святые и что это за ведение Бога, которое бывает внутрь их и которое производит в сердцах их неизъяснимые воздействия, – как можно сказать о сем что-либо тому, кто не просвещен наперед светом ведения?»[104] Поэтому икону выдумать нельзя. Только люди, знающие по собственному опыту то состояние, которое в ней передается, могут создавать соответствующие ему образы, являющиеся действительно «объяснением и обнаружением скрытого»[105], т. е. участия человека в жизни созерцаемого им преображенного мира, подобно тому как Моисей сотворил такие образы, какие видел, и сделал херувимов, какими видел их[106], т. е. по «образу, показанному на горе» (ср.: Исх. 25:40). Только такой образ может в своей подлинности и убедительности указать нам путь и увлечь нас к Богу. Никакое артистическое воображение, никакое совершенство техники, никакой художественный дар не может заменить положительного знания «от видения и созерцания»[107].
Из этого, конечно, не следует выводить заключение, что одни только святые могут писать иконы. Церковь состоит не только из святых. Все члены ее, живущие сакраментальной жизнью, имеют право и обязаны следовать их пути. Поэтому всякий православный иконописец, живущий в Предании, может создавать подлинные иконы. Однако неистощимым источником, питающим церковное искусство, является Сам Дух Святой через Церковь, посредством людей, просвещенных божественной благодатью и достигших непосредственного ведения Бога и общения с Ним и потому прославленных Церковью как святые иконописцы. Таким образом, роль Предания не ограничивается передачей самого факта существования иконы. С одной стороны, оно передает образ события Священной истории, прославленного Церковью святого как память об этом событии или лице, с другой стороны, оно есть постоянный, неиссякаемый ток ведения, сообщаемый Духом Святым Церкви. Поэтому Церковь неоднократно, как соборными постановлениями, так и голосом своих иерархов указывала на необходимость следовать Преданию и писать «так, как писали древние святые иконописцы». «Изображай красками согласно Преданию, – говорит св. Симеон Солунский, – это есть живопись истинная, как писание в книгах, и благодать Божия покоится на ней потому, что изображаемое свято»[108].
В силу этого и само творчество иконы принадлежит к категории, в корне отличной от того, что обычно понимается под этим словом. Оно носит характер творчества соборного, а не личного. Иконописец передает не свое «помышление», а «повествование о созерцаемом», т. е. фактическое знание, то, что видел хотя и не он сам, но верный свидетель. Опыт этого свидетеля, получившего и передавшего откровение, обрастает опытом всех, кто принял его после него. Таким образом, единство откровенной истины сочетается с многообразным личным опытом ее восприятия. Для того чтобы принять и передать полученное свидетельство, иконописец должен не только верить в его подлинность, но и быть участником той жизни, которой жил свидетель откровения, идти с ним одним путем, т. е. быть членом тела Церкви. Только тогда он может сознательно и верно передавать полученное свидетельство. Отсюда необходимость постоянного участия в сакраментальной жизни Церкви; отсюда же и моральные требования, предъявляемые Церковью иконописцам. Для подлинного иконописца творчесво – путь аскезы и молитвы, т. е., по существу, путь монашеский. Красота иконы и ее содержание хотя и воспринимаются каждым зрителем субъективно, в меру его возможностей, выражаются иконописцем объективно, через сознательное преодоление своего «Я», подчинение его откровенной истине, авторитету Предания. Пресловутое «я так вижу» или «я так понимаю» в данном случае совершенно исключается; иконописец работает не для себя и не для своей славы, а во славу Божию. Поэтому икона никогда не подписывается. Свобода иконописца состоит не в беспрепятственном выражении его личности, его «Я»[109], а в «освобождении от всех страстей и от похотей мирских и плотских»[110]. Это та духовная свобода, о которой говорит апостол Павел: …идеже Дух Господень, ту свобода (2 Кор. 3:17). На этом пути руководящим началом является вышеупомянутый иконописный канон. Он представляет собой не сумму внешних правил, ограничивающих творчество художника, а внутреннюю необходимость, сознательно принятую как созидательное правило, как один из видов церковного Предания наравне с преданием литургическим, аскетическим и другими. Иными словами, канон есть та форма, в которую Церковь облекает подчинение воли человеческой воле Божией, их сочетание, и эта форма дает личности фактическую возможность не быть в подчинении у своей греховной природы, а овладеть ею, подчинить ее себе, быть «господином своих действий и независимым»[111], или, как говорит св. апостол Павел: Вся ми леть суть… но не аз обладая буду от чего (1 Кор. 6:12). Этим путем максимально осуществляется свободное творчество человека, источником питания которого становится благодать Духа Святого. Поэтому только церковное творчество есть прямое участие в божественном акте, действие в полной мере литургическое, а потому наиболее свободное.
Степень литургического качества искусства пропорциональна степени духовной свободы художника. Икона может быть технически совершенна, но духовно стоять на низком уровне; и наоборот, есть иконы, написанные грубо и примитивно, но очень высокого духовного уровня.
Задача иконописца имеет много общего с задачей священнослужителя. Так, например, Феодосий Пустынник проводит между ними определенную параллель. Он говорит: «Божественная служба иконное воображение от святых апостол начало прият, подобает священнику и иконописцу чистым быти или женитися и по закону жити, понеже священник служа божественными словесы составляет Плоть, ейже мы причащаемся во оставление грехов. И иконописец же вместо словес начертает и воображает плоть и оживляет, имже мы покланяемся первообразных ради любве державне, а не служебне…»[112] Как священнослужитель не может ни изменять литургических текстов по своему усмотрению, ни вносить в их чтение никаких эмоций, могущих навязать верующим его личное состояние или восприятие, так и иконописец обязан придерживаться освященного Церковью образа, не внося в него никакого личного, эмоционального содержания, ставя всех молящихся перед одной и той же реальностью и оставляя каждому свободу реагировать в меру своих возможностей и в соответствии со своим характером, потребностями, обстоятельствами и т. д. При этом как священнослужитель совершает службу в соответствии со своими природными дарованиями и особенностями, так и иконописец передает образ соответственно своему характеру, дарованиям и техническому опыту.
Иконописание посему не есть копирование. Оно далеко не безлично, потому что следование традиции никогда не связывает творческих сил иконописца, индивидуальность которого проявляется как в композиции, так и в цвете и в линии; но личное здесь проводится гораздо тоньше, чем в других искусствах, и потому часто ускользает от поверхностного взгляда. Уже давно отмечался факт отсутствия одинаковых икон. Действительно, среди икон на одну и ту же тему, несмотря порой на их исключительную близость, мы никогда не встречаем двух икон, которые были бы абсолютно тождественны (за исключением случаев нарочитого копирования в позднейшее время). Делаются не копии икон, а списки с них, т. е. свободное, творческое их переложение.
Исходя из смысла и содержания иконы, отцы VII Вселенского Собора, утвердив возможность передавать через освященную Боговоплощением материю благодатное состояние человека, определили поставлять иконы для почитания повсеместно, подобно изображению Честного и Животворящего Креста: «…во святых церквах Божиих на священных сосудах и одеждах, на стенах и на дощечках или в домах и при дорогах…»[113] Это постановление Священного Собора свидетельствует о том, что в сознании Церкви роль иконы, передаваемая Преданием, не ограничивается хранением памяти о священном прошлом. Роль ее как в Церкви, так и в мире отнюдь не консервативная, а динамически строительная. Икона рассматривается как один из путей, при помощи которых можно и должно стремиться к достижению поставленной перед человечеством задачи уподобления Первообразу, к воплощению в жизни того, что явлено и передано Богочеловеком. В этом смысле иконы поставляются повсеместно как откровение будущей святости мира, его грядущего преображения, проект его реализации и, наконец, как проповедь благодати и присутствие в мире освящающей его святыни. «Ибо святые и при жизни были исполнены Святого Духа, также и по смерти их благодать Святого Духа неистощимо пребывает и в душах, и в телах, лежащих во гробах, и в их чертах, и в святых их изображениях…»[114]
Таким образом, когда в XIV столетии в ответ на схоластическое учение, выявившееся в споре о Фаворском свете, Церкви пришлось явить в форме догматического определения свое учение об обожении человека, то она уже не только фактически, духовным опытом своих подвижников, но и образно, на языке искусства, учила о действии в человеке Божественной энергии, о благодатном его озарении, преображении. Этот наметившийся в первохристианскую эпоху вдвойне реалистический язык церковного искусства получает свое догматическое обоснование в связи с утверждением догмата о вочеловечении Второго Лица Святой Троицы («Бог стал Человеком») в первый период истории Церкви, завершившийся торжеством Православия. Во второй период, в течение шести веков после иконоборчества, когда центральным вопросом является вопрос о Святом Духе в связи с защитой другого аспекта того же догмата («чтобы человек стал богом»), образный язык Церкви совершенствуется и уточняется. В этот период окончательно складывается тот ставший классическим язык иконы, который вполне соответствует ее содержанию. С этим периодом связан и расцвет церковного искусства в разных православных странах: в Греции, на Балканах, в России, Грузии и др.
Однако как сама святость, отражением которой является икона, проявляется по-разному в разных народах и эпохах в соответствии с их особенностями, так и каждый народ и каждая эпоха, передавая в образах одну и ту же истину, создают иконы различных типов, порой очень близких, порой сильно отличающихся друг от друга. В этом нет противоречия, ибо единое Откровение выражается в различных своих аспектах в зависимости от потребностей той или иной эпохи, того или иного народа. Так, суровая иератичность икон византийских не противоречит мягкости и умиленности икон русских, ибо Бог не только Вседержитель и грозный Судия, но и Спаситель мира, принесший Себя в жертву за грехи людей. Как уже в первохристианскую эпоху, так и впоследствии икона не ограничивается выражением одной догматической, духовной, т. е. внутренней, жизни Церкви. Через людей, которые ее творят, она находится в живой связи с внешним миром, являя духовный облик каждого народа, его характер, его историю средствами и способами, свойственными каждой эпохе и каждому народу, отвечая на всю сложную проблематику момента и места. Но как бы сильно ни проявлялись в иконе черты, связывающие ее с внешним миром, все же они являются только внешними признаками, а не сущностью иконы, которая заключается прежде всего в выражении церковного учения.
В связи с даром выражения, свойственным как отдельному человеку, так и целому народу, а также в связи с тем, в какой мере Откровение опытно переживается, оно и передается в образе более или менее совершенно. Эти два положения лежат в основе как общности, так и различия, которые существуют между иконами различных народов и эпох. Степень подчинения дара выражения Откровению, которое он должен выразить, обусловливает духовную высоту и чистоту образа. В этом смысле наиболее характерен пример Византии и России, двух стран, в которых церковное искусство достигло наибольшей высоты своего выражения. Искусство Византии, аскетическое и суровое, торжественное и изысканное, не всегда достигает той духовной высоты и чистоты, которые свойственны общему уровню русской живописи. Оно выросло и сформировалось в борьбе, и эта борьба наложила на него свой отпечаток. Византия (хотя ею были восприняты и достижения римской культуры) – главным образом плод античной (греческой. – Ред.) культуры, богатое и разнообразное наследие которой она была призвана воцерковить. На этом пути в связи с присущим ей даром глубокой, изощренной мысли и слова она воцерковила все, что касалось словесного языка Церкви. Она дала великих богословов; она сыграла большую роль в догматической борьбе Церкви, в том числе решающую – в борьбе за икону. Однако в самом образе, несмотря на высоту художественного выражения, часто остается некоторый налет не до конца изжитого античного наследия, которое дает себя чувствовать в большей или меньшей степени в разных преломлениях, отражаясь на духовной чистоте образа[115]. Даже памятники классической эпохи этого искусства, как, например, мозаики XII в. Святой Софии в Константинополе, не лишены определенно выраженной плотской тяжести; в них ощущается не до конца обретенный душевный и телесный покой[116]. Мозаики IX в. той же Константинопольской Софии дышат определенной античной чувственностью[117]. С этой неизжитостью и зависимостью от материи мы часто встречаемся и в византийских, и, позже, в греческих иконах.
Наоборот, Россия, которая не была связана всем комплексом античного наследия и культура которой не имела столь глубоких корней, достигла совершенно исключительной высоты и чистоты образа, которыми русская иконопись выделяется из всех разветвлений православной иконописи.
Богоматерь на престоле. Мозаика в апсиде церкви Св. Софии. 867 г. Константинополь
Именно России дано было явить то совершенство художественного языка иконы, которое с наибольшей силой открыло глубину содержания литургического образа, его духоносность. Можно сказать, что если Византия дала миру по преимуществу богословие в слове, то богословие в образе дано было Россией. В этом смысле характерно, что вплоть до петровского времени среди русских святых мало духовных писателей; зато многие святые были иконописцами, начиная с простых монахов и кончая митрополитами. Русская икона не менее аскетична, чем икона византийская. Однако аскетичность ее совершенно другого порядка. Акцент здесь ставится не на тяжести подвига, а на радости его плода, на благость и легкость бремени Господня, о которых Он Сам говорит в Евангелии, читаемом в дни святых аскетов-преподобных: Возмите иго Мое на себе и научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем: и обрящете покой душам вашим. Иго бо Мое благо, и бремя Мое легко есть (Мф. 11:29–30). Русская икона – высшее выражение в искусстве богоподобного смирения. Потому при необычайной глубине ее содержания она по-детски радостна и легка, полна безмятежного покоя и теплоты. Соприкоснувшись через Византию с античными традициями, главным образом в их эллинской основе (а не в римской их переработке), русская иконопись не поддалась обаянию этого античного наследия. Она пользуется им лишь как средством, до конца воцерковляет, преображает его, и красота античного искусства обретает свой подлинный смысл в преображенном лике русской иконы[118].
Вместе с христианством Россия получила от Византии в конце X в. уже установившийся церковный образ, формулированное о нем учение и зрелую, веками выработанную технику. Ее первыми учителями были приезжие греки, мастера классической эпохи византийского искусства, которые уже с самого начала в росписях первых храмов, как, например, Киевской Софии (1037–1161/67), пользовались помощью русских художников[119]. К XI в. относится и деятельность учеников греков, первых известных русских святых иконописцев, монахов Киево-Печерского монастыря прп. Алипия (Алимпия), умершего ок. 1114 г., и его сотрудника прп. Григория. Святой Алипий считается родоначальником русской иконописи.
Христос Пантократор. Мозаика. Деталь композиции Деисус на южной галерее церкви Св. Софии. Константинополь[120]
Богоматерь Нерушимая Стена. Мозаика в апсиде церкви Св. Софии. XI в. Киев
С детства начавший заниматься иконописью с приезжими греческими мастерами, затем постригшийся в монахи и ставший священником, он отличался неустанным трудолюбием, смирением, чистотой, терпением, постом и любовью к богомышлению. «Никогдаже бо огорчился еси на оскорбляющих тя, ниже воздал еси зло за зло», – поется ему в церковном песнопении[121]. Это был один из подвижников-аскетов, прославивших Киево-Печерскую Лавру[122].
Деисус. Владимиро-Суздальская Русь. Первая треть XIII в. ГТГ
В лице свв. Алипия и Григория русское церковное искусство с самого начала своего существования направляется людьми, просвещенными непосредственным ведением Откровения, которых впоследствии так много имела русская иконопись. К сожалению, несмотря на свидетельства о многочисленных написанных этими первыми иконописцами иконах, о них до сих пор существуют лишь предположения и догадки, но с достоверностью мы ничего не знаем. Вообще, о киевском периоде русского церковного искусства пока можно судить главным образом по фрескам и мозаикам. Монгольское нашествие, около середины XIII в. захлестнувшее большую часть России, не только уничтожило очень многое, но и в значительной мере подорвало производство новых икон. Сохранившиеся же и до сих пор открытые иконы этого периода, которых очень мало, относятся к концу XI, XII и XIII вв., причем почти все они с большей или меньшей достоверностью приписываются Новгороду, истоки искусства которого также восходят к XI в.
Рязань и др. Кроме того, открытие все новых и новых икон вынуждает делать постоянные поправки.
Богоматерь Владимирская. Андрей Рублев (?). Около 1408 г. Владимиро-Суздальский музей-заповедник
Иконам домонгольского периода присуща исключительная монументальность, свойственная стенной живописи, под воздействием которой русская иконопись находится еще в XIV в., и лаконизм художественного выражения как в композиции, так и в фигурах, жестах, складках одежд и т. д. Их колорит, в котором преобладают темные тона, сдержан и сумрачен. Однако уже в XIII в. этот сумрачный колорит начинает сменяться характерно русскими цветистыми и яркими красками. Появляется больше внутренней и внешней динамики, склонность к большей плоскостности. Ранние иконы при наличии в них русских черт, еще находятся в большей или меньшей зависимости от греческих образцов. Можно полагать, что XII в. проходит под знаком ассимиляции воспринятых от Византии принципов и форм церковного искусства, которые в XIII в. уже выступают в национальном русском преломлении, нашедшем окончательное свое выражение в XIV в.[123] Иконы этого времени отличаются свежестью и непосредственностью выражения, яркими красками, чувством ритма и простотой композиции. К этому периоду относится деятельность прославленных святых иконописцев – митрополита Московского Петра († 1326) и архиепископа Ростовского Феодора († 1394).
Свт. Иоанн Златоуст. Около 1425 г. Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры
Века XIV, XV и первая половина XVI представляют собой расцвет русской иконописи, совпадающий с расцветом святости, и именно преподобия, которое резко падает во второй половине XVI в. Это время дает наибольшее количество прославленных святых, особенно XV в.: с 1420 по 1500 г. число прославленных, преставившихся за этот период, достигает 50 человек.
Грань XIV и XV столетий связана с именем величайшего иконописца прп. Андрея (Рублева), работавшего со своим другом и учителем прп. Даниилом (Черным). За последние десятилетия открыт целый ряд написанных ими фресок и икон, среди которых первое место занимает непревзойденная Троица. Необычайная глубина духовного прозрения прп. Андрея нашла свое выражение при посредстве совершенно исключительного художественного дара. Творчество Андрея Рублева – наиболее яркое проявление в русской иконописи античного наследия. Вся красота античного искусства оживает здесь, просвещенная новым и подлинным смыслом. Его живопись отличается юношеской свежестью, чувством меры, максимальной цветовой согласованностью, чарующим ритмом и музыкой линий. Влияние прп. Андрея в русском церковном искусстве было огромным. Отзывы о нем сохранились в иконописных подлинниках, и Собор 1551 г. в Москве, созванный для решения вопросов, связанных с иконописью, митрополитом Макарием (который сам был иконописцем), принял следующее постановление: «Писати живописцем иконы с древних образцов, как греческие живописцы писали и как писал Андрей Рублев и прочие пресловущие иконописцы…»[124]О гибели его икон заносилось в летописи как о событиях, имевших большую важность и общественное значение. Творчество прп. Андрея кладет отпечаток на весь XV в. русского церковного искусства, которое достигает в этот период вершины своего художественного выражения. Это – классическая эпоха русской иконописи. Мастера XV в. достигают необычайного совершенства владения линией, умения вписывать фигуры в определенное пространство, находить прекрасное соотношение силуэта к свободному фону. Этот век во многом повторяет предыдущий, но отличается от него большим равновесием и построенностью. Исключительная, все пронизывающая ритмичность, необычайная чистота и глубина тона, сила цвета дают полное выражение радости и спокойствия созревшего художественного творчества, сочетавшегося с исключительной глубиной духовного прозрения.
Вторая половина XV и начало XVI в. связаны с другим гениальным мастером, имя которого ставилось рядом с именем при. Андрея, – Дионисием, работавшим со своими сыновьями. Его творчество, опираясь на традиции Рублева, представляет собой блестящее завершение русской иконописи XV в. Однако это завершение до некоторой степени связано с преобладанием внешних средств выражения. К концу XV и началу XVI в. живопись часто становится изысканной и формально утонченной. Этот период знаменует собой большое совершенство техники, изощренность линий, изысканность форм и красок. Для самого Дионисия, творчество которого проникнуто особой жизнерадостностью, характерны удлиненные, изысканные пропорции фигур, подчеркнутая грация движений, гибкий, сильный и плавный рисунок. Его чистый колорит с нежными зелеными, розовыми, голубыми и желтыми тонами отличается особой музыкальностью.
Дмитрий Прилуцкий. Дионисий. Конец XV – начало XVI в. Вологодский музей-заповедник
Богоматерь Тихвинская со сказанием в клеймах. Москва. Середина – третья четверть XVI в. Благовещенский собор Московского Кремля
Век XVI сохраняет духовную насыщенность образа; красочность иконы остается на прежней высоте и даже становится богаче оттенками. Этот век, как и предыдущий, продолжает давать замечательные иконы. Однако во второй половине XVI столетия величественная простота и державшаяся веками классическая мерность композиции начинают колебаться. Утрачиваются широкие планы и чувство монументальности образа, классический ритм и античная чистота и сила цвета. Появляется стремление к сложности, виртуозности и перегруженности деталями. Тона темнеют, тускнеют, и вместо прежних легких и светлых красок появляются плотные землистые оттенки, которые вместе с золотом создают впечатление пышной и несколько угрюмой торжественности. Это эпоха перелома в русской иконописи. Догматический смысл иконы перестает осознаваться как основной, и повествовательный элемент часто приобретает доминирующее значение. Появляется целый ряд новых тем, навеянных влиянием западных гравюр.
Чудо св. Феодора Тирона. Никифор Савин. Начало XVII в. ГРМ
Великомученик Никита Воин. Прокопий Чирин. 1593 г. ГТГ
Это время и начало XVII в. связано с деятельностью в северо-восточной России новой школы – строгановской, возникшей под влиянием семьи любителей иконописи Строгановых. Характерной чертой строгановских мастеров этого времени являются сложные, многоличные иконы и мелкое письмо. Они отличаются исключительной тонкостью и виртуозностью исполнения и похожи на драгоценные ювелирные изделия. Рисунок их сложен и богат деталями; в красках заметна скорее склонность к общему тону в ущерб яркости отдельных цветов.
Спас Нерукотворный. Симон Ушаков. 1678 г. ГТГ
Пророк Давид и царица Вирсавия. 1724–1729 гг. Иконостас церкви Свв. апп. Петра и Павла в Санкт-Петербурге. Музей религии
В XVII в. наступает упадок церковного искусства. Этот упадок явился результатом глубокого духовного кризиса, обмирщения религиозного сознания, благодаря которому в церковное искусство, несмотря на решительное сопротивление Церкви[125], начинают проникать уже не только отдельные элементы, но и сами принципы западного религиозного искусства, чуждые Православию. Догматическое содержание иконы исчезает из сознания людей, и для попавших под западное влияние иконописцев символический реализм становится непонятным языком. Происходит разрыв с Преданием. Церковное искусство обмирщается под воздействием зарождающегося светского реалистического искусства, родоначальником которого стал знаменитый иконописец Симон Ушаков. Это обмирщение является отражением в области искусства общего обмирщения церковной жизни. Происходит смешение образа церковного и образа мирского, Церкви и мира. Реализм символический, основанный на духовном опыте и ведении, при их отсутствии и отрыве от традиции исчезает. Это порождает образ, который свидетельствует уже не о преображенном состоянии человека, не о духовной реальности, а выражает различные представления и идеи по поводу этой реальности, и то, что в искусстве мирском является реализмом, в применении к искусству церковному превращается в идеализм. Отсюда и более или менее вольное обращение с самим сюжетом, который становится лишь поводом для выражения тех или иных идей и представлений, что ведет к неизбежному искажению и реализма исторического.
С утерей догматического сознания искусства искажается его основа[126] и уже никакое художественное дарование, никакая изощренная техника заменить его оказываются не в состоянии и иконопись становится полуремеслом или просто ремеслом.
Однако догматическое сознание образа не теряется Церковью, и не следует думать, что упадок этот явился концом иконы. Ремесленная иконопись, которая существовала всегда наряду с большим искусством, приобретает в XVIII, XIX и XX вв. лишь решающее, доминирующее значение. Но «даже теперь, в эпоху полного упадка нашей церковной живописи, лишенные всех других достоинств фрески или иконы останавливают вдруг взгляд какой-то стройностью и твердостью общего впечатления. Еще и до сих пор в этих плохих и ремесленных вещах есть то “все на месте”, которого так часто не хватает в новейшей живописи»[127].
Богоматерь Тихвинская. Урал. До 1898 г. Нижнесинячихинский музей-заповедник
Богоматерь Иверская. Москва. Начало XX в. Музей религии
Такова сила церковной традиции, которая даже на низшем уровне художественного творчества сохраняет отзвуки большого искусства. К тому же этот ремесленный уровень не был и не есть абсолютное правило. Наряду с расцерковленным, полумирским или просто мирским образом и плохой ремесленной иконой продолжали и продолжают делаться иконы высокого уровня как в России, так и в других православных странах в условиях упадка, наступившего в них в разное время. Иконописцы, не отступившие от иконописного предания Церкви, пронесли через эти века упадка и сохранили до наших дней подлинный литургический образ, порой большого духовного содержания и художественного уровня.
Христианство есть откровение не только Слова Божия, но и Образа Божия, в котором явлено Его подобие. Этот богоподобный Образ является отличительной чертой Нового Завета, будучи видимым свидетельством обожения человека. Пути иконописания как способа выражения того, что относится к Божеству, здесь те же, что и пути богословия. И то и другое призвано выражать то, чего человеческими средствами выразить нельзя, так как выражение всегда будет несовершенно и недостаточно. Нет таких слов, красок или линий, какими мы могли бы изобразить Царствие Божие так, как мы изображаем и описываем наш мир. И иконописание, и богословие стоят перед заведомо неразрешимой задачей – выразить средствами тварного мира то, что бесконечно выше твари. В этом плане нет достижений, потому что само изображаемое непостижимо, и как бы высока по содержанию и прекрасна ни была икона, она не может быть совершенна, как не может быть совершенным никакой словесный образ. И богословие, и иконописание в этом смысле всегда неудачны. Именно в этой их неудаче и заключается ценность того и другого. Ценность эта как раз в том, что иконописание и богословие достигают вершин человеческих возможностей и оказываются недостаточными. Поэтому те средства, которыми пользуется иконопись для указания на Царствие Божие, могут быть только иносказательными, символическими, подобно языку притчей в Священном Писании. Содержание же, выражаемое этим символическим языком, неизменно и в Писании, и в литургическом образе.
Вселенские соборы. Деталь иконы «Премудрость созда себе дом». Новгород. Первая половина XVI в. ГТГ
Как продолжает существовать учение о цели христианской жизни – обожении человека, так продолжает существовать и живет в богослужении Православной Церкви догматическое учение об иконе, благодаря которому сохраняется и подлинное к ней отношение. Для современного православного человека как древняя икона, так и новая не есть объект эстетического любования или предмет изучения; она – живое, благодатное искусство, которое его питает. В наше время, как и в древности, икона не только продолжает писаться по канону, но и вновь пробуждается осознание ее содержания и значения, ибо как раньше, так и теперь она соответствует определенной конкретной действительности, определенному жизненному опыту, во все времена живущему в Церкви. Так, например, один из наших современников, афонский старец, умерший в 1938 г., в следующих выражениях передает свой личный опыт: «Великое различие, – говорит он, – веровать только, что Бог есть, познавать Его из природы или от Писания и познать Господа Духом Святым»; «В Духе Святом познается Господь, и Дух Святой бывает во всем человеке: и в душе, и в уме, и в теле»; «Кто познал Господа Духом Святым, тот становится похож на Господа, как сказал Иоанн Богослов: “И будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть” и будем видеть славу Его [ср.: 1 Ин. 3:2]»[128]. Таким образом, как продолжает существовать сам живой опыт обожения человека, так живет и иконописное предание и даже техника, ибо, поскольку жив этот опыт, не может исчезнуть и его выражение, словесное и образное. Другими словами, как внешнее выражение подобия Божия в человеке, икона также не может исчезнуть, как и само уподобление человека Богу. Здесь применимы – как применимы ко всякому периоду истории Церкви – слова, сказанные в Х столетии прп. Симеоном Новым Богословом: «…кто говорит, что теперь нет людей, которые бы <…> сподоблялись приять Духа Святого и <…> возродиться благодатию Святого Духа и соделаться сынами Божиими, с сознанием, опытным вкушением и узрением, – тот низвращает все воплощенное домостроительство Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и явно отвергает обновление образа Божия или человеческого естества, растленного и умерщвленного грехом»[129].
Техника иконописания
Л. А. Успенский
Говоря о содержании и смысле иконы, мы имели в виду вообще литургический образ независимо от его исполнения, будь то писаную икону, резаную из дерева или камня, исполненную фреской или мозаикой. Однако наиболее богата возможностями и наиболее соответствует смыслу и назначению иконы классическая живопись яичной темперой. Техника ее имеет многовековую традицию, уходящую в глубокую древность. Это капитал, который бережно сохраняется, так же как живое иконописное предание, и передается из поколения в поколение, восходя к истокам Византии, а через нее, по-видимому, к античному миру. Конечно, с течением времени появляются новые материалы, которые тщательно изучаются и используются в иконописи. Однако приемы этой техники, выработанные вековой практикой, традиционно систематичны и почти всецело применяются современными иконописцами.
Процесс изготовления иконы носит своеобразный и сложный характер и делится на ряд операций, требующих больших знаний и опыта. Традиционным и наиболее удобным материалом всегда была доска, выбор которой имеет огромное значение как для писания иконы, так и для ее сохранности. Самыми подходящими считаются доски несмолистых пород, как, например, липа, ольха, береза (с которыми лучше всего связывается грунт), кипарис и т. д. Нередко употребляется и сосна, но с наименьшим содержанием смолы. Доска, выбранная для иконы, должна быть совершенно сухой, без сучков и тщательно обработанной. Для предохранения ее от возможности быстро коробиться и трескаться с тыловой стороны врезаются, но не закрепляются две поперечные планки (шпонки) из более крепкого дерева. С лицевой стороны доски обычно делается выемка, борта которой служат рамой иконы. Эта естественная рама иконы имеет, с одной стороны, практическое значение, так как она, в свою очередь, укрепляет сопротивление иконы на изгиб и позволяет при работе опираться руками на икону (при небольших размерах, конечно), не касаясь живописи.
Процесс изготовления иконной доски
1. Обработка лицевой стороны.
2. Оборотная сторона. Укрепление доски шпонками.
3. Наклеивание на доску паволоки.
4. Нанесение левкаса.
С другой стороны, она соответствует смыслу иконы; если рама картины подчеркивает иллюзионистический момент, то здесь борта иконы, наоборот, препятствуют созданию такого впечатления иллюзии. Для более прочной связи с грунтом поверхность доски покрывается мелкими бороздками, процарапанными острым предметом. Эта шероховатая поверхность проклеивается жидким клеем и хорошо просушивается (обычно сутки). Затем на нее наклеивается редкая материя, которая служит подкладкой для будущего грунта. Эта подкладка имеет большое значение: способствуя более крепкому соединению доски с грунтом, она, в свою очередь, до известной степени предохраняет доску от растрескивания и, когда доска начинает коробиться, препятствует отставанию от нее грунта.
Следующая операция – приготовление и наложение грунта (левкаса) – сложна и ответственна. Для приготовления грунта употребляются алебастр или высшие сорта мела и лучшие же сорта клея[130]. Этим смешанным с клеем мелом доска последовательно покрывается возможно более тонким слоем несколько раз в зависимости от состава грунта, каждый раз хорошо просушивается и очищается, т. е. снимается излишек мела и тщательно удаляется пыль. В принципе, чем тоньше слой грунта, тем крепче слои его связаны. Грунт, или левкас, должен быть крепким, однородным по составу, ровно белым и гладким по всей поверхности, не иметь трещин и выглядеть в окончательном виде матовым.
На приготовленной таким образом доске делается кистью или карандашом рисунок будущей иконы. Опытный иконописец рисует его от себя, если тема ему хорошо знакома, или, если тема ему мало знакома, пользуется в качестве пособий другими иконами, подлинниками, зарисовками и т. д. и, руководствуясь смыслом изображения, формой и размерами доски, располагает композицию и фигуры по своему усмотрению[131]. Сделанный рисунок обычно процарапывается по контуру и основным линиям каким-либо острием, например иглой; делается так называемая графья. Этот прием, перешедший в иконопись из фрески, представляет большую помощь в работе, так как позволяет сохранить первоначальный контур, не сбивая его краской во время работы; но, конечно, следование этой прорезанной линии отнюдь не обязательно. Так, например, если форма рисунка не совсем соответствует красочному пятну, то граница его перемещается той же краской. После того как процарапаны контур и основные линии, рисунок тщательно стирается.
Процесс написания иконы
5. Нанесение рисунка иконы.
6. Золочение фона и деталей, раскрыть.
7-8-9. Три этапа вохрения.
10. Опись или обводка.
11. Подрумянка, оживки, пробела, обводка нимба, покрытие иконы олифой.
Спас Вседержитель. Наглядное пособие для иконописцев. Д. И. Нагаев. XXI в. Музей русской иконы
Если есть поверхности, которые должны быть покрыты сплошным золотом, то они покрываются перед началом живописи, потому что в противном случае золото будет приставать к краскам. Конечно, это относится лишь к цельным (большим или малым) плоскостям, как, например, фон, венчики и т. д.; разделка же штрихами (производимая жидким золотом), например, одежд Спасителя и т. д. – прием, называемый ассистом – делается позже. Для покрытия поверхности золотом употребляется обычно листовое золото. Самый же процесс представляет собой необычайно сложную и деликатную операцию, требующую большого навыка и умения.
После золочения, тщательной просушки и удаления излишков золота приступают к писанию иконы. Для этого прежде всего берут желток свежего яйца, освобождают его от белка, перекладывая с одной ладони на другую (если в краску попадет белок, то она будет трескаться), прокалывают его и выливают содержимое в стакан, прибавляют такое же по объему количество воды, хорошо перемешивают и для предохранения жидкости от порчи прибавляют немного столового винного уксуса[132]. Затем полученную смесь снова перемешивают и употребляют как связующее вещество для красок, сохраняя ее в хорошо закупоренном флаконе.
Основными красками в иконописи являются земли (т. е. краски минеральные) и натуральные органические краски. Искусственные краски употребляются лишь как дополнительные. Как в композиции и рисунке иконописец связан лишь смыслом изображения, так и в красках он связан лишь основными символическими цветами одежд изображаемых лиц и, конечно, фактическими данными (например, темные или седые волосы и т. д.). Как в сочетании цветов, так и в их оттенках, равно как в красках пейзажа, архитектуры и т. д. он совершенно свободен, и палитра каждого иконописца вполне индивидуальна.
Краски берутся в тонко стертом порошке, растворяются на приготовленном желтке и при употреблении разводятся водой. Количество желтка, вводимого в краски, различно. Так, например, белила, охра, сиена и умбра требуют большего его количества, чем другие, и правильное соотношение желтка и краски всецело зависит от опыта иконописца. Во всяком случае, по высыхании краска должна быть матовой и устойчивой. Если желтка слишком много, высохшая краска будет лосниться и потрескается. Если же его мало, она легко стирается. В готовом виде эти краски представляют собой драгоценный и очень удобный живописный материал. Они допускают работу как мазками, так и жидкими слоями, и соединение обеих манер может быть бесконечно разнообразным. Они так же быстро засыхают, как акварель, что дает возможность быстрой работы, но не так легко смываются. С течением времени прочность их увеличивается, а сопротивляемость химическому разложению под действием солнечных лучей у них много сильнее, чем у красок масляных или акварельных.
Живопись иконы ведется последовательно, определенными приемами. Сперва вся икона «раскрывается», т. е. все площади ее покрываются основными локальными тонами без каких-либо полутонов или теней. Поверх этих основных тонов для сохранения графического строения композиции по прочерченным линиям и контурам (графьям) восстанавливается рисунок более темной краской в тон. В обработке «доличного» – фигур, пейзажа и т. д. – употребляются два приема: либо делаются притенения очень жидкими красками в тенях и светлые места оставляются без высветлений, либо тенями служит основной тон, высветления же наносятся в несколько приемов все более и более светлой краской, сокращаясь по площади и сводясь в сторону тени на нет. Работа ведется, как часто и само раскрытие, жидкими красками, налагаемыми прозрачными слоями («плавями»). Этот прием очень разнообразен, и то или другое применение его зависит от индивидуальности художника и его артистичности. Он требует большого умения и опыта, так как необходимо учитывать все положительные и отрицательные эффекты просвечивания одного слоя из-под другого, включая и белый фон грунта. Так же последовательно, в несколько приемов пишутся лики, всегда от темного основного тона к светлому, и этот основной принцип перехода от тени к свету восходит через Византию к эллинистическому портрету. Красочные слои, налагаясь один поверх другого, создают едва заметный рельеф, более низкий в тенях и более высокий в светах. Таким образом, икона не только пишется, но как бы лепится, исходя из традиционных требований иконного строения. По высветлении подправляются сбитые плавью контуры и прорисовываются детали. На высветленных местах кладутся «оживки», или в доличном «отметки», обозначающие самые яркие блики света на изображенных объемных формах; делаются необходимые надписи, и готовая икона несколько дней просушивается.
По просушке икона покрывается олифой. Олифа, вареное льняное масло, изготовляется по различным рецептам. Обычно в кипящее масло прибавляются различные смолы, и в частности янтарь. Операция покрытия иконы олифой также требует большого опыта, так как при неумелом обращении с ней икону легко можно испортить. Назначение олифы двояко: во-первых, предохранение красочного слоя от разрушительного действия сырости, света, воздуха и т. д., во-вторых, олифа привносит колористический эффект. Пропитывая краски, олифа придает им большую прозрачность и глубину, обобщает их и дает иконе общий теплый, золотистый тон. На это объединяющее действие олифы заранее рассчитывается обычно и сама живопись. Правда, нанесенный на поверхность предохранительный слой олифы легко впитывает в себя пыль и копоть из воздуха, краски теряют свою яркость, и икона со временем темнеет. Однако при снятии его сохраненные им краски обнаруживаются во всей своей первоначальной силе и звучности цвета (см., например, икону св. мученицы Параскевы, с. 206, где в нижнем правом углу оставлен старый слой олифы). Олифа представляет собой лучшее и самое надежное средство для сохранения иконы, и никакой лак сравниться с ней не может. Пропитывая краски, она связывает красочные слои и, проходя вплоть до грунта, закрепляет их, превращая со временем в однородную окаменелую массу. Если древние иконы сохранили до наших дней всю изумительную свежесть и яркость своих красок, то этим они обязаны главным образом олифе.
Таков в общих и кратких чертах процесс создания иконы – процесс, требующий по крайней мере хорошего знания входящих в икону материалов, умения обращаться с ними и пользоваться ими. О прочности иконописной техники говорить не приходится; об этом свидетельствует сама икона. В отличие от современных художников, иконописец как в древности, так и в наше время участвует в создании иконы с самого начала (во всяком случае, с подготовки грунта) и до самого конца. Таким образом, он знает как материалы, которые входят в его работу, так и их свойства, всегда имея возможность учитывать их достоинства и недостатки. Следует отметить, что, несмотря на сложности и трудности, которые представляются в работе яичной темперой, появившаяся позднее масляная краска не была принята в иконописи вплоть до ее упадка. В России, в частности, ее стали применять в иконописи, да и то частично, лишь в XVIII в. Причина этого, очевидно, в том, что в силу своего чувственного характера масляная краска неспособна передать аскетизм, духовное богатство и радость, свойственные иконе.
Знаменательным в технике иконы является подбор тех основных материалов, которые в нее входят. В целом они представляют собой наиболее полное участие элементов видимого мира в создании иконы. Как мы видели, здесь участвуют, так сказать, представители и мира растительного, и мира минерального, и мира животного. Основные из этих материалов (вода, мел, краски, яйцо…) берутся в их естественном и лишь очищенном, обработанном виде, и человек делом рук своих приводит их к служению Богу. В этом смысле слова пророка Давида, сказанные им при благословении материалов для построения храма: Твоя бо суть вся, и от Твоих дахом Тебе (1 Пар. 29:14), еще более применимы в отношении иконы, где материя служит для выражения образа Божия. Высшее же значение эти слова обретают в литургии при приношении Святых Даров, долженствующих стать самими Телом и Кровью Христовыми: «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся». Таким образом, и материя, приносимая в иконе в дар Богу человеком, в свою очередь, подчеркивает литургическое значение иконы.
Объяснение основных типов икон
В. Н. Лосский, Л. А. Успенский
Иконостас
Иконостас составляет одну из важнейших архитектурных принадлежностей внутреннего убранства в православном храме. Он представляет собой сплошную преграду из икон, отделяющую алтарь, где совершается таинство Евхаристии, от средней части храма, нефа, где стоят молящиеся. Иконостас состоит из нескольких рядов икон, поставленных на горизонтальные деревянные перекладины или вплотную одна к другой, как, например, в иконостасах XV в., или отделенных одна от другой полуколонками, что представляет собой множество икон, вставленных в отдельные, часто резные, кивоты, позолоченные или покрытые краской.
Первоначальная форма иконостаса в виде алтарной преграды существовала, как известно, в христианских храмах древнейших времен. Сведения о древних преградах мы находим как у отцов Церкви, например у свтт. Григория Богослова и Иоанна Златоуста, так и у древних историков, например у Евсевия. Форма и высота этих первоначальных преград были различны. Иногда это были сплошные низкие стенки или балюстрады по грудь человеку, на которые можно было облокотиться, иногда более высокие решетки или ряд колонн с архитравом. Делались они часто из особо драгоценных материалов и украшались скульптурой или живописными изображениями. С внутренней стороны, т. е. со стороны алтаря, преграды завешивались занавесом, который задергивался или открывался в зависимости от момента богослужения. Таким образом, алтарная преграда делала алтарь и видимым, и в то же время недоступным.
Алтарная преграда начала усложняться очень рано. Уже в Византии здесь помещались иконы месячные, святцы, или менологи, и иконы праздников. Сначала под архитравом, а потом на нем, непосредственно над Царскими Вратами, помещалась икона Спасителя, а затем и трехчастная икона Спасителя, Божией Матери и Иоанна Предтечи (состоящая из одной длинной доски или трех отдельных икон), так называемый Деисис. Эта трехчастная икона алтарной преграды, занесенная на Русь из Византии, и явилась, как полагают, тем ядром, из которого на русской почве развился православный иконостас. Развитие его происходило путем прибавления к названным иконам других икон и нарастания отдельных ярусов. К XIII–XIV вв. на Руси уже существовали многоярусные иконостасы, которые оттуда довольно поздно, в XVII или XVIII в., перешли в другие православные страны.
Иконостас Благовещенского собора Московского Кремля
Чтобы уяснить литургическое значение и смысл иконостаса, необходимо кратко остановиться на значении символики самого храма, переданной свв. отцами и являющейся руководящим началом как в постройке православных храмов, так и в распределении их росписи. Символика эта, выражавшаяся в первые века лишь в общем представлении о храме как о месте, освященном присутствием Божиим, наполняющемся во время богослужения ангелами и вмещающем людей, оправданных и освященных (притом представлении более переживаемом, нежели выражаемом), с IV в. начинает получать все более подробное раскрытие. Главным образом в это время стало слагаться в определенный вид христианское богослужение, и вместе с этим под влиянием потребностей культа стал вырабатываться определенный план и определенное расположение и украшение частей храма[133]. На этой символике довольно подробно останавливается уже Евсевий в похвальном слове епископу Павлину по случаю постройки храма в Тире[134]. В основе символики храма лежит учение Церкви об искупительной жертве Христовой и конечной ее цели, составляющей самую сущность христианства, – грядущем преображении человека, а через него и всего мира. Храм в его целом есть образ будущего обновленного мира, где Бог исполняет всяческая во всех (Еф. 1:23). Преподобный Иоанн Дамаскин говорит: «И закон, и все, сообразное с законом, было некоторым оттенением будущего образа, т. е. имеющего у нас место служения; а имеющее у нас место служение – образ будущих благ; самые же вещи (Евр. 10:1) (т. е. сама реальность. – Л. У.) – вышний Иерусалим, нематериальный и нерукотворенный, подобно тому, как говорит тот же божественный апостол: …не имамы бо зде пребывающaго града, но грядущaго взыскуем (Евр. 13:14), каковой есть вышний Иерусалим, емуже художник и содетель Бог (Евр. 11:10). Ибо все, как сообразное с законом, так и сообразное с нашим служением, произошло ради того [т. е. вышняго Иерусалима]»[135].
Исходя из такого толкования каждая часть новозаветного храма получает свое значение сообразно с общим положением и назначением ее в ходе богослужения. По толкованию прп. Максима Исповедника и свт. Софрония, патриарха Иерусалимского, храм есть образ мысленного и чувственного мира – человека духовного и телесного. Алтарь есть символ первого, средняя часть – символ второго. В то же время обе эти части составляют нераздельное единство, причем первая просвещает и питает вторую, и последняя, таким образом, становится чувственным выражением первой. При таком их соотношении восстанавливается нарушенный грехопадением порядок вселенной.
Графическая схема русского пятиярусного иконостаса:
1 – Святые, или Царские, Врата; а и a1: Благовещение; б, в, г, д: Четыре евангелиста; 2 – Тайная вечеря; 3 – Столбики Царских Врат с изображениями святителей, творцов литургии; 4 – икона Христа; 5 – икона Богоматери; 6 и 7 – северная и южная двери иконостаса с иконами архангелов или диаконов; 8 и 9 – иконы местнопочитаемых святых; 10 – деисусный ряд; 11 – праздничный ряд; 12-пророческий ряд; 13 – праотеческий ряд.
Это толкование в дальнейшем подробно развивается в толкованиях символики храма и литургии свт. Германом, патриархом Константинопольским, великим исповедником Православия в период иконоборчества, и свт. Симеоном, митрополитом Фессалоникийским. По толкованию первого, «Церковь есть земное небо, в котором живет и пребывает пренебесный Бог. Она <…> прославлена более Моисеевой скинии свидения: она предображена в Патриархах, основана на Апостолах <…> она предвозвещена Пророками, благоукрашена Иерархами, освящена Мучениками и утверждается престолом своим на их святых останках»[136]. Она представляет собой, как говорит свт. Симеон Солунский, «то, что на земле, что на небесах и что превыше небес». И уточняет: «Притвор соответствует земле, Церковь небу, а святейший алтарь – тому, что выше неба»[137]. В соответствии с этой символикой и распределяется вся роспись храма. Она, таким образом, представляет собой не случайный набор отдельных изображений, а определенную систему в соответствии с той частью храма, в которой она помещается.
В связи с этими толкованиями символическое значение имеет и алтарная преграда. Она уподобляется святыми отцами (например, свт. Григорием Богословом в «Стихотворении к епископам») границе двух миров – божественного и человеческого, мира постоянного и мира преходящего. Святитель Симеон Солунский дает следующее объяснение: «Столбики (в иконостасе) <…> суть как бы твердь, разделяющая духовное с чувственным <…>. Посему поверх столбиков находится космит (фриз с карнизом), который означает союз любви и единение во Христе святых, сущих на земле, с горними. Оттого поверх космита, посредине между святыми иконами, бывает (изображен) Спаситель, а по ту и другую сторону – Матерь Его и Креститель, Ангелы и Апостолы, и прочие Святые, так что все это внушает и пребывание Христа со Святыми Своими на небесах, и присутствие Его ныне с нами…»[138]
Эта символика, как мы увидим ниже, находит наиболее ясное и полное раскрытие в развившемся впоследствии из алтарной преграды иконостасе. Будучи, с одной стороны, преградой, отделяющей мир божественный от мира человеческого, он в то же время объединяет их в одно целое в образе, отражающем такое состояние вселенной, в котором преодолено всякое разделение, где осуществлено примирение между Богом и тварью и в самой твари. Наглядно и наиболее полно, на грани божественного и человеческого, он раскрывает пути этого примирения.
Иконостас-складень. Россия. Середина XVI в. Частная коллекция
Воспроизведенный здесь (c. 104–105) иконостас-складень, состоящий из 15 частей, приписываемый середине XVI в.[139], представляет собой классическую композицию православного иконостаса. Такие иконостасы служили для молитвы в частном доме, а также благодаря своим небольшим размерам, особенно в сложенном виде (высота нашего иконостаса 56 см, длина 196 см), брались в путешествия и походы. Отличие его от храмовых иконостасов заключается в том, что в нем нет нижней части, состоящей из местных икон, и трех дверей: средней, ведущей в алтарь, так называемых Царских Врат, северной, ведущей в жертвенник, и южной – в диаконник. Отсутствует в нем также обычный верхний ряд – праотеческий, представляющий собой первоначальную ветхозаветную Церковь начиная от Адама до закона Моисеева в виде ряда изображений ветхозаветных патриархов, предображающих Церковь новозаветную.
Верхний ряд нашего иконостаса – пророческий. Он состоит из изображений ветхозаветных пророков с развернутыми свитками в руках, на которых написаны тексты из их пророчеств о Боговоплощении. Поэтому в центре этого ряда, как исполнение их пророчеств[140], образ Боговоплощения – икона Божией Матери Знамение (см. разбор этой иконы на с. 129–131). В отличие от нижнего ряда нашего иконостаса, где разница в движениях отдельных фигур заметна лишь при внимательном рассмотрении, здесь позы пророков отличаются большим разнообразием. При общей их направленности к центру у каждого свое движение, свой жест. Каждый из них пророчествует по-своему, держа свиток иначе, чем другие. Этот ряд представляет Церковь ветхозаветную от Моисея до Христа, которая была «предвозвещением» (как говорит патриарх Герман) и предуготовлением Церкви новозаветной. В то же время этот ряд вместе с рядом праотеческим изображает предков Господа по плоти. Таким образом, икона Боговоплощения посредине является указанием на непосредственную связь между Ветхим и Новым Заветами. Порядок распределения пророков здесь следующий: справа от иконы Знамения (то есть слева от зрителя) – пророки Давид, Захария (отец Предтечи), Моисей, Самуил, Наум, Даниил, Аввакум; слева от центра (то есть справа от зрителя) – пророки Соломон, Иезекииль, Аггей, Илия, Малахия, Елисей, Захария.
Следующий ярус иконостаса – праздничный. Он представляет собой ряд изображений тех событий Нового Завета, которые особо торжественно празднуются Церковью как своего рода главные этапы промыслительного действия Божия в мире, этапы «нарастания» Откровения. Это начало «имеющего у нас место служения», т. е. исполнение того, что предображено и предвозвещено в верхних рядах. Праздники эти выражают собой совокупность учения Церкви; это «перлы божественных догматов», как называет их св. патриарх Герман. Обычно в храмовых иконостасах этот ряд состоит из икон Воскресения Христова и 12 главных, так называемых двунадесятых, праздников: шести Господских (Рождество, Сретение, Крещение, Преображение, Вход в Иерусалим, Вознесение), четырех Богородичных (Рождество Богородицы, Введение во храм, Благовещение, Успение), Пятидесятницы и Воздвижения Креста Господня, расположенных по течению церковного года. При наличии свободного места (как, например, в воспроизведенном здесь иконостасе) к ним присоединяются иконы некоторых других праздников, менее важных, а также икона Распятия. На нашем иконостасе расположение икон праздничного ряда не соответствует церковному кругу. Оно следующее (слева направо): Рождество Богородицы, Введение во храм, Благовещение, Крещение, Сретение, Вход в Иерусалим, Жены Мироносицы у Гроба, Распятие, Сошествие во ад, Воскрешение Лазаря, Рождество Христово, Преображение, Вознесение, Воздвижение Креста, Успение, Троица. Содержание и значение икон этих праздников разобрано отдельно (см. с. 219–322).
Следующий ряд иконостаса называется чином. Это развернутый Деисис, трехчастная икона древней алтарной преграды. Слово «деисис» (бедск;) означает «моление», в данном случае молитвенное предстояние Божией Матери и Иоанна Предтечи Спасителю. Божия Матерь всегда справа от Него согласно словам 44-го псалма: Предста Царица одесную Тебе (Пс. 44:10). Слово «чин» означает строй, порядок. Чин образовался присоединением к молитвенному предстоянию Божией Матери и Предтечи представителей различных ликов небесной и земной святости: ангелов, апостолов, святителей и др.[141]Порядок их расположения на воспроизведенном иконостасе следующий: со стороны Божией Матери – Архангел Михаил, Апостол Петр, свт. Василий Великий, свт. Иоанн Златоуст, прп. Зосима, вмч. Георгий; со стороны Предтечи – Архангел Гавриил, Апостол Павел, свт. Григорий Богослов, свт. Николай, прп. Савватий, вмч. Димитрий.
Расположенные в стройном и строгом порядке, изображенные здесь святые объединены одним общим движением в их молитвенном устремлении к Вседержителю, сидящему на троне. Этим ритмическим движением они как бы увлекают смотрящего в свое торжественное шествие. Несколько удлиненные пропорции их фигур, выражающих глубокую сосредоточенность, придают им особую элегантность и невесомость. Певучие линии рисунка образуют их четкие силуэты, легко и свободно, как от дуновения ветра, склоняющиеся к центру.