Море – мой брат. Одинокий странник (сборник) Керуак Джек
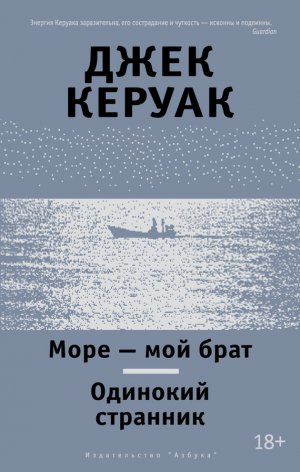
Они услышали женский смех из спален, мощный взрыв тайного веселья, который вызвал у Эверхарта робкую улыбку.
– Девчонки проснулись, и над чем же они смеются?
– Женщины вечно так смеются, – улыбнулся Уэсли.
– Не говори, а? – согласился Эверхарт. – Часто раздражает: а вдруг они смеются надо мной…
Уэсли улыбнулся Эверхарту:
– С чего бы им?
Эверхарт рассмеялся и снял очки, чтобы протереть; без них он выглядел гораздо моложе.
– Но я тебе кое-что скажу: нет утром ничего приятнее женского смеха в соседней комнате!
Уэсли открыл рот и распахнул глаза в своем молчаливом хохоте.
– Чья это квартира? – спросил он некоторое время спустя, швыряя окурок на улицу.
– Ив, – ответил Эверхарт, поправляя очки. – Она пьяница.
Из соседней комнаты голос Полли обиженно спросил:
– Мой Уэсли ушел?
– Нет, он еще здесь, – крикнул в ответ Эверхарт.
– Какой милый! – сказала Полли из-за стенки.
Уэсли на окне улыбнулся. Эверхарт приблизился к нему:
– Может, к ней пойдешь?
– Хватит. Две недели только этим и занимался, – поделился Уэсли.
Эверхарт от души рассмеялся. Он крутил радио, пока не нашел подходящую программу.
– «Боевой гимн Республики»[11], – объявил он. – Прекрасная старая мелодия, не так ли? Какие мысли она тебе навевает?
Оба послушали, затем Уэсли дал ответ:
– Эйб Линкольн и Гражданская война, пожалуй.
Джинджер ворвалась в комнату и воскликнула:
– Боже! Только посмотрите на эту комнату!
Зрелище и в самом деле было прискорбное: стулья перевернуты, бутылки, стаканы и шейкеры разбросаны повсюду, а ваза у дивана – разбита.
– Надо бы мне тут прибраться до работы, – прибавила она, в основном сама себе. – Как чувствуешь себя, Коротышка? – спросила она Эверхарта. А затем, не дав ему ответить: – Уэс! Ты выглядишь прекрасно? У тебя нет похмелья?
Уэсли кивнул на Эверхарта:
– Он дал мне бромо. Мне прямо вот хорошо.
– Прямо вот хорошо, – эхом отозвался Эверхарт. – В последний раз я слышал это выражение…
– Джордж до сих пор дрыхнет, – перебила Джинджер, суетясь вокруг, собирая бутылки и вещи. – Старый ленивый хлюп.
– В последний раз я слышал «прямо вот хорошо» в Шарлотт, в Северной Каролине, – продолжит Эверхарт. – Если спрашивать, где что-нибудь, они там тоже говорили, что оно «прямо вот там». Я думал, ты из Вермонта, Уэс?
– Я из Вермонта, – улыбнулся Уэсли. – Но я мотался по стране; два года провел на юге. Оборотцы ко мне цепляются.
– Бывал в Калифорнии? – спросил Эверхарт.
– Да везде – в сорока трех штатах. Кажется, пропустил Дакоту, Миссури, Огайо и еще несколько.
– И что делал, просто околачивался? – поинтересовался Эверхарт.
– Работал тут и там.
– Боже мой, уже десять часов! – удивилась Джинджер. – Давайте сейчас же позавтракаем! Мне бежать пора!
– Яйца есть? – спросил Эверхарт.
– Ох черт, нет! Мы с Ив доели вчера утром.
Полли вошла в комнату в халате Джинджер, улыбаясь после душа.
– Мне стало лучше, – сообщила она. – Доброе утро, Уэсли! – Она подошла к нему и вытянула губы: – Поцелуй меня!
Уэсли чмокнул ее в губы, а затем медленно выдохнул облако дыма ей в лицо.
– Дай затянуться! – потребовала Полли, потянувшись к его сигарете.
– Спущусь и куплю яиц и свежих булочек, – сказал Эверхарт Джинджер. – Завари свежий кофе.
– Ладно!
– Пойдем со мной, Уэс? – позвал Эверхарт.
Уэсли взъерошил волосы Полли и поднялся:
– Иду!
– Возвращайтесь скорее, – с легкой соблазнительной улыбкой сказала Полли, косясь сквозь облако сигаретного дыма.
– Скоро вернемся! – крикнул Эверхарт, хлопнув Уэсли по спине.
В лифте они все еще слышали «Боевой гимн республики» из радиоприемника Ив.
– Эта музыка наводит тебя на мысль об Эйбе Линкольне и Гражданской войне, – припомнил Эверхарт. – Как и меня, но меня она еще и бесит. Я хочу понять, что, черт возьми, пошло не так и кто налажал.
Лифт остановился на первом этаже, и двери раздвинулись.
– Этот старый клич «Америка! Америка!». Что случилось с его значением. Как будто Америка – это просто Америка – красивое слово для красивого мира, – и люди пришли к ее берегам, сразились с дикими аборигенами, развили ее, разбогатели, а теперь сидят себе, зевают и рыгают. Боже, Уэс, если б ты был старшим преподавателем английской литературы, как я, с этими песнями, что вечно твердят: «Давай! Давай!» – а затем посмотрел бы на свой класс, выглянул за окно, и вот она – твоя Америка, твои песни, кличи твоих пионеров, бросающих вызов Западу, – полная комната скучающих ублюдков, грязное окно на Бродвей с его мясными рынками и барами и бог знает чем еще. Значит ли это, что отныне фронтиры – лишь в воображении?
Уэсли, надо признать, слушал вполуха: он не совсем понимал, о чем рассуждает его друг. Они уже вышли на улицу. Впереди какой-то цветной сгребал черную кучу угля в дыру на тротуаре: уголь мерцал сиянием утреннего солнца, будто черный холм, усыпанный самоцветами.
– Безусловно так, – сам себя уверил Эверхарт. – В этом есть перспектива, но нет романтики. Нет больше оленьих шкур, и шкур енотов, и винтовок, и горячего масляного рома в Форт-Дирборн[12], нет больше троп на речном берегу, нет больше Калифорнии. Этот штат – конец всему; если бы Калифорния протянулась по миру до самой Новой Англии, мы бы ехали на Запад бесконечно, снова делая открытия, перестраивая и двигаясь дальше, пока цивилизация не превратилась бы в шестидневный велопробег, и на каждом повороте – новые возможности…
Уэсли, вместе со своим словоохотливым другом обходя груду угля, обратился к человеку с лопатой:
– Эй, папаша! Не слишком усердствуй.
Человек поднял глаза и счастливо улыбнулся:
– Осторожнее! – крикнул он, улюлюкая от восторга, опершись на лопату. – Ты не просекаешь – я не надрываюсь! Ху-ху-ху!
– Так и надо, папаша! – сказал Уэсли, с улыбкой обернувшись.
– Клянусь Богом, – продолжил Эверхарт, поправляя очки, – будь сейчас тысяча семьсот шестидесятый, я бы шел на Запад с трапперами, исследователями и охотниками! Я не силен, видит Бог, но я хочу жизнь с целью, с силой неистовой и, кроме того, могущественной. Здесь, в Колумбии, я преподаю – и что? Я ничего не достигаю; мои теории приняты, не более того. Я видел, как идеи принимались и откладывались для справки… поэтому я давным-давно бросил писательство. Мне сейчас тридцать два, я ни за какие коврижки не напишу книгу. Нет смысла. Эти исследователи с рысьими глазами – вот они были американскими поэтами. Великими поэтами поневоле, которые видели холмы на Западе, и им этого хватало, и все, им не требовалось сочинять рапсодии – сами их жизни делали это мощнее Уитмена! Ты много читал, Уэс?
Они уже вышли на Бродвей и неторопливо шагали по просторному тротуару. Уэсли остановился, чтобы очистить апельсин над мусорной урной, нахмурился с угрюмой жалостью и после паузы сказал:
– Знавал я одного молодого моряка по имени Люсьен Смит, так он, бывало, заставлял меня читать, а то читал я маловато. – Он медленным, задумчивым броском отправил в урну последний кусок кожуры. – Люк в итоге заставил меня прочитать книгу; он был хорошим малым, и мне хотелось, чтоб он почувствовал, будто оказал мне услугу. И я эту его книгу прочитал.
– И что это было?
– «Моби Дик», – припомнил Уэсли.
– Германа Мелвилла, – добавил Эверхарт, кивая.
Уэсли разломил апельсин надвое и протянул половинку другу. Они зашагали дальше, жуя.
– Так что я прочитал «Моби Дика»; я читал медленно, по пять страниц за ночь, – знал, что малый будет расспрашивать.
– Понравилось? – спросил Эверхарт.
По-прежнему серьезно супясь, Уэсли выплюнул апельсиновое зернышко:
– Да, – ответил он.
– И о чем этот малый, Смит, тебя спрашивал? – упорствовал Эверхарт.
Уэсли в беспокойстве обернулся к нему и воззрился пристально.
– Всякие вопросы, – в конце концов сказал он. – Всякие. Смышленый был малый.
– Помнишь какие-нибудь? – Эверхарт улыбнулся, подмечая собственную пытливость.
Уэсли пожал плечами:
– Не тотчас.
– Где он теперь?
– Малый?
– Да…
Насупленность Уэсли исчезла, вместо нее на отвернувшемся лице проступила невозмутимая, почти дерзкая твердость.
– Люсьен Смит, он пошел ко дну.
Эверхарт бросил хмурый взгляд на товарища:
– В смысле, торпедирован и утонул? – Эверхарт произнес это, будто не поверил, и тотчас затараторил: – Он погиб? Когда это случилось? Почему… где это было?
Уэсли сунул руку в задний карман со словами:
– У Гренландии прошлым январем.
Он вытащил моряцкий бумажник – большую плоскую штуку с цепочкой.
– Вот его фотография, – сказал он, протягивая Биллу маленький снимок. – Хороший был малый.
Эверхарт взял снимок, хотел сказать что-то еще, но нервно осекся. Печальное лицо смотрело на него с фотографии, но он слишком смутился и больше ничего не разобрал: сумрачный Уэсли, шум улицы, набирающей темп к новому дню, радостное тепло солнечного света и музыка из ближайшего радиомагазина – все уносило это измученное маленькое лицо с грустными глазами куда-то далеко, в одиночество и забвение, в нереальное королевство, несущественное, как крошечный клочок целлулоидной бумаги в пальцах. Билл отдал фотографию и ничего не смог сказать. Уэсли не взглянул на снимок, засунул его обратно в бумажник и спросил:
– Где продаются яйца?
– Яйца… – эхом отозвался Эверхарт, медленно поправляя очки. – Двумя кварталами дальше.
На обратном пути, нагруженные пакетами, они говорили очень мало. Перед баром Уэсли показал на дверь и слегка улыбнулся:
– Мужик, давай зайдем и слегка позавтракаем.
Эверхарт последовал за своим спутником в прохладный мрак бара, где пахло чистотой и свежим пивом, и сел у окна, где солнце плоскими полосами ложилось на стол сквозь жалюзи. Уэсли заказал два пива. Эверхарт опустил взгляд и заметил, что у друга нет носков под мокасинами, – его ноги покоились на латунной перекладине с невозмутимостью, которая словно пропитывала все его бытие.
– Сколько тебе лет, Уэс?
– Двадцать семь.
– Давно ходишь по морям?
Угрюмый бармен поставил перед ними пиво, Билл бросил четвертак на стойку из красного дерева.
– Уже шесть лет, – ответил Уэсли, поднося золотистый стакан к солнцу и наблюдая за бурлением всплывающих пузырьков.
– Беззаботно живешь, а? – продолжил Эверхарт. – Портовые оргии, а потом снова в море, и так далее…
– Верно.
– Тебе, я так думаю, не с руки пустить корни в обществе, – задумчиво произнес Эверхарт.
– Пробовал однажды, пробовал, как ты говоришь, пустить корни… У меня была жена, ребенок на подходе, верная работа, дом. – Уэсли прервался и запил горькие мысли. Но продолжил: – Расстались, когда ребенок родился мертвым, такая вот бодяга: я отправился в путь, слонялся по всем Штатам, в результате ушел в моря.
Эверхарт сочувственно слушал, но Уэсли уже досказал.
– Ну, – вздохнул Билл, шлепнув по барной стойке, – я в тридцать два необыкновенно свободен и удачлив, но, честно говоря, я не счастлив.
– Ну и что! – возразил Уэсли. – Быть счастливым хорошо в меру, но другое стоит большего.
– Такое утверждение следовало бы сделать мне или какому творцу, о чьих работах я рассказываю, – рассудил Эверхарт, – но от тебя, явно бесшабашного повесы с чутьем на женщин и тройной вместимостью выпивки, это слышать странно. Ты что, не счастлив, когда транжиришь свое жалование в порту?
Уэсли недовольно отмахнулся:
– Черт, нет! Что еще мне делать с деньгами? Послать их некому, кроме отца и одного из женатых братьев, а когда это сделано, денег все еще много – я и трачу их направо и налево. Я тогда не счастлив.
– Когда же ты счастлив?
– Никогда, пожалуй; есть вещи, от которых я получаю удовольствие, но они заканчиваются. Это я о жизни на бичу сейчас.
– Значит, ты счастлив в море?
– Видимо… По крайней мере, там я дома, я знаю свою работу и что я делаю. Я обученный матрос, видишь ли… но что касается счастья на море, не знаю точно. Черт возьми, да какое там счастье? – спросил Уэсли с насмешливой ноткой.
– Никакого? – предположил Билл.
– Да вот именно, чтоб меня прихлопнуло и размазало! – заявил Уэсли, улыбаясь и качая головой.
Билл заказал еще два пива.
– Мой старик – бармен в Бостоне, – признался Уэсли. – Тот еще лось.
– Мой старик был рабочим на верфи, – вставил Эверхарт, – но теперь он стар и слаб, ему шестьдесят два. Я помогаю ему и младшему брату деньгами, а моя замужняя сестра живет у меня со своим мужем-долдоном, готовит им и заботится [о] них. Пацан ходит в школу – неустрашимое хулиганье.
Уэсли слушал это, не комментируя.
– Я хочу все изменить; расправить крылья и проверить, готовы ли они к полету, – признался Билл. – Знаешь что?.. Хочу послужить в торговом флоте!
– А призывной статус у тебя какой? – спросил Уэсли.
– Только что зарегистрировался, если, конечно, повестка не пришла с утренней почтой, – размышлял Билл. – Но, черт возьми, мне нравится эта идея!
Уэсли поджег сигарету и поглядел на уголек, а Эверхарт погрузился в задумчивое молчание. Можно бы слегка подзаработать, старику скоро нужно грыжу вырезать. Что там сказал врач?.. семь месяцев? И малуй наверняка лет через пять или шесть захочет поступить в Колумбийский.
– Сколько денег можно заработать за рейс? – наконец спросил Билл.
Уэсли, набрав полный рот пива, подержал его немного, наслаждаясь вкусом.
– Ну, – ответил он, – по-разному. Простым матросом – несколько меньше. Рейс в Россию – сотни четыре баксов за пять или шесть месяцев, включая жалованье, морскую надбавку, портовую надбавку и сверхурочные. Но если по-быстрому, например, в Исландию, или каботажем в Техас, или в Южную Америку, за рейс выйдет меньше.
Что ж, два или три коротких рейса или один длинный явно принесут немало. Эверхарт зарабатывал 30 долларов в неделю в Колумбийском университете и платил аренду пополам с зятем, не бедствовал, но ему никогда не хватало денег, чтобы сделать сбережения или заложить основы будущей безопасности. Нередко удавалось зарабатывать немного сверх жалованья, репетируя студентов во время экзаменов. Но с 1936 года, когда он получил степень магистра по английскому и ему повезло занять место старшего преподавателя в университете, он понемногу катился по наклонной, транжиря все деньги, которые он оставлял себе, и проживая жизнь, полную разглагольствований в компании студентов, профессоров и людей вроде Джорджа Дэя; живя, короче говоря, обычной нью-йоркской жизнью. Он усердно учился и был блестящим студентом. Но беспокойство, которое назревало все эти говорливые годы, что он пробыл старшим преподавателем английской литературы, неясный порыв посреди довольно бесчувственного и самодовольного бытия, теперь настигли его взрывом осуждения. Что он делает со своей жизнью? Он никогда не был привязан к женщине, если не считать легкомысленных и случайных связей с несколькими девушками из близкого круга. Остальные в универе, понял он теперь с долей сожаления, стали правильными учеными, с самодовольным высокомерием молодых профессоров носили хорошую одежду, были женаты, снимали квартиры в кампусе или поблизости и нацелились на серьезную целеустремленную жизнь с перспективой карьерного роста и почетных степеней, с неподдельной любовью к женам и детям.
Но он уже шесть лет мчался в никуда, облаченный в свою мантию гения, увлеченный молодой пандант с громкими теориями, в потрепанном шмотье, откровенно веря в искусство критики. Никогда не останавливался, дабы оценить что-то, кроме мира. Никогда по-настоящему не обращал внимания на свою жизнь, разве что пользовался своей свободой, дабы поспорить о сущности свободы. Да, таков был Эверхарт, кто одним триумфальным утром, когда снег хлестал в окна, сказал своим студентам, что искусство – это бунт свободы…
Теории! Лекции! Разговоры! Тридцать долларов в неделю; дома по вечерам, пока старик храпит в кресле, проверяешь работы и готовишь конспекты лекций; затем в бар к Джорджу Дэю, учишься на магистра, болтаешь за стаканом пива и язвишь обо всем вокруг; пьесы, концерты, оперы, лекции; на бегу с книгами кричишь «привет!» каждому встречному; дикие вечеринки по выходным со всякими знакомыми; потом воскресенье – «Таймс», эти вкусные сестрины обеды, споры за столом с ее мужем, владельцем радиомагазина, будь проклята его чопорная шкура, и кино с Сонни вечером в «Немо», где толпы студентов Колумбийского колледжа швыряют что попало с балкона. Потом снова утро понедельника, занятия, по-быстрому пообедать в бутербродной, днем торчишь в библиотеке, читаешь, перехватишь стаканчик пива перед ужином, лекция Огдэна Нэша в театре Макмиллина в восемь тридцать. Затем обратно в бар выпить пивка, долгие дискуссии с парнями – Дэем, Пёрселлом, Фицджеральдом, Гобелом, Алленом… самой пьяной компашкой псевдоученых, какую ему только доводилось видеть, – и наконец, домой, к умирающему старому отцу, назойливой сестре, доморощенному юмористу-зятю, шумному младшему брату и уродскому пуделю.
Бах! Затем Эверхарт отбывает ко сну, кладет очки в роговой оправе на комод, вытягивает коротенькое тельце в кровати и размышляет, куда, черт возьми, все это ведет!
Ну, сейчас привело вот куда: тридцатидвухлетний, чудаковатый на вид старший преподаватель, которого все в округе добродушно именуют Коротышка. Как дорого обходятся попытки быть скромным! Веди себя как остальные, излучай профессорское достоинство, и тебя станут называть «Уильям» или «профессор Эверхарт». Да пошли они к черту!
Заблудший? Такое поэтичное слово…
– Думаешь пойти в моря? – прервал Уэсли грезы собеседника.
Эверхарт одарил его сердитой гримасой, по-прежнему блуждая мыслями, но в итоге ответил:
– Разве что для разнообразия, да.
– Давай возьмем еще пива, – предложил Уэсли.
Эверхарт засмеялся:
– Нам лучше вернуться, девчонки ждут яйца и нас.
Уэсли пренебрежительно отмахнулся.
Они взяли еще пива и еще. Минут через сорок пять выпили по восемь стаканов крепкого пронзительного эля. Собрались возвращаться. Эверхарта уже решительно пробрало. За завтраком он то и дело рассказывал всем, что уходит в море вместе с Уэсли, повторяя это с ритмичными интервалами. Джордж Дэй, к этому времени уже поднявшийся, завтракал, раздраженно хмурясь, довольно громко чавкая и не замечая остальных.
Эверхарт, от пива развеселившись, шлепнул Джорджа по спине и позвал его с собой в море, в торговый флот. Джордж обратил к нему перекошенное и весьма угрюмое лицо и всем своим суровым видом, отягощенным усталостью тела, дал понять, что не расположен.
Джинджер вытащила тост из гриля и засмеялась:
– У тебя сегодня утром нет занятий, Джорджи?
Дэй пробормотал что-то похожее на «Античная история Ближнего Востока и Греции».
– Пф! – усмехнулся Эверхарт, размахивая вилкой. – Поехали со мной – и увидишь Ближний Восток.
Джордж, набив рот тостами, коротко хрюкнул и пробормотал:
– Ты ведь не думаешь, Эверхарт, что я взял этот курс, потому что хочу что-то узнать о Ближнем Востоке. Ближний Восток дорог мне, как стакан молока.
– Ха! – крикнул Эверхарт. – Порт-Саид! Александрия! Красное море! Вот он, твой Восток… Я его увижу!
Джордж тихо рыгнул, поразмыслил и извинился.
Полли, сидя на коленях у Уэсли, взъерошила ему волосы и поинтересовалась, нет ли у него сигареты. Пока Уэсли доставал пачку из кармана куртки, девушка куснула его в ухо и тепло туда подышала.
– Хорош, Полли! – хихикнула Джинджер.
После завтрака Джинджер прогнала всех вон и заперла дверь. Надела Джинджер коричневый костюм с простроченными швами и прорезными карманами на жакете, а под него – простую футболку.
– В этом мне сегодня позировать, – рассказала она всем. – Двенадцать девяносто пять. Симпатичный, правда?
– Без излишеств и ляпов, – прокомментировал Эверхарт.
– Можно я возьму его по дешевке? – спросила Полли, шагая под руку с Уэсли. – Узнай, за сколько ты можешь его взять; я дам деньги. Это же просто классика!
Они были на улице. Джордж Дэй, очень высокий и неуклюжий, тащился позади всех, с утра напрочь лишенный достоинства. Полли шла рядом с Уэсли, весело болтая, а Джинджер и Эверхарт говорили обо всем, что в голову взбредет. Джинджер покинула их у метро на 110-й улице.
– Взгляни! – крикнул Джордж, указывая на бар на другой стороне.
Джинджер, уже собираясь перейти дорогу, обернулась:
– Иди на занятия, Дэй!
Она перебежала улицу к метро, и ее элегантные каблучки отщелкали стремительное стаккато.
– Как, – абстрактно заинтересовался Джордж, – женщина с такими ногами может быть столь жестока?
Около 114-й Джордж распрощался, коротко бросив «Пока, ребята», и пошаркал на занятие, сунув руки в карманы.
– Джентльмен и псевдоученый, – заметил Эверхарт.
Девушки в слаксах прогуливались под теплым солнцем, неся теннисные ракетки и баскетбольные мячи, и их разноцветные шевелюры лучились в блеске утра. Уэсли удостоил их откровенным взглядом. Когда одна девушка засвистела, Полли свистнула в ответ. Около табачной лавки высокий кудрявый юноша и другой, пониже и в очках, выразили свое почтение Полли ритмичным свистом в такт ее широкой свободной походке. Полли тоже им свистнула.
Они повернули по 116-й улице к Драйв.
– Я лучше домой, а то тетушка размозжит мне голову, – засмеялась Полли, утыкаясь в лацкан Уэсли.
– Где ты живешь? – спросил Уэсли.
– На Драйв, около дома «Дельта Хи», – ответила она ему. – Слушай, Уэс, а ты теперь куда?
Уэсли повернулся к Эверхарту.
– Он со мной, – сказал тот. – Я домой, оповещу родных. Мне не нужно их разрешение, но хочу удостовериться, что они не против.
– Билл, ты правда идешь в торговый флот? Я думала, ты просто перепил! – смеясь, призналась Полли.
– Почему нет? – рявкнул Эверхарт. – Я хочу на время убраться подальше от этого всего.
– А как же университет? – добавила Полли.
– Не проблема; нужно только попросить отпуск. Я работал шесть лет без продыху, они точно согласятся.
Полли переключилась на Уэсли:
– Ну, Уэс, жду тебя сегодня в шесть вечера – нет, давай в семь, мне нужно сделать маникюр у Мэй. Опять повеселимся. Знаешь какие-нибудь хорошие места? Куда бы нам наведаться?
– Конечно, – улыбнулся Уэсли, – мне всегда фартит в Гарлеме, у меня там друзья, я с ними, бывало, в море ходил.
– Превосходно! – пропела Полли. – Можем пойти туда. Впрочем, сначала хочу в кино, давай в «Парамаунт» на Боба Хоупа[13].
Уэсли пожал плечами:
– Я не против, только я сейчас без гроша.
– А, ерунда, возьму денег у тетушки! – крикнула Полли. – А ты что скажешь, Билл? Хочешь, я позвоню Ив? По-моему, она вечером никуда не собиралась, сегодня же пятница?
– Да, – отрешенно сказал Билл. – Посмотрим насчет вечера, я позвоню. Мне нужно повидаться с деканом Стюартом после обеда, по поводу отпуска.
Лицо Эверхарта, морщась в нерешительности и задумчивости, отвернулось к реке. На корме танкера он различал бельевую веревку, увешанную трусами, и крошечную фигурку позади четырехдюймовой пушки на орудийной башне.
– Я вижу кого-то на танкере, – улыбнулся Билл, указывая на далекое судно на якоре. – Почему он не развлекается на берегу?
Все трое посмотрели вдоль улицы на танкер.
– Ему уже хватило береговой суматохи, – заявил Уэсли странным и тихим голосом.
Эверхарт бросил пытливый взгляд на товарища.
– Уэсли! – скомандовала Полли, – заходи за мной ровно в семь, не забудь! Я буду ждать… – Она отступила, насупившись: – Хорошо?
– Да, – невозмутимо ответил Уэсли.
– Пока, парни! – пропела Полли, зашагав по улице.
– Пока! – сказал Эверхарт, слегка махнув.
– Адьос, – добавил Уэсли.
Полли обернулась и крикнула:
– В семь сегодня!
Билл и Уэсли перешли дорогу, подождав, пока мимо проурчит молочный грузовик.
– Я живу вон там, – сообщил Эверхарт, указывая на Клэрмонт-авеню. – Боже, ну и жарища сегодня!
Уэсли молчал, держа руки в карманах. Элегантный пожилой господин прошел мимо, коротко кивнув Эверхарту.
– Старик Парсонс, – пояснил тот.
Уэсли улыбнулся:






