Тайна Эдвина Друда Диккенс Чарльз
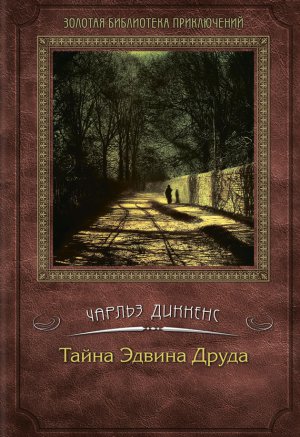
Общее настроение умиленной жалости, словно облаком окутавшее сиротку при первом ее появлении в Женской Обители, не рассеялось и позже. Оно только окрашивалось в более светлые тона по мере того, как девочка подрастала, хорошела и веселела. Оно бывало то золотым, то розовым, то лазурным, но всегда окружало ее каким-то особенным, трогательным ореолом. Все старались утешить ее и приласкать – а привело это к тому, что с Розой всегда обращались так, словно она была моложе своих лет, и продолжали баловать ее, как дитя, когда она уже вышла из детского возраста. Пансионерки спорили между собой, кто будет ее любимицей, кто, предугадывая ее желания, сделает ей какой-нибудь маленький подарок или окажет ту или иную услугу; кто возьмет ее к себе на праздники; кто станет чаще всех писать ей, пока они в разлуке, и кому она больше всего обрадуется при встрече – и это ребяческое соперничество порождало иной раз огорчения и ссоры в стенах Женской Обители. Но дай Бог, чтобы бедняжки-монахини, некогда искавшие здесь успокоения, таили под своими покрывалами и четками не более серьезные распри, чем эти!
Так Роза росла, оставаясь ребенком – милым, взбалмошным, своевольным и очаровательным; избалованным – в том смысле, что привыкла рассчитывать на доброту окружающих, но не в том смысле, что платила им равнодушием. В ней был неиссякаемый родник дружелюбия, и сверкающие его струи в течение многих лет освежали и озаряли сумрачный старый дом. Но глубины ее существа еще не были затронуты; и что станется с ней, когда это произойдет, какие перемены свершатся тогда в беззаботной головке и беспечном сердце, могло показать только будущее.
Весть о том, что молодые джентльмены вчера поссорились и чуть ли даже мистер Невил не поколотил Эдвина Друда, проникла в пансион еще до завтрака, а каким путем – сказать невозможно. То ли ее обронили на лету птицы или забросил ветер, когда утром раскрыли окна; то ли ее принес булочник запеченной в хлебе или молочник вместе с прочими подмесями, коими он разбавлял молоко; то ли она осела из воздуха на коврики, взамен пыли, которую из них выбили поутру служанки энергичными ударами о столбы ворот; достоверно одно – что весть эта расползлась по всему дому раньше, чем мисс Твинклтон сошла вниз; а мисс Твинклтон узнала ее от миссис Тишер, пока еще одевалась или – как сама она выразилась бы в разговоре с пристрастным к мифологии родителем или опекуном – возлагала жертвы на алтарь Граций.
Брат мисс Ландлес бросил бутылкой в мистера Эдвина Друда.
Брат мисс Ландлес бросил ножом в мистера Эдвина Друда.
Нож приводил на память вилку; откуда новый вариант: брат мисс Ландлес бросил вилкой в мистера Эдвина Друда.
Но если в известной истории о том, как Петрик-ветрик перчил вепря верцем-перцем – тру-ля-ля! – прежде всего заинтересовывает физический факт, а именно таинственный верец-перец, которым ветреный Петрик вздумал перчить незадачливого вепря, то в данной истории всех интересовал факт психологический, а именно таинственная причина, побудившая брата мисс Ландлес бросить в Эдвина бутылкой, ножом или вилкой, а может быть, даже бутылкой, ножом и вилкой, ибо, по сведениям, полученным поварихой, в деле участвовали все три предмета.
Желаете ее знать? Пожалуйста! Брат мисс Ландлес сказал, что влюблен в мисс Буттон. Мистер Эдвин Друд сказал, что это довольно нахально с его стороны – влюбляться в мисс Буттон (так по крайней мере выходило в изложении поварихи). Тогда брат мисс Ландлес вскочил, схватил бутылку, нож, вилку и графин (в последний момент усердием той же поварихи присоединенный к ранее обнародованному списку метательных снарядов) и запустил всем этим в мистера Эдвина Друда.
Бедная малютка Роза, когда до нее дошли эти вести, заткнула себе оба уха указательными пальчиками и, забившись в угол, только жалобно умоляла, чтобы ей ничего больше не рассказывали. Но действия мисс Ландлес отличались большей определенностью: надеясь узнать правду от мистера Криспаркла, она немедленно отправилась к мисс Твинклтон и просила разрешения пойти поговорить с братом, дав при этом понять, что обойдется и без разрешения, если в таковом ей будет отказано.
Когда Елена вернулась к своим товаркам (сперва задержавшись на короткое время в гостиной мисс Твинклтон, где принесенные сведения были заботливо отцежены от всего неприличного для ушей воспитанниц), она только одной Розе рассказала о вчерашнем столкновении, да и то не полностью; она утверждала – с пылающими щеками, – что брат ее был грубо оскорблен, но почти не коснулась всего, что предшествовало последнему непереносимому оскорблению: «Так, были разные колкости», – сказала она, но, щадя подругу, не пояснила, что колкости возникли главным образом оттого, что Эдвин слишком уж легко и небрежно говорил о предстоящей ему женитьбе. Затем она передала Розе уже непосредственно к ней обращенную просьбу брата – он умолял простить его, – и, выполнив свой сестринский долг, прекратила всякие разговоры на эту тему.
Необходимость умерить брожение умов в Женской Обители легла на плечи мисс Твинклтон. Когда эта почтенная матрона величаво вплыла в помещение, которое плебеи назвали бы классной комнатой, но которое на патрицианском языке начальницы Женской Обители эвфуистически и, возможно, не в полном соответствии с действительностью именовалось «залом для научных занятий», и торжественно, как прокурор на суде, произнесла: «Милостивые государыни!» – все встали. Миссис Тишер тотчас с видом воинственной преданности заняла место позади своей хозяйки, как бы изображая собой отмеченную историей первую сторонницу королевы Елизаветы во время памятных событий в Тильбюрийском форте[5]. Затем мисс Твинклтон сказала, что Молва, милостивые государыни, была изображена Эвонским бардом – надеюсь, всем понятно, что речь идет о бессмертном Шекспире, которого также называют Лебедем его родной реки, основываясь, надо полагать, на древнем суеверии, будто эта птица с изящным оперением (мисс Дженнингс, будьте добры стоять прямо) сладкогласно поет перед смертью, что, однако, не подтверждается данными орнитологии, – итак, Молва, милостивые государыни, была изображена этим бардом, который… э-гм!
- …пером как кистью владея,
- Оставил нам блистательный портрет еврея.
Молва, говорю я, была изображена им стоустой и многоязыкой. Молва в Клойстергэме (мисс Фердинанд, не откажите уделить мне немного внимания) не отличается от Молвы во всех прочих местах, имея те же характеристические черты, столь тонко подмеченные великим портретистом. Незначительный fracas между двумя молодыми джентльменами, имевший место вчера вечером в радиусе не далее ста миль от этих мирных стен (так как мисс Фердинанд по всем признакам неисправима, ей придется сегодня же вечером переписать первые четыре басни нашего остроумного соседа, мосье Лафонтена, на языке автора), был грубо преувеличен устами Молвы. В первую минуту смятения и тревоги, вызванной сочувствием к дорогому нам юному существу, для которого в известном смысле не является чужим один из гладиаторов, подвизавшихся на вышеупомянутой бескровной арене (неприличие поведения мисс Рейнольдс, пытающейся, кажется, поразить себя в бант булавкой, слишком очевидно и столь недостойно молодой девицы, что о нем незачем и говорить), мы решили сойти с наших девственных высот, дабы обсудить эту низменную и всячески неподобающую тему. Однако свидетельства авторитетных лиц убедили нас в том, что все происшедшее относится к категории тех «воздушных миражей», о коих говорит поэт (чье имя и дату рождения мисс Гигглс будет добра выяснить в течение ближайшего получаса), и мы предлагаем вам забыть этот прискорбный случай и сосредоточить все свое внимание на приятных трудах текущего дня.
Но прискорбный случай не был забыт во весь текущий день, и за обедом мисс Фердинанд навлекла на себя новые кары, так как, нацепив бумажные усы, исподтишка замахивалась графином на мисс Гигглс, а та оборонялась столовой ложкой.
Роза также много думала о вчерашних событиях, думала с гнетущим чувством, смутно догадываясь, что и сама она как-то замешана в этой истории – не то в ее причинах, не то в последствиях, не то еще неизвестно как – и что это связано с общим ее фальшивым положением в отношении жениха и помолвки. В последнее время это гнетущее чувство не покидало ее как в присутствии Эдвина, так и тогда, когда его с ней не было. А в этот день она вдобавок была предоставлена самой себе и даже не могла отвести душу в откровенной беседе со своей новой подругой, потому что ссора-то была с братом Елены, и та явно избегала трудного и щекотливого для нее разговора. И как на грех, именно в этот критический момент Розе сообщили, что прибыл ее опекун и желает ее видеть.
Мистер Грюджиус был назначен опекуном Розы за свою безупречную честность – и этим необходимым для опекуна внутренним качеством он обладал вполне, но внешние его данные не слишком соответствовали такой роли. Он был до того сух и тощ, что казалось, если его смолоть на мельнице, от него останется только горсточка сухого нюхательного табаку. Его коротко остриженная голова напоминала старую шапку из облезлого желтого меха – так мало походила украшавшая ее скудная поросль на обыкновенные человеческие волосы. В первую минуту всякий, глядя на него, думал, что он в парике, но тут же отвергал эту мысль, ибо невозможно было себе представить, чтобы кто-нибудь по доброй воле стал носить такой безобразный парик. Его корявое лицо с резкими морщинами на лбу отличалось какой-то деревянной неподвижностью, как будто Природа, создавая его, очень торопилась и, не успев придать наспех вырубленным чертам какое-либо выражение – по замыслу, может быть, даже чувствительное и тонкое, – отбросила резец и сказала: «Ну, мне некогда доделывать этого человека, пусть идет так».
Нескладный и долговязый, с длинной жилистой шеей на верхнем конце его сухопарой фигуры и длинными ступнями и пятками на нижнем ее конце, неловкий и угловатый, с медлительной речью и неуклюжей поступью, очень близорукий – отчего, вероятно, и не замечал, что белые носки на добрую четверть выглядывают у него из-под брюк, составляя разительный контраст со строгим черным костюмом, – мистер Грюджиус тем не менее производил в целом приятное впечатление.
Роза нашла своего опекуна в обществе мисс Твинклтон в маленькой ее гостиной, где тот сидел, вытянувшись, как палка, и со страхом взирая на свою собеседницу. Бедный джентльмен, видимо, опасался, что его сейчас начнут экзаменовать по какому-нибудь предмету, и не надеялся с честью пройти сквозь такое испытание.
– Здравствуйте, дорогая. Очень рад вас видеть, дорогая моя. Как вы похорошели! Позвольте, я подам вам стул.
Мисс Твинклтон встала из-за своего письменного столика и со сладкой улыбкой, обращенной не к кому-либо в частности, а ко всей Вселенной, долженствующей служить зеркалом ее изысканных манер, проговорила:
– Вы разрешите мне удалиться?
– Ради Бога, сударыня, не беспокойтесь из-за меня. Умоляю вас, не трогайтесь с места.
– Я все-таки попрошу вас разрешить мне тронуться с места, – возразила мисс Твинклтон, с очаровательной грацией повторяя его слова, – но я не удалюсь, раз вы так любезны. Если я передвину свой столик в угол, к окну, я не буду вам мешать?
– Вы – мешать нам?.. Сударыня!..
– Вы очень добры, сэр, благодарю вас. Роза, милочка, вы можете говорить совершенно свободно.
Мистер Грюджиус, оставшись с Розой в сравнительном уединении у камина, снова проговорил:
– Здравствуйте, дорогая. Очень рад вас видеть, дорогая моя, – и, дождавшись, пока Роза сядет, уселся сам. – Мои посещения, – начал он, – подобны посещениям ангелов. Не подумайте, что я сравниваю себя с ангелом…
– Нет, сэр, – сказала Роза.
– Нет, конечно, – подтвердил мистер Грюджиус. – Я только хотел сказать, что мои посещения столь же редки и немногочисленны. Что же касается ангелов, то, как мы знаем, они сейчас наверху.
Мисс Твинклтон, подняв голову, воззрилась на него с недоумением.
– Я имел в виду, моя дорогая, – сказал мистер Грюджиус и поспешно взял Розу за руку, испугавшись, что мисс Твинклтон может принять на свой счет это фамильярное обращение, – я имел в виду остальных молодых девиц.
Мисс Твинклтон снова склонилась над письмом.
Мистер Грюджиус, чувствуя, что начало вышло у него не совсем удачное, крепко пригладил волосы от затылка ко лбу, как если бы он только что нырнул и теперь выжимал из них воду, – этот не оправданный необходимостью жест был у него привычным – и достал из кармана сюртука записную книжку, а из жилетного кармана огрызок карандаша.
– Я тут кое-что записал для памяти, – проговорил он, листая книжку, – я всегда так делаю, ибо ни в какой мере не обладаю даром свободного изложения, – и, если позволите, моя дорогая, я теперь обращусь к этим записям. Первое. «Здорова и благополучна». Судя по вашему цветущему виду, моя дорогая, вы ведь здоровы и благополучны?
– О да, – ответила Роза.
– За что, – подхватил мистер Грюджиус с легким поклоном в сторону углового окна, – мы должны быть благодарны – и мы, без сомнения, благодарны – материнскому попечению и неустанным заботам глубокоуважаемой леди, которую я имею честь видеть сейчас перед собой.
Но и это галантное отступление не имело успеха – оно даже не дошло по адресу, так как мисс Твинклтон, решив к этому времени, что деликатность возбраняет ей всякое участие в разговоре, сидела, покусывая перо и возведя глаза к потолку, словно ожидая, что которая-нибудь из Девяти Небожительниц[6] выбросит ей малую толику вдохновения от своих излишков.
Мистер Грюджиус, вновь пригладив свои и без того гладкие волосы, обратился опять к записной книжке и вычеркнул слова «здорова и благополучна» как вопрос уже разрешенный.
– «Фунты, шиллинги и пенсы» – гласит моя следующая запись. Сухая материя для молодой девицы, но весьма важная. Жизнь – это фунты, шиллинги и пенсы. Смерть, – но тут мистер Грюджиус вспомнил о сиротстве Розы и закончил уже мягче, на ходу перестроив свою философию введением отрицательной частицы, – смерть – это не фунты, шиллинги и пенсы.
Голос у него был такой же сухой и жесткий, как он сам, и если бы – допустим такой полет фантазии – смолоть его голос на мельнице, он тоже, наверно, превратился бы в щепотку сухого нюхательного табаку. И все же, как ни мало был этот голос приспособлен для выражения чувств, сейчас он, казалось, выражал доброту. А если бы Природа успела доделать мистера Грюджиуса, то и черты его в этот миг, вероятно, озарились бы доброй улыбкой. Но разве он виноват, бедняга, что на грубой личине, которую он был обречен носить, даже улыбка становилась похожа на гримасу?
– «Фунты, шиллинги и пенсы». Хватает ли вам карманных денег, моя дорогая? Вы ни в чем не нуждаетесь?
Роза сказала, что ни в чем не нуждается и денег ей хватает.
– И у вас нет долгов?
Роза весело рассмеялась. Мысль, что у нее могут быть долги, показалась ей неотразимо комичной. Мистер Грюджиус близоруко прищурился, проверяя по лицу Розы, действительно ли таково ее отношение к этому вопросу.
– А! – сказал он с боковым взглядом в сторону мисс Твинклтон и вычеркнул «фунты, шиллинги и пенсы». – Я же говорил, что попал к ангелам. Так оно и есть.
О чем будет следующий вопрос, Роза догадалась еще до того, как мистер Грюджиус отыскал соответствующую запись, и ждала, зардевшись, дрожащей рукой загибая складочки на своем платье.
– «Свадьба». Э-гм! – Мистер Грюджиус провел ладонью не только по голове, но и по глазам, носу и даже подбородку. Затем придвинул свой стул ближе к Розе и заговорил пониженным голосом: – Теперь, моя дорогая, я коснусь того пункта, который является главной причиной моего сегодняшнего посещения. Не будь этой причины, я не стал бы вас беспокоить. Я чрезвычайно Угловатый Человек, моя дорогая, и меньше всего хотел бы вторгаться в столь неподходящую для меня сферу. Боюсь, что в ней я буду выглядеть как хромой медведь среди веселого котильона.
Внешний вид мистера Грюджиуса настолько оправдывал это сравнение, что Роза прыснула со смеху.
– Я вижу, и вы того же мнения, – сказал мистер Грюджиус с невозмутимым спокойствием. – Понятно. Но вернемся к моим записям. Мистер Эдвин время от времени виделся с вами, как и было предусмотрено. Вы упоминали об этом в письмах, которые я регулярно получал от вас раз в три месяца. И вы любите его, а он любит вас.
– Я очень привязана к нему, сэр, – сказала Роза.
– Я же это и говорю, – подтвердил мистер Грюджиус, от чьих ушей ускользнула разница оттенков, которую робко пыталась подчеркнуть Роза. – Прекрасно. И ваше взаимное чувство нашло выражение в дружеской переписке.
– Да, мы пишем друг другу, – коротко ответила Роза и надула губки, вспомнив кое-какие эпистолярные разногласия со своим женихом.
– Именно это я и хотел сказать, моя дорогая. Хорошо. Все, стало быть, в порядке, время идет, и на Рождество я должен буду послать сидящей сейчас у окна и достойной всяческого уважения даме, которой мы столь многим обязаны, официальное уведомление о том, что через полгода вы ее покинете. Вас связывают с ней не только деловые отношения – далеко нет! – но некоторый деловой элемент в них все же имеется, а дела всегда дела. Я чрезвычайно Угловатый Человек, моя дорогая, – продолжал мистер Грюджиус таким тоном, как будто эта мысль только сейчас пришла ему в голову, – и, кроме того, я никогда не был отцом. Поэтому, если на роль вашего посаженого отца будет предложено другое лицо, более подходящее во всех отношениях, я охотно уступлю ему место.
Роза пролепетала, потупясь, что заместителя, вероятно, можно будет найти, если потребуется.
– Конечно, конечно, – сказал мистер Грюджиус. – Например, этот господин, что учит вас танцам, – он-то сумел бы все выполнить с приличной случаю грацией. И шаг вперед, и шаг назад, и поворот – все это вышло бы у него так ловко, что доставило бы полное удовлетворение и заинтересованному духовному лицу, и вам самой, и жениху, и всем присутствующим. А я – нет, я чрезвычайно Угловатый Человек, – закончил мистер Грюджиус, как бы разрешив все свои сомнения на этот счет, – я бы только напутал.
Роза сидела молча и не поднимая глаз. Возможно, ее воображение не простиралось так далеко и, вместо того чтобы обратиться непосредственно к брачной церемонии, замешкалось где-то на подступах к ней.
– Далее. «Завещание». Так. – Мистер Грюджиус зачеркнул карандашом слово «Свадьба» и достал из кармана сложенную вчетверо бумагу. – Видите ли, дорогая, хотя я уже ранее ознакомил вас с завещанием вашего отца, я считаю, что теперь вам следует иметь на руках заверенную копию. И равным образом, хотя мистеру Эдвину известно это завещание, я намерен вручить заверенную копию мистеру Джасперу.
– А не самому Эдди? – спросила Роза, быстро вскинув глаза на мистера Грюджиуса. – Нельзя ли отдать прямо ему?
– Можно и прямо мистеру Эдвину, если вы этого хотите. Я только думал, что мистер Джаспер, как его опекун…
– Да, я этого хочу, – поспешно и горячо перебила его Роза. – Мне неприятно, что мистер Джаспер как будто становится между нами.
– Ну что ж, – сказал мистер Грюджиус, – вероятно, для вас естественно не желать посредников между вами и вашим юным супругом. Заметьте, я сказал «вероятно». Ибо сам я в высшей степени не естественный человек и ничего в этом не понимаю.
Роза посмотрела на него с некоторым удивлением.
– Я хочу сказать, – пояснил он, – что мне незнакомы чувства юности. Я был единственным отпрыском пожилых родителей, и мне кажется иногда, что я и родился-то пожилым. Отнюдь не желая строить каламбуры на прелестной фамилии, которую вы вскоре перестанете носить, я позволю себе заметить, что, если большинство людей, вступая в жизнь, бывают бутонами, я при своем вступлении в жизнь был щепкой. Я уже был щепкой – и весьма сухой, – когда еще только начал себя помнить. Итак, что касается второй заверенной копии, с ней будет поступлено согласно вашему желанию. Что касается вашего наследства – то тут, по-моему, вы все знаете. Оно состоит из ежегодной ренты в двести пятьдесят фунтов. Остатки от этой ренты, за вычетом расходов на ваше содержание, равно как и некоторые другие поступления, все надлежащим образом записаны на приход, с приложением оправдательных документов, так что в настоящее время вы являетесь обладательницей кругленькой суммы в тысячу семьсот фунтов – или несколько более. Я имею право авансировать вас из этого капитала на приготовления к свадьбе. Вот, кажется, и все.
– Можно вас спросить, сэр, – проговорила Роза, наморщив свои хорошенькие бровки и держа в руках заверенную копию, но не заглядывая в нее, – насчет этого завещания? Я гораздо лучше понимаю, когда вы говорите, чем когда сама читаю всякие такие документы. Вы меня поправьте, если я ошибусь. Ведь мой покойный папа и Эддин покойный отец решили нас поженить потому, что сами они были близкими друзьями, верными и преданными, и хотели, чтобы мы после них тоже были друзьями, такими же близкими, верными и преданными?
– Именно так.
– Потому что они хотели, чтобы нам обоим было хорошо и мы оба были счастливы?
– Именно так.
– Чтобы между нами была даже еще большая близость, чем когда-то между ними?
– Именно так.
– И там нет, в этом завещании, такого условия… такой оговорки, что Эдди что-то теряет или я теряю, если… если…
– Не волнуйтесь, моя дорогая. В том случае, одна мысль о котором ранит ваше любящее сердечко и вызывает слезы у вас на глазах, – то есть в случае, если бы вы с мистером Эдвином не поженились, – нет, ни вы, ни он ничего не теряете. Вы тогда просто останетесь под моей опекой до вашего совершеннолетия. Ничего худшего с вами не произойдет, хотя, пожалуй, и это достаточно плохо.
– А Эдди?
– Он, достигнув совершеннолетия, вступит во владение своим паем в той фирме, где его отец был компаньоном. А также получит остаток – если таковой будет – от дивидендов на этот пай. Для него ничего не изменится.
Роза по-прежнему сидела потупившись, склонив головку набок и наморщив брови. Покусывая уголок своей заверенной копии, она задумчиво водила ножкой по полу.
– Одним словом, – сказал мистер Грюджиус, – ваша помолвка – это только пожелание, мечта, выражение дружеских чувств, соединявших вашего отца и отца мистера Эдвина. Конечно, они очень желали этого брака и надеялись, что он осуществится. А вы с мистером Эдвином с детства привыкли к этой мысли – и вот мечта ваших родителей осуществилась. Но обстоятельства могут измениться, и я сегодня посетил Женскую Обитель отчасти, и даже главным образом, для того, чтобы выполнить то, что я почитаю своей обязанностью, а именно сказать вам, моя дорогая, что юноша и девушка лишь тогда должны вступать в брак – если только это не брак по расчету, то есть пародия на брак и роковая ошибка, грозящая всякими несчастьями в будущем, – что они лишь тогда должны вступать в брак, когда делают это по собственной воле, по взаимной любви и с уверенностью, что они подходят друг другу и будут счастливы вместе (тут, конечно, тоже возможны ошибки, но уж с этим ничего не поделаешь). И разве можно представить себе, что ваш отец или отец мистера Эдвина, если бы сейчас был жив и возымел хоть малейшее сомнение в желательности для вас этого брака, продолжал бы настаивать на своих прежних планах, даже видя, что обстоятельства изменились? Такое предположение невозможно, неразумно, нелогично и совершенно нелепо!
Все это мистер Грюджиус проговорил так, словно читал вслух или отвечал вытверженный урок, – настолько чужда ему была всякая непосредственность в выражении чувств.
– Итак, моя дорогая, – добавил он, вычеркивая «Завещание» у себя в книжке, – я исполнил свою обязанность – чисто формальную в данном случае, но в других подобных казусах необходимую. Пойдем далее. «Пожелания». Нет ли у вас каких-нибудь пожеланий, которые я могу исполнить?
Роза покачала головкой – как-то грустно и потерянно, словно бы и хотела, но не решалась просить помощи.
– Не будет ли от вас каких указаний относительно ваших дел?
– Я… я хотела бы сперва поговорить с Эдди, – сказала Роза, загибая складочки на своем платье.
– Конечно, конечно, – одобрил мистер Грюджиус. – У вас с ним должно быть полное единодушие. Когда он опять вас посетит?
– Он только сегодня уехал. А приедет на Рождество.
– Превосходно. Стало быть, при следующем вашем свидании вы все подробно обсудите и сообщите мне, а я выполню свои обязательства – чисто деловые! – перед достойной леди, сидящей сейчас у окна. Вероятно, будут дополнительные расходы – тем более на праздниках. – Огрызок карандаша снова появился в руках мистера Грюджиуса. – Следующая запись. «Прощание». Да, теперь, с вашего позволения, моя дорогая, я с вами попрощаюсь.
Он неуклюже поднялся с кресла. Роза тоже встала.
– А не могу ли я, – сказала она, – попросить вас тоже приехать на Рождество? Мне, может быть, нужно будет что-нибудь вам сказать.
– Ну разумеется, моя дорогая, – ответил он, видимо польщенный (если можно сказать так о человеке, на чьем лице никогда не замечалось видимых признаков каких-либо эмоций, приятных или неприятных). Я чрезвычайно Угловатый Человек и не умею вращаться в обществе, поэтому на праздниках у меня не предвидится никаких светских развлечений, кроме обеда с моим клерком – тоже весьма угловатым господином, которого мне удалось залучить себе в помощники. Его отец, норфолкский фермер, каждый год посылает мне в подарок вскормленную в окрестностях Норича индейку, каковую мы обычно и вкушаем вдвоем в первый день Рождества под соусом из сельдерея. Я прямо-таки горжусь, моя дорогая, тем, что вы хотите меня видеть. По моей должности сборщика арендной платы люди очень редко хотят меня видеть, и то, что вы обнаружили такое желание, это для меня приятная новинка.
Тут Роза, признательная мистеру Грюджиусу за столь быстрое согласие на ее просьбу, положила ручки ему на плечи, привстала на цыпочки и крепко его поцеловала.
– Бог мой! – воскликнул мистер Грюджиус. – Благодарю вас, моя дорогая! Это большая честь для меня – и большое удовольствие. Мисс Твинклтон, мы весьма приятно побеседовали с моей подопечной, и я больше не буду докучать вам своим присутствием.
– Нет, нет, сэр, – с любезной снисходительностью возразила мисс Твинклтон, вставая. – Не говорите так – докучать! Ни в коем случае. Я вам не разрешаю.
– Благодарю вас, сударыня. Я читал в газетах, – начал мистер Грюджиус, слегка запинаясь, – что когда какой-нибудь знатный гость (но я, конечно, не знатный гость, отнюдь нет) посещает школу (но это образцовое учебное заведение, конечно, не просто школа, отнюдь нет), он обыкновенно просит отпустить детей пораньше или отменить наказание провинившемуся. Сейчас дневные занятия в этом… э-э… колледже, коего вы являетесь достойной главой, уже окончены, так что первое не имеет смысла. Но если кто-нибудь из молодых девиц сейчас… э-э… в немилости, то, может быть, вы позволите мне…
– Ах, мистер Грюджиус, мистер Грюджиус! – воскликнула мисс Твинклтон, с целомудренно кокетливой ужимкой грозя ему пальчиком. – О мужчины, мужчины! Как вам не стыдно подозревать нас, бедных опороченных блюстителей дисциплины, в жестокосердии по отношению к нашему полу! И как вы уверены в нашем мягкосердии по отношению к вашему полу! Но так как мисс Фердинанд страждет сейчас под тяжестью баснописца, – мисс Твинклтон имела в виду тяжкие труды этой девицы по переписыванию басен мосье Лафонтена, – то будьте добры, Роза, милочка, пойдите к ней и скажите, что наказание отменяется из уважения к ходатайству вашего опекуна, мистера Грюджиуса!
Тут мисс Твинклтон сделала глубокий реверанс – до того уж глубокий, что даже страшно подумать, какие чудеса должны были вытворять при этом ее почтенные ноги, – и победоносно выпрямилась, в добрых трех шагах расстояния от исходной точки.
Считая необходимым повидаться с мистером Джаспером до своего отъезда из Клойстергэма, мистер Грюджиус направился к домику над воротами и поднялся по лестнице. Но дверь была заперта, на приколотой к ней бумажке написано – «Я в соборе», и тут только мистер Грюджиус вспомнил, что в этот час в соборе обычно идет служба. Он снова спустился вниз, прошел по аллее и остановился у широких западных дверей собора; обе их створки были распахнуты настежь, так как день, хотя и короткий по-осеннему, был ясный и теплый и этим воспользовались, чтобы проветрить церковь. Мистер Грюджиус заглянул через порог.
– Бог ты мой! – сказал он. – Как будто смотришь в самое нутро Старика Времени!
Старик Время дохнул ему в лицо; из-под сводов, от гробниц и склепов донеслось леденящее дуновение; по углам уже сгущались мрачные тени; зеленая плесень на стенах источала сырость; рубины и сапфиры, рассыпанные по каменному полу проникавшими сквозь цветные стекла косыми лучами солнца, начинали гаснуть. За решеткою алтаря на ступеньках, над которыми высился уже окутанный тьмой орган, еще смутно белели стихари причта; и временами слышался слабый надтреснутый голос, который что-то монотонно бормотал, то чуть погромче, то совсем затихая. Снаружи, на вольном воздухе, река, зеленые пастбища и бурые пашни, ближние лощины и убегающие вдаль холмы – все было залито алым пламенем заката; оконца ветряных мельниц и фермерских домиков горели, как бляхи из кованого золота. А в соборе все было серым, мрачным, погребальным; и слабый надтреснутый голос все что-то бормотал, бормотал, дрожащий, прерывистый, как голос умирающего. Внезапно вступили орган и хор, и голос утонул в море музыки. Потом море отхлынуло, и умирающий голос еще раз возвысился в слабой попытке что-то договорить – но море нахлынуло снова, смяло его, и прикончило ударами волн, и заклокотало под сводами, и грянуло о крышу, и взметнулось в самую высь соборной башни. А затем море вдруг высохло, и настала тишина.
Мистер Грюджиус к этому времени успел пробраться ближе к алтарю, и теперь навстречу ему текли людские волны.
– Что-нибудь случилось? – быстро спросил Джаспер, подходя к нему. – За вами посылали?
– Нет, нет. Я приехал по собственному почину. Повидался с моей очаровательной подопечной и теперь собираюсь в обратный путь.
– Как вы ее нашли – здоровой и благополучной?
– О да, вполне. Вот уж именно можно сказать – цветет, как цветочек. А я приехал, собственно, затем, чтобы разъяснить ей, что такое помолвка, обусловленная, как в данном случае, волей покойных родителей.
– Ну и что же она такое, по-вашему?
Мистер Грюджиус заметил, как бледны были губы мистера Джаспера, когда он задавал этот вопрос, и приписал это действию холода и сырости.
– Я приехал, собственно, затем, чтобы сказать ей, что такую помолвку нельзя считать обязательной, если хотя бы одна из сторон имеет возражения – такие, например, как отсутствие сердечной склонности или нежелание вступать в брак.
– Смею спросить – у вас были какие-нибудь особые причины для таких разъяснений?
– Только одна, сэр, – сухо ответил мистер Грюджиус, – я считал, что это мой долг. – Потом добавил: – Не обижайтесь на меня, мистер Джаспер. Я знаю, как вы привязаны к своему племяннику и как близко принимаете к сердцу его интересы. Но уверяю вас, этот шаг, который я сегодня предпринял, отнюдь не был подсказан какими-либо сомнениями в чувствах вашего племянника или неуважением к нему.
– Вы очень деликатно это выразили, – сказал Джаспер и дружески пожал локоть мистера Грюджиуса, когда оба они, повернувшись, медленно направились к выходу.
Мистер Грюджиус снял шляпу, пригладил волосы, удовлетворенно кивнул и снова надел шляпу.
– Держу пари, – улыбаясь, сказал Джаспер; губы у него были так бледны, что он сам, должно быть, это чувствовал и, говоря, все время покусывал их и проводил по ним языком, – держу пари, что она не выразила желания расторгнуть свою помолвку с Нэдом.
– И вы не проиграете, – отвечал мистер Грюджиус. – Конечно, у столь юного создания, да еще одинокой сиротки, возможна при таких обстоятельствах известная сдержанность, девическая стыдливость, нежелание посвящать посторонних в свои маленькие сердечные тайны – я не знаю, все это не по моей части, – но с этим надо считаться, как вы полагаете?
– Вне всяких сомнений.
– Я рад, что вы так думаете. Потому что, видите ли, – мистер Грюджиус все это время осторожно подбирался к тому, что сама Роза сказала о посредничестве мистера Джаспера, – потому что у нее, видите ли, есть такое чувство, что все предварительные переговоры должны происходить только между нею и мистером Эдвином Друдом. Понимаете? Мы ей не нужны. Понимаете?
Джаспер прикоснулся к своей груди и сказал каким-то мятым голосом:
– То есть я не нужен.
Мистер Грюджиус тоже прикоснулся к своей груди.
– Я сказал, мы. Так что пусть они сами, вдвоем, все обсудят и уладят, когда мистер Эдвин Друд приедет сюда на Рождество. А уж потом выступим мы и докончим остальное.
– Значит, вы с ней договорились, что тоже приедете на Рождество? – спросил Джаспер. – Понимаю! Мистер Грюджиус, вы только что говорили о моем отношении к племяннику, и вы совершенно правы – я питаю к нему исключительную привязанность, и счастье моего дорогого мальчика, до сих пор знавшего в жизни только радости и удачи, его счастье мне дороже, чем мое собственное. Но как вы справедливо заметили, с чувствами молодой девицы тоже надо считаться, и тут, конечно, я должен следовать вашим указаниям. Согласен. Стало быть, насколько я понимаю, на Рождество они подготовятся к маю и сами уладят все, что касается свадьбы, а нам останется только подготовить деловую часть и в день рождения Эдвина сложить с себя наши опекунские обязанности.
– Так и я это понимаю, – подтвердил мистер Грюджиус, пожимая ему на прощание руку. – Да благословит их Бог!
– Да спасет их Бог! – воскликнул Джаспер.
– Я сказал – благословит, – заметил мистер Грюджиус, оглядываясь на него через плечо.
– А я сказал – спасет, – возразил Джаспер. – Разве это не одно и то же?
Глава X
Попытки примирения
Неоднократно отмечалось, что женщины обладают прелюбопытной способностью угадывать характер человека, способностью, очевидно, врожденной и инстинктивной, ибо к своим выводам они приходят отнюдь не путем последовательного рассуждения и даже не могут сколько-нибудь удовлетворительно объяснить, как это у них получилось. Но взгляды свои они высказывают с поразительной уверенностью, даже когда эти взгляды вовсе не совпадают с многочисленными наблюдениями лиц противоположного пола. Реже отмечалась другая черта этих женских догадок (подверженных ошибкам, как и все человеческие взгляды) – а именно, что женщины решительно не способны их пересмотреть и, однажды выразив свое мнение, после уж ни за что от него не откажутся, хотя бы действительность его в дальнейшем и опровергла, что роднит таковые женские суждения с предрассудками. Более того: даже самая отдаленная возможность противоречия и опровержения побуждает прекрасную отгадчицу еще горячее и упорнее настаивать на своем, подобно заинтересованному свидетелю на суде – так глубоко и лично она связывает себя со своей догадкой.
– Не думаешь ли ты, мамочка, – сказал однажды младший каноник своей матери, когда она сидела с вязаньем в его маленькой библиотечной комнате, – не думаешь ли ты, что ты слишком уж строга к мистеру Невилу?
– Нет, Септ, не думаю, – возразила старая дама.
– Давай обсудим это, мамочка.
– Пожалуйста, Септ. Не возражаю. Кажется, я никогда не отказывалась что-либо обсудить. – При этом ленты на ее чепчике так затряслись, как будто про себя она прибавила: «И хотела бы я посмотреть, какое обсуждение заставит меня изменить мои взгляды!»
– Хорошо, мамочка, – согласился ее миролюбивый сын. – Конечно, что может быть лучше, чем обсудить вопрос со всех сторон, беспристрастно, с открытой душой!
– Да, милый, – коротко ответствовала старая дама, всем своим видом показывая, что ее собственная душа заперта наглухо.
– Ну вот! В тот злополучный вечер мистер Невил, конечно, вел себя очень дурно, – но ведь это было под влиянием гнева!
– И глинтвейна, – добавила старая дама.
– Верно. Не спорю. Но мне кажется, оба молодых человека были примерно в одинаковом состоянии.
– А мне не кажется, – отпарировала старая дама.
– Да почему же, мамочка?..
– Не кажется, вот и все, – твердо заявила старая дама. – Но я, конечно, не отказываюсь это обсудить.
– Милая мамочка, как же мы будем это обсуждать, если ты сразу занимаешь такую непримиримую позицию?
– А уж за это ты вини мистера Невила, а не меня, – строго и с достоинством пояснила старая дама.
– Мамочка! Да почему же мистера Невила?..
– Потому, – сказала миссис Криспаркл, возвращаясь к исходной точке, – потому что он вернулся домой пьяный и тем опозорил наш дом и выказал неуважение к нашей семье.
– Это все верно, мамочка. Он сам очень этим огорчен и глубоко раскаивается.
– Если б не мистер Джаспер, не его деликатность и заботливость, – он ведь сам подошел ко мне на другой день в церкви сейчас же после службы, не успев даже снять стихарь, и спросил, не напугалась ли я ночью, не был ли грубо потревожен мой сон, – я бы, пожалуй, так и не узнала об этом прискорбном происшествии!
– Признаться, мамочка, мне очень хотелось все это от тебя скрыть. Но тогда я еще не решил. Я стал искать Джаспера, чтобы поговорить, посоветоваться – не лучше ли нам с ним общими усилиями потушить эту историю в самом зародыше, – и вдруг вижу, он разговаривает с тобой. Так что было уже поздно.
– Да, уж конечно, поздно, Септ. Бедный мистер Джаспер, на нем прямо лица не было – после всего, что ему пришлось пережить за эту ночь.
– Мамочка, если я хотел скрыть от тебя, так ведь это ради твоего спокойствия, чтобы ты не волновалась и не тревожилась, и ради блага обоих молодых людей – чтобы избавить их от неприятностей. Я только старался наилучшим образом выполнить свой долг – в меру моего разумения.
Старая дама тотчас отложила вязанье и, перейдя через комнату, поцеловала сына.
– Я знаю, Септ, дорогой мой, – сказала она.
– Как бы там ни было, а теперь уж об этом говорит весь город, – продолжал, потирая ухо, мистер Криспаркл после того, как его мать снова села и принялась за вязанье, – и я бессилен.
– А я тогда же сказала, Септ, – отвечала старая дама, – что я плохого мнения о мистере Невиле. И сейчас скажу: я о нем плохого мнения. Я тогда же сказала и сейчас скажу: я надеюсь, что он исправится, но я в это не верю. – И ленты на чепчике миссис Криспаркл опять пришли в сотрясение.
– Мне очень грустно это слышать, мамочка…
– Мне очень грустно это говорить, милый, – перебила старая дама, энергично двигая спицами, – но ничего не могу поделать.
– …потому что, – продолжал младший каноник, – нельзя отрицать, что мистер Невил очень прилежен и внимателен, и делает большие успехи, и – как мне кажется – очень привязан ко мне.
– Последнее вовсе не его заслуга, – быстро вмешалась старая дама. – А если он говорит, что это его заслуга, так тем хуже: значит, он хвастун.
– Мамочка, да он же никогда этого не говорил!..
– Может, и не говорил, – отвечала старая дама. – Но это ничего не меняет.
В ласковом взгляде мистера Криспаркла, обращенном на его милую фарфоровую пастушку, быстро шевелящую спицами, не было и следа раздражения; скорее в нем читалось не лишенное юмора сознание, что с такими очаровательными фарфоровыми существами бесполезно спорить.
– Кроме того, Септ, ты спроси себя: чем он был бы без своей сестры? Ты отлично знаешь, какое она имеет на него влияние; ты знаешь, какие у нее способности; ты знаешь, что все, что он учит для тебя, они учат вместе. Вычти из своих похвал то, что приходится на ее долю, и скажи, что тогда останется ему?
При этих словах мистер Криспаркл впал в задумчивость – и перед ним начали всплывать воспоминания. Он вспомнил о том, как часто видел брата и сестру в оживленной беседе над каким-нибудь из его старых учебников – то студеным утром, когда он по заиндевелой траве направлялся к клойстергэмской плотине для обычного своего бодрящего купанья; то под вечер, когда он подставлял лицо закатному ветру, взобравшись на свой любимый наблюдательный пункт – высящийся над дорогой край монастырских развалин, а две маленькие фигурки проходили внизу вдоль реки, в которой уже отражались огни города, отчего еще темнее и печальней казались одетые сумраком берега. Он вспомнил о том, как понял мало-помалу, что, обучая одного, он, в сущности, обучает двоих, и невольно – почти незаметно для самого себя – стал приспосабливать свои разъяснения для обоих жаждущих умов: того, с которым находился в ежедневном общении, и того, с которым соприкасался только через посредство первого. Он вспомнил о слухах, доходивших до него из Женской Обители, – о том, что Елена, к которой он вначале отнесся с таким недоверием за ее гордость и властность, совершенно покорилась маленькой фее (как он называл невесту Эдвина) и учится у нее всему, что та знает. Он думал об этой странной и трогательной дружбе между двумя существами, внешне столь несхожими. А больше всего он думал – и удивлялся, – как это вышло, что все это началось какой-нибудь месяц назад, а уже стало неотъемлемой частью его жизни?
Всякий раз, как достопочтенный Септимус впадал в задумчивость, мать его видела в том верный признак, что ему необходимо подкрепиться. Так и на сей раз миловидная старая дама тотчас поспешила в столовую к буфету, дабы извлечь из него требуемое подкрепленье в виде стаканчика констанции[7] и домашних сухариков. Это был удивительный буфет, достойный Клойстергэма и Дома младшего каноника. Со стены над ним взирал на вас портрет Генделя[8] в завитом парике, с многозначительной улыбкой на устах и с вдохновенным взором, как бы говорившими, что уж ему-то хорошо известно содержимое этого буфета и он сумеет все заключенные в нем гармонии сочетать в одну великолепную фугу. Это был не какой-нибудь заурядный буфет с простецкими створками на петлях, которые, распахнувшись, открывают все сразу, без всякой постепенности. Нет, в этом замечательном буфете замочек находился на самой середине – там, где смыкались по горизонтали две раздвижные дверцы. Для того чтобы проникнуть в верхнее отделение, надо было верхнюю дверцу сдвинуть вниз (облекая, таким образом, нижнее отделение в двойную тайну), и тогда вашим глазам представали глубокие полки и на них горшочки с пикулями, банки с вареньем, жестяные коробочки, ящички с пряностями и белые с синим экзотического вида сосуды – ароматные вместилища имбиря и маринованных тамариндов. На животе у каждого из этих благодушных обитателей буфета было написано его имя. Пикули, все в ярко-коричневых застегнутых доверху двубортных сюртуках, а в нижней своей части облеченные в более скромные желтоватые или темно-серые тона, осанисто отрекомендовывались печатными буквами как «Грецкий орех», «Корнишоны», «Капуста», «Головки лука», «Цветная капуста», «Смесь» и прочие члены этой знатной фамилии. Варенье, более женственное по природе, о чем свидетельствовали украшавшие его папильотки, каллиграфическим женским почерком, как бы нежным голоском, сообщало свои разнообразные имена: «Малина», «Крыжовник», «Абрикосы», «Сливы», «Тёрен», «Яблоки» и «Персики». Если задернуть занавес за этими очаровательницами и сдвинуть вверх нижнюю дверцу, обнаруживались апельсины в сопровождении солидных размеров лакированной сахарницы, долженствующей смягчить их кислоту, если бы они оказались незрелыми. Далее следовала придворная свита этих царственных особ – домашнее печенье, солидный ломоть кекса с изюмом и стройные, удлиненной формы, бисквиты, так называемые «дамские пальчики», кои надлежало целовать, предварительно окунув их в сладкое вино. В самом низу, под массивным свинцовым сводом, хранились вина и различные настойки; отсюда исходил вкрадчивый шепоток: «Апельсиновая», «Лимонная», «Миндальная», «Тминная». В заключение надо сказать, что этот редкостный буфет – всем буфетам буфет, король среди буфетов – имел еще одну примечательную особенность: год за годом реяли вокруг него гудящие отголоски органа и соборных колоколов; он был пронизан ими; и эти музыкальные пчелы сумели, должно быть, извлечь своего рода духовный мед из всего, что в нем хранилось; ибо давно уже было замечено, что если кому-нибудь случалось нырнуть в этот буфет (погружая в него голову, плечи и локти, как того требовала глубина полок), то выныривал он на свет божий всегда с необыкновенно сладким лицом, словно с ним совершилось некое сахарное преображение.
Достопочтенный Септимус с готовностью отдавал себя на жертву не только этому великолепному буфету, но и пропитанному острыми запахами лекарственному шкафчику – вместилищу целебных трав, в котором также хозяйничала фарфоровая пастушка. Каких только изумительных настоев – из генцианы, мяты, шалфея, петрушки, тимьяна, руты и розмарина – не поглощал его мужественный желудок! В какие только чудодейственные компрессы, переслоенные сухими листьями, не укутывал он свое румяное и улыбчивое лицо, когда у его матери появлялось малейшее подозрение в том, что он страдает зубной болью! Каких только ботанических мушек не налепливал он себе на щеку или на лоб, когда милая старушка прозревала там почти недоступный глазу прыщик! В эту траволекарственную темницу, расположенную на верхней площадке лестницы, – тесный чуланчик с низким потолком и выбеленными стенами, где пучки сухих листьев свисали с ржавых гвоздей или лежали, рассыпанные, на полках, в соседстве с объемистыми бутылями, – сюда влекли достопочтенного Септимуса, как пресловутого агнца, столь давно уже и столь неукоснительно ведомого на заклание, и здесь он, в отличие от помянутого агнца, никому не докучал, кроме самого себя. А он даже и не считал это докукой – наоборот, радовался от души, видя, что его хлопотунья мать счастлива и довольна, и безропотно глотал все, что ему давали, только напоследок, чтобы изгнать неприятный вкус, окунал лицо и руки в большую вазу с сухими розовыми лепестками и еще в другую вазу с сухой лавандой, а затем уходил, не опасаясь дурных последствий от проглоченных снадобий, ибо столь же твердо верил в очистительную силу клойстергэмской плотины и собственного здорового духа, сколь мало верила леди Макбет в таковые же свойства всех вод земных.
На сей раз младший каноник с величайшим благодушием выпил поднесенный ему стаканчик констанции и, подкрепившись таким образом, к удовольствию матери, обратился к очередным своим занятиям. Их неуклонный и размеренный по часам кругооборот привел его в положенное время в собор для совершения вечерней службы, а затем на обычную прогулку в сумерках. Так как в соборе было очень холодно, мистер Криспаркл сразу пустился рысцой, и этот бодрый бег кончился не менее бодрой атакой на излюбленный им пригорок возле монастырских развалин, который он взял с ходу, ни разу не остановившись, чтобы перевести дух.
Блестяще совершив это восхождение, без малейших признаков одышки, он остановился на вершине, глядя на раскинувшуюся внизу реку. Клойстергэм расположен так недалеко от моря, что река здесь часто выбрасывает на берег морские водоросли. Последним приливом их нагнало еще больше обычного, и это, а также бурление воды, крики и плеск крыл беспокойно мечущихся вверх и вниз чаек и багровое зарево, на фоне которого черными казались коричневые паруса уходящих к морю баржей, – все это предвещало штормовую ночь.
Мистер Криспаркл занят был размышлениями о контрасте между растревоженным, шумным морем и тихой гаванью в Доме младшего каноника, как вдруг заметил внизу у реки Невила и Елену. Весь день эти двое не шли у него из ума, и теперь, увидев их, он тотчас начал спускаться. Спуск был крутой, а в неясном вечернем свете даже и опасный для всякого, кроме испытанных альпинистов. Но младший каноник никому по этой части не уступал и очутился внизу раньше, чем другой успел бы сойти до полугоры.
– Неважная погода, мисс Ландлес! Вы не боитесь, что тут слишком уж холодно и ветрено для прогулок? По крайней мере, после заката солнца и когда ветер дует с моря.
Елена ответила, что нет, она этого не боится. Они с братом любят здесь гулять. Тут так уединенно.
– Да, очень уединенно, – согласился мистер Криспаркл и пошел рядом с ними, решив воспользоваться удобным случаем. – Как раз такое местечко, где можно поговорить, не опасаясь, что тебе помешают. А я давно уже хочу поговорить с вами обоими. Мистер Невил, вы ведь рассказываете сестре обо всем, что у нас с вами происходит?
– Обо всем, сэр.
– Стало быть, – сказал мистер Криспаркл, – ваша сестра знает, что я уже не раз советовал вам принести извинения за это прискорбное происшествие, случившееся в первый вечер после вашего приезда?
Говоря, он смотрел на сестру, а не на брата, и она ответила:
– Да.
– Я называю его прискорбным, мисс Ландлес, в первую очередь потому, что оно породило некоторое предубеждение против Невила. Создалось мнение, будто он чересчур уж горяч и вспыльчив и не умеет обуздывать свои порывы. И поэтому его избегают.
– Да, это, по-видимому, так, – отвечала Елена, глядя на брата с состраданием и вместе с гордостью, как бы выражая этим взглядом свое глубокое убеждение в том, что люди к нему несправедливы. – Такое мнение о нем существует. Я в этом не сомневаюсь, раз вы так говорите. А кроме того, ваши слова подтверждаются всякими намеками и вскользь брошенными замечаниями, которые я каждый день слышу.
– Так вот, – мягко, но твердо продолжал мистер Криспаркл, – разве это не прискорбно и разве это не следовало бы исправить? Мистер Невил недавно в Клойстергэме и со временем, я уверен, покажет себя в ином свете и опровергнет это ошибочное мнение. Но насколько разумнее было бы сразу что-то сделать, а не полагаться на неопределенное будущее! К тому же это не только разумно, это правильно. Ибо не подлежит сомнению, что Невил поступил дурно.
– Его вызвали на это, – поправила Елена.
– Он был нападающей стороной, – в свою очередь поправил мистер Криспаркл.
Некоторое время они шли молча. Потом Елена подняла глаза к младшему канонику и сказала почти с укором:
– Мистер Криспаркл, неужели вы считаете, что Невил должен вымаливать прощение у молодого Друда или у мистера Джаспера, который каждый день на него клевещет? Вы не можете так думать. Вы сами так бы не сделали, будь вы на его месте.
– Елена, я уже говорил мистеру Криспарклу, – сказал Невил с почтительным взглядом в сторону своего наставника, – что, если бы я мог искренне, от всего сердца попросить прощения, я бы это сделал. Но этого я не могу, а притворяться не хочу. Однако ты, Елена, тоже не права. Ведь, предлагая мистеру Криспарклу поставить себя на мое место, ты как будто допускаешь мысль, что он способен был сделать то, что я сделал.
– Прошу у него прощения, – сказала Елена.
– Вот видите, – вмешался мистер Криспаркл, не упуская случая обратить собственные слова Невила в свою пользу, хотя и очень деликатно и осторожно, – вот видите, вы сами оба невольно признаете, что Невил был не прав. Так почему же не пойти дальше и не признать это перед тем, кого он оскорбил?
– Разве нет разницы, – спросила Елена уже с дрожью в голосе, – между покорностью благородному и великодушному человеку и такой же покорностью человеку мелочному и низкому?
Раньше, чем почтенный каноник собрался оспорить это тонкое различие, заговорил Невил:
– Елена, помоги мне оправдаться перед мистером Криспарклом. Помоги мне убедить его, что я не могу первый пойти на уступки, не кривя душой и не лицемеря. Для этого нужно, чтобы моя природа изменилась, а она не изменилась. Я вспоминаю о том, как жестоко меня оскорбили и как постарались еще углубить это нестерпимое оскорбление, и меня охватывает злоба. Если уж говорить начистоту, так я и сейчас злюсь, не меньше, чем тогда.
– Невил, – с твердостью сказал младший каноник, – вы опять повторяете этот жест, который мне так неприятен.
– Простите, сэр, это у меня невольно. Я ведь признался, что и сейчас зол.
– А я признаюсь, – сказал мистер Криспаркл, – что не того ожидал от вас.
– Мне очень жаль огорчать вас, сэр, но еще хуже было бы вас обманывать. А это был бы грубый обман, если бы я притворился, будто вы смягчили меня в этом отношении. Может быть, со временем вы и этого добьетесь от трудного ученика, чье неблагоприятное прошлое вам известно; ваше влияние поистине могуче. Но это время еще не пришло, хоть и я боролся с собой. Ведь это так, Елена, скажи?
И она, чьи темные глаза не отрывались от лица мистера Криспаркла, сказала – ему, а не брату:
– Да, это так.
После минуты молчания, во время которого она на едва уловимый вопросительный взгляд брата ответила таким же едва уловимым кивком головы, Невил продолжал:
– Я до сих пор не решался сказать вам одну вещь, сэр, которую не должен был от вас утаивать. Надо было сразу признаться, как только вы впервые заговорили о примирении. Но мне это было нелегко, меня удерживал страх показаться смешным; этот страх был силен во мне, и, если бы не моя сестра, я бы, наверно, и сейчас не решился заговорить. Мистер Криспаркл, я люблю мисс Буттон, люблю ее так горячо, что не могу вынести, когда с ней обращаются небрежно и свысока. И если бы даже я не чувствовал ненависти к Друду за то, что он оскорбил меня, я бы все равно ненавидел его за то, что он оскорбляет ее.
Мистер Криспаркл в крайнем изумлении посмотрел на Елену и прочитал на ее выразительном лице подтверждение слов брата – и мольбу о помощи.
– Молодая девица, о которой идет речь, – сказал он строго, – как вам отлично известно, мистер Невил, в ближайшее время выходит замуж. Поэтому ваши чувства к ней – если они имеют тот особый характер, на который вы намекаете, – по меньшей мере неуместны. А уж выступать в роли защитника этой молодой леди против избранного ею супруга – это с вашей стороны просто дерзость. Да вы и видели-то их всего один раз. Эта молодая девица стала подругой вашей сестры; и я удивляюсь, что ваша сестра, хотя бы в интересах своей подруги, не постаралась удержать вас от этого нелепого и предосудительного увлечения.
– Она старалась, сэр, но безуспешно. Вы говорите – супруг, а мне это все равно; я знаю только, что он не способен на такую любовь, какую мне внушило это прекрасное юное создание, с которым он обращается как с куклой. Он ее не любит, и он ее недостоин. Отдать ее такому человеку – значит погубить ее. А я люблю ее, а его презираю и ненавижу! – Эти слова он выкрикнул с таким раскрасневшимся лицом, с таким яростным жестом, что сестра быстро подошла к нему и, схватив за руку, укоризненно воскликнула:
– Невил! Невил!
Он опомнился, понял, что опять потерял власть над своей страстной натурой, которую в последнее время так прилежно учился сдерживать, и закрыл лицо рукой, пристыженный и полный раскаяния.
Мистер Криспаркл долго шел молча, внимательно глядя на Невила и одновременно обдумывая, как строить свою речь дальше. Наконец он заговорил:
– Мистер Невил, мистер Невил, мне очень огорчительно видеть в вас черты недоброго характера – столь же угрюмого, мрачного и бурного, как эта надвигающаяся ночь. Это слишком тревожные признаки, и они лишают меня права отнестись к вашему увлечению, в котором вы сейчас признались, как к чему-то не стоящему внимания. Наоборот, я намерен уделить ему самое серьезное внимание, и вот что я вам скажу. Эта распря между вами и молодым Друдом должна прекратиться. Именно потому, что я теперь знаю то, что сегодня услышал от вас, я ни в коем случае не могу допустить, чтобы она продолжалась, – тем более что вы живете под моим кровом. У вас составилось очень дурное мнение об Эдвине Друде; но это превратное, ошибочное мнение, подсказанное вам завистью и слепым гневом. А на самом деле он бесхитростный и добрый юноша. Я знаю, что в этом смысле на него можно положиться. Теперь, пожалуйста, выслушайте меня внимательно. Взвесив все обстоятельства и учитывая заступничество вашей сестры, я согласен, что при вашем примирении с Эдвином вы имеете право требовать, чтобы вам тоже пошли навстречу. Обещаю вам, что так и будет; даже больше – он сделает первый шаг. Но при этом вы дадите мне честное слово христианина и джентльмена, что, со своей стороны, раз и навсегда прикончите эту ссору. Что будет в вашем сердце, когда вы протянете ему руку, это может знать только Господь, испытующий все сердца; но горе вам, если вы затаите в себе предательство! Вот и все, что я хотел об этом сказать. Что же касается вашего нелепого увлечения – простите, иначе я не могу его назвать, – то я хотел бы задать вам один вопрос. Насколько я понял, вы рассказали о нем мне, но больше никто, кроме вас и вашей сестры, о нем не знает? Это правильно?
Елена тихо ответила:
– Только мы трое знаем об этом.
– Ваша подруга не знает?
– Клянусь вам, нет!






