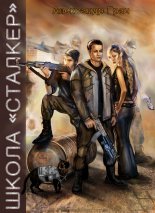Морской волк (сборник) Лондон Джек
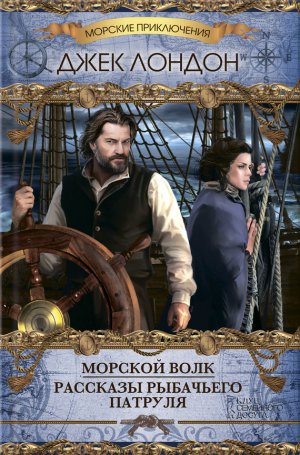
Он помолчал – казалось, он подыскивает слова, чтобы высказать какую-то мысль, – потом заговорил снова:
– Видите ли, я испытываю сейчас удивительный подъем духа. Словно все времена звучат во мне и все силы принадлежат мне. Словно мне открылась истина, и я могу отличить добро от зла, правду от лжи и взором проникнуть в даль. Я почти готов поверить в бога. Но, – голос его изменился и лицо потемнело, – почему я в таком состоянии? Откуда эта радость жизни? Это упоение жизнью? Этот – назовем его так – подъем? Все это бывает просто от хорошего пищеварения, когда у человека желудок в порядке, аппетит исправный и весь организм хорошо работает. Это – брожение закваски, шампанское в крови, это обман, подачка, которую бросает нам жизнь, внушая одним высокие мысли, а других заставляя видеть бога или создавать его, если они не могут его видеть. Вот и все: опьянение жизни, бурление закваски, бессмысленная радость жизни, одурманенной сознанием, что она бродит, что она жива. Но увы! Завтра я буду расплачиваться за это, завтра для меня, как для запойного пьяницы, наступит похмелье. Завтра я буду помнить, что я должен умереть и, вероятнее всего, умру в плавании; что я перестану бродить в самом себе, стану частью брожения моря; что я буду гнить; что я сделаюсь падалью; что сила моих мускулов перейдет в плавники и чешую рыб. Увы! Шампанское выдохлось. Вся игра ушла из него, и оно потеряло свой вкус.
Он покинул меня так же внезапно, как и появился, спрыгнув на палубу мягко и бесшумно, словно тигр.
«Призрак» продолжал идти своим путем. Пена бурлила у форштевня, но мне чудились теперь звуки, похожие на сдавленный хрип. Я прислушивался к ним, и мало-помалу впечатление, которое произвел на меня внезапный переход Ларсена от экстаза к отчаянию, ослабело.
Вдруг какой-то матрос на палубе звучным тенором затянул «Песнь пассата»:
- Я ветр, любезный морякам,
- Я свеж, могуч.
- Они следят по небесам
- Мой лет средь туч.
- И я бегу за кораблем
- Вернее пса.
- Вздуваю ночью я и днем
- Все паруса.
Глава восьмая
Иногда Волк Ларсен кажется мне просто сумасшедшим или, во всяком случае, не вполне нормальным – столько у него странностей и диких причуд. Иногда же я вижу в нем задатки великого человека, гения, оставшиеся в зародыше. И наконец, в чем я совершенно убежден, так это в том, что он ярчайший тип первобытного человека, опоздавшего родиться на тысячу лет или поколений, живой анахронизм в наш век высокой цивилизации. Бесспорно, он законченный индивидуалист и, конечно, очень одинок. Между ним и всем экипажем нет ничего общего. Его необычайная физическая сила и сила его личности отгораживают его от других. Он смотрит на них, как на детей – не делает исключения даже для охотников, – и обращается с ними, как с детьми, заставляя себя спускаться до их уровня и порой играя с ними, словно со щенками. Иногда же он исследует их суровой рукой вивисектора и копается в их душах, как бы желая понять, из какого теста они слеплены.
За столом я десятки раз наблюдал, как он, холодно и пристально глядя на кого-нибудь из охотников, принимался оскорблять его, а затем с таким любопытством ждал от него ответа, вернее, вспышки бессильного гнева, что мне, стороннему наблюдателю, понимавшему, в чем тут дело, становилось смешно. Когда же он сам впадает в ярость, она кажется мне напускной. Я уверен, что это только манера держаться, сознательно усвоенная им по отношению к окружающим, и он просто пользуется ею для своих экспериментов. После смерти его помощника я, в сущности, ни разу больше не видел Ларсена по-настоящему разгневанным да, признаться, и не желал бы увидеть, как вырвется наружу вся его чудовищная сила.
Раз уж зашла речь о его прихотях, я расскажу о том, что случилось с Томасом Магриджем в кают-компании, а заодно покончу и с тем происшествием, о котором уже как-то упоминал.
Однажды после обеда я заканчивал уборку кают-компании, как вдруг по трапу спустились Волк Ларсен и Томас Магридж. Хотя конура кока примыкала к кают-компании, он никогда не смел задерживаться здесь и робкой тенью поспешно проскальзывал мимо два-три раза в день.
– Так, значит, ты играешь в «наполеон»? – довольным тоном произнес Волк Ларсен. – Ну, разумеется, ты же англичанин. Я сам научился этой игре на английских кораблях.
Этот жалкий червяк, Томас Магридж, был на седьмом небе оттого, что капитан разговаривает с ним по-приятельски, но все его ужимки и мучительные старания держаться с достоинством и разыгрывать из себя человека, рожденного для лучшей жизни, могли вызвать только омерзение и смех. Мое присутствие он совершенно игнорировал, впрочем, ему и на самом деле было не до меня. Его водянистые, выцветшие глаза сияли, и у меня не хватает фантазии вообразить себе, какие блаженные видения носились перед его взором.
– Подай карты, Хэмп, – приказал мне Волк Ларсен, когда они уселись за стол. – И принеси виски и сигары – достань из ящика у меня под койкой.
Когда я вернулся в кают-компанию, кок уже туманно распространялся о какой-то тайне, связанной с его рождением, намекая, что он – сбившийся с пути сын благородных родителей или что-то в этом роде и его удалили из Англии и даже платят ему деньги за то, чтобы он не возвращался. «Хорошие деньги платят, – пояснил он, – лишь бы там моим духом не пахло».
Я принес было рюмки, но Волк Ларсен нахмурился, покачал головой и жестом показал, чтобы я подал стаканы. Он наполнил их на две трети неразбавленным виски – «джентльменским напитком», как заметил Томас Магридж, – и, чокнувшись во славу великолепной игры «нап», они закурили сигары и принялись тасовать и сдавать карты.
Они играли на деньги, все время увеличивая ставки, и пили виски, а когда выпили все, капитан велел принести еще. Я не знаю, передергивал ли Волк Ларсен – он был вполне способен на это, – но, так или иначе, он неизменно выигрывал. Кок снова и снова отправлялся к своей койке за деньгами. При этом он страшно фанфаронил, но никогда не приносил больше нескольких долларов зараз. Он осовел, стал фамильярен, плохо разбирал карты и едва не падал со стула. Собираясь в очередной раз отправиться к себе в каморку, он грязным указательным пальцем зацепил Волка Ларсена за петлю куртки и тупо забубнил:
– У меня есть денежки, есть! Говорю вам: я сын джентльмена.
Волк Ларсен не пьянел, хотя пил стакан за стаканом; он наливал себе виски ничуть не меньше, чем коку, и все же я не замечал в нем ни малейшей перемены. Выходки Магриджа, по-видимому, даже не забавляли его.
В конце концов, торжественно заявив, что и проигрывать он умеет, как джентльмен, кок поставил последние деньги и проиграл. После этого он заплакал, уронив голову на руки. Волк Ларсен с любопытством поглядел на него, словно собираясь одним ударом скальпеля вскрыть и исследовать его душу, но, как видно, раздумал, сообразив, что здесь и исследовать-то, собственно говоря, нечего.
– Хэмп, – с подчеркнутой вежливостью обратился он ко мне, – будьте добры, возьмите мистера Магриджа под руку и отведите на палубу. Он себя неважно чувствует. И скажите Джонсону, чтобы они там угостили его двумя-тремя ведрами морской воды, – добавил он, понизив голос.
Я оставил кока на палубе в руках нескольких ухмыляющихся матросов, которых Джонсон позвал на подмогу. Мистер Магридж сонно бормотал, что он «сын джентльмена». Спускаясь по трапу убрать в кают-компании со стола, я услыхал, как он завопил от первого ведра.
Волк Ларсен подсчитывал свой выигрыш.
– Ровно сто восемьдесят пять долларов, – произнес он вслух. – Так я и думал. Бродяга явился на борт без гроша в кармане.
– И то, что вы выиграли, принадлежит мне, сэр, – смело заявил я.
Он удостоил меня насмешливой улыбкой.
– Я ведь тоже изучал когда-то грамматику, Хэмп, и мне кажется, что вы путаете времена глагола. Вы должны были сказать «принадлежало».
– Это вопрос не грамматики, а этики, – возразил я.
– Знаете ли вы, Хэмп, – медленно и серьезно начал он с едва уловимой грустью в голосе, – что я первый раз в жизни слышу слово «этика» из чьих-то уст? Вы и я – единственные люди на этом корабле, знающие смысл этого слова.
– В моей жизни была пора, – продолжал он после новой паузы, – когда я мечтал беседовать с людьми, говорящими таким языком, мечтал, что когда-нибудь я поднимусь над той средой, из которой вышел, и буду общаться с людьми, умеющими рассуждать о таких вещах, как этика. И вот теперь я в первый раз услышал это слово. Но это все между прочим. А по существу вы не правы. Это вопрос не грамматики и не этики, а факта.
– Понимаю, – сказал я, – факт тот, что деньги у вас.
Его лицо просветлело. По-видимому, он остался доволен моей сообразительностью.
– Но вы обходите основной вопрос, – продолжал я, – который лежит в области права.
– Вот как! – отозвался он, презрительно скривив губы. – Я вижу, вы все еще верите в такие вещи, как «право» и «бесправие», «добро» и «зло».
– А вы не верите? Совсем?
– Ни на йоту. Сила всегда права. И к этому все сводится. А слабость всегда виновата. Или лучше сказать так: быть сильным – это добро, а быть слабым – зло. И еще лучше даже так: сильным быть приятно потому, что это выгодно, а слабым быть неприятно, так как это невыгодно. Вот, например: владеть этими деньгами приятно. Владеть ими – добро. И потому, имея возможность владеть ими, я буду несправедлив к себе и к жизни во мне, если отдам их вам и откажусь от удовольствия обладать ими.
– Но вы причиняете мне зло, удерживая их у себя, – возразил я.
– Ничего подобного! Человек не может причинить другому зло. Он может причинить зло только себе самому. Я убежден, что поступаю дурно всякий раз, когда соблюдаю чужие интересы. Как вы не понимаете? Могут ли две частицы дрожжей обидеть одна другую при взаимном пожирании? Стремление пожирать и стремление не дать себя пожрать заложено в них природой. Нарушая этот закон, они впадают в грех.
– Так вы не верите в альтруизм? – спросил я.
Слово это, по-видимому, показалось ему знакомым, но заставило задуматься.
– Погодите, это, кажется, что-то относительно содействия друг другу?
– Пожалуй, некоторая связь между этими понятиями существует, – ответил я, не удивляясь пробелу в его словаре, так как своими познаниями он был обязан только чтению и самообразованию. Никто не руководил его занятиями. Он много размышлял, но ему мало приходилось беседовать. – Альтруистическим поступком мы называем такой, который совершается для блага других. Это бескорыстный поступок в противоположность эгоистическому.
Он кивнул головой.
– Так, так! Теперь я припоминаю. Это слово попадалось мне у Спенсера.
– У Спенсера?! – воскликнул я. – Неужели вы читали его?
– Читал немного, – ответил он. – Я, кажется, неплохо разобрался в «Основных началах», но на «Основаниях биологии» мои паруса повисли, а на «Психологии» я и совсем попал в мертвый штиль. Сказать по правде, я не понял, куда он там гнет. Я приписал это своему скудоумию, но теперь знаю, что мне просто не хватало подготовки. У меня не было соответствующего фундамента. Только один Спенсер да я знаем, как я бился над этими книгами. Но из «Показателей этики» я кое-что извлек. Там-то я и встретился с этим самым «альтруизмом» и теперь припоминаю, в каком смысле это было сказано.
«Что мог извлечь этот человек из работ Спенсера?» – подумал я. Достаточно хорошо помня учение этого философа, я знал, что альтруизм лежит в основе его идеала человеческого поведения. Очевидно, Волк Ларсен брал из его учения то, что отвечало его собственным потребностям и желаниям, отбрасывая все, что казалось ему лишним.
– Что же еще вы там почерпнули? – спросил я.
Он сдвинул брови, видимо, подбирая слова для выражения своих мыслей, остававшихся до сих пор не высказанными. Я чувствовал себя приподнято. Теперь я старался проникнуть в его душу, подобно тому как он привык проникать в души других. Я исследовал девственную область. И странное – странное и пугающее – зрелище открывалось моему взору.
– Коротко говоря, – начал он, – Спенсер рассуждает так: прежде всего человек должен заботиться о собственном благе. Поступать так – нравственно и хорошо. Затем, он должен действовать на благо своих детей. И, в-третьих, он должен заботиться о благе человечества.
– Но наивысшим, самым разумным и правильным образом действий, – вставил я, – будет такой, когда человек заботится одновременно и о себе, и о своих детях, и обо всем человечестве.
– Этого я не сказал бы, – отвечал он. – Не вижу в этом ни необходимости, ни здравого смысла. Я исключаю человечество и детей. Ради них я ничем не поступился бы. Это все слюнявые бредни – во всяком случае для того, кто не верит в загробную жизнь, – и вы сами должны это понимать. Верь я в бессмертие, альтруизм был бы для меня выгодным занятием. Я мог бы черт знает как возвысить свою душу. Но, не видя впереди ничего вечного, кроме смерти, и имея в своем распоряжении лишь короткий срок, пока во мне шевелятся и бродят дрожжи, именуемые жизнью, я поступал бы безнравственно, принося какую бы то ни было жертву. Всякая жертва, которая лишила бы меня хоть мига брожения, была бы не только глупа, но и безнравственна по отношению к самому себе. Я не должен терять ничего, обязан как можно лучше использовать свою закваску. Буду ли я приносить жертвы или стану заботиться только о себе в тот отмеренный мне срок, пока я составляю частицу дрожжей и ползаю по земле, – от этого ожидающая меня вечная неподвижность не будет для меня ни легче, ни тяжелее.
– В таком случае вы индивидуалист, материалист и, естественно, гедонист.
– Громкие слова! – улыбнулся он. – Но что такое «гедонист»?
Выслушав мое определение, он одобрительно кивнул головой.
– А кроме того, – продолжал я, – вы такой человек, которому нельзя доверять даже в мелочах, как только к делу примешиваются личные интересы.
– Вот теперь вы начинаете понимать меня, – обрадовано сказал он.
– Так вы человек, совершенно лишенный того, что принято называть моралью?
– Совершенно.
– Человек, которого всегда надо бояться?
– Вот это правильно.
– Бояться, как боятся змеи, тигра или акулы?
– Теперь вы знаете меня, – сказал он. – Знаете меня таким, каким меня знают все. Ведь меня называют Волком.
– Вы – чудовище, – бесстрашно заявил я, – Калибан[5], который размышлял о Сетебосе[6] и поступал, подобно вам, под влиянием минутного каприза.
Он не понял этого сравнения и нахмурился; я увидел, что он, должно быть, не читал этой поэмы.
– Я сейчас как раз читаю Браунинга[7], – признался Ларсен, – да что-то туго подвигается. Еще недалеко ушел, а уже изрядно запутался.
Ну, короче, я сбегал к нему в каюту за книжкой и прочел ему «Калибана»[8] вслух. Он был восхищен. Этот упрощенный взгляд на вещи и примитивный способ рассуждения был вполне доступен его пониманию. Время от времени он вставлял замечания и критиковал недостатки поэмы. Когда я кончил, он заставил меня перечесть ему поэму во второй и в третий раз, после чего мы углубились в спор – о философии, науке, эволюции, религии. Его рассуждения отличались неточностью, свойственной самоучке, и безапелляционной прямолинейностью, присущей первобытному уму. Но в самой примитивности его суждений была сила, и его примитивный материализм был куда убедительнее тонких и замысловатых материалистических построений Чарли Фэрасета. Этим я не хочу сказать, что он переубедил меня, закоренелого или, как выражался Фэрасет, «прирожденного» идеалиста. Но Волк Ларсен штурмовал устои моей веры с такой силой, которая невольно внушала уважение, хотя и не могла меня поколебать.
Время шло. Пора было ужинать, а стол еще не был накрыт. Я начал проявлять беспокойство, и, когда Томас Магридж, злой и хмурый, как туча, заглянул в кают-компанию, я встал, собираясь приступить к своим обязанностям. Но Волк Ларсен крикнул Магриджу:
– Кок, сегодня тебе придется похлопотать самому, Хэмп нужен мне. Обойдись без него.
И снова произошло нечто неслыханное. В этот вечер я сидел за столом с капитаном и охотниками, а Томас Магридж прислуживал нам, а потом мыл посуду. Это была калибановская прихоть Волка Ларсена, и она сулила мне много неприятностей. Но пока что мы с ним говорили и говорили без конца, к великому неудовольствию охотников, не понимавших ни слова.
Глава девятая
Три дня, три блаженных дня, отдыхал я, проводя все свое время в обществе Волка Ларсена. Я ел за столом в кают-компании и только и делал, что беседовал с капитаном о жизни, литературе и законах мироздания. Томас Магридж рвал и метал, но исполнял за меня всю работу.
– Берегись шквала! Больше я тебе ничего не скажу, – предостерег меня Луис, когда мы на полчаса остались с ним вдвоем на палубе. Волк Ларсен улаживал в это время очередную ссору между охотниками. – Никогда нельзя сказать наперед, что может случиться, – продолжал Луис в ответ на мой недоуменный вопрос. – Старик изменчив, как ветры и морские течения. Никогда не угадаешь, что он может выкинуть. Тебе кажется, что ты уже знаешь его, что ты хорошо с ним ладишь, а он тут-то как раз и повернет, кинется на тебя и разнесет в клочья твои паруса, которые ты поставил в расчете на хорошую погоду.
Поэтому я не был особенно удивлен, когда предсказанный Луисом шквал налетел на меня. Между мной и капитаном произошел горячий спор – о жизни, конечно; и, не в меру расхрабрившись, я начал осуждать самого Волка Ларсена и его поступки. Должен сказать, что я вскрывал и выворачивал наизнанку его душу так же основательно, как он привык проделывать это с другими. Признаюсь, речь моя вообще резка. А тут я отбросил всякую сдержанность, колол и хлестал Ларсена, пока он не рассвирепел. Бронзовое лицо его потемнело от гнева, глаза сверкнули. В них уже не было ни проблеска сознания – ничего, кроме слепой, безумной ярости. Я видел перед собой волка, и притом волка бешеного.
С глухим возгласом, похожим на рев, он прыгнул ко мне и схватил меня за руку. Я собрался с духом и взглянул ему прямо в глаза, хотя меня пробирала дрожь. – Но чудовищная сила этого человека сломила мою волю.
Он держал меня за руку выше локтя, и, когда он сжал пальцы, я пошатнулся и вскрикнул от боли. Ноги у меня подкосились, я не в силах был терпеть эту пытку. Мне казалось, что рука моя будет сейчас раздавлена.
Внезапно Ларсен пришел в себя, в глазах его снова засветилось сознание, и он отпустил мою руку с коротким смешком, напоминавшим рычание. Сразу обессилев, я повалился на пол, а он сел, закурил сигару и стал наблюдать за мной, как кошка, стерегущая мышь. Корчась на полу от боли, я уловил в его глазах любопытство, которое не раз уже подмечал в них, – любопытство, удивление и вопрос: к чему все это?
Кое-как встав на ноги, я поднялся по трапу. Пришел конец хорошей погоде, и не оставалось ничего другого, как вернуться в камбуз. Левая рука у меня онемела, словно парализованная, и в течение нескольких дней я почти ею не владел, а скованность и боль чувствовались в ней еще много недель спустя. Между тем Ларсен просто схватил ее и сжал. Он не ломал и не вывертывал мне руку и только стиснул ее пальцами.
Что мне грозило, я понял лишь на другой день, когда он просунул голову в камбуз и, в знак возобновления дружбы, осведомился, не болит ли у меня рука.
– Могло кончиться хуже! – усмехнулся он.
Я чистил картофель. Ларсен взял в руку картофелину. Она была большая, твердая, неочищенная. Он сжал кулак, и жидкая кашица потекла у него между пальцами. Он бросил в чан то, что осталось у него в кулаке, повернулся и ушел. А мне стало ясно, во что превратилась бы моя рука, если бы это чудовище применило всю свою силу.
Однако трехдневный покой как-никак пошел мне на пользу. Колено мое получило наконец необходимый отдых, и опухоль заметно спала, а коленная чашечка стала на место. Однако эти три дня отдыха принесли мне и неприятности, которые я предвидел. Томас Магридж явно старался заставить меня расплатиться за полученный отдых сполна. Он злобствовал, бранился на чем свет стоит и взваливал на меня свою работу. Раз даже он замахнулся на меня кулаком. Но я уже и сам озверел и огрызнулся так свирепо, что он струсил и отступил. Малопривлекательную, должно быть, картину представлял я, Хэмфри Ван-Вейден, в эту минуту. Я сидел в углу вонючего камбуза, скорчившись над своей работой, а этот негодяй стоял передо мной и угрожал мне кулаком. Я глядел на него, ощерившись, как собака, сверкая глазами, в которых беспомощность и страх смешивались с мужеством отчаяния. Не нравится мне эта картина. Боюсь, что я был очень похож на затравленную крысу. Но кое-чего я все же достиг – занесенный кулак не опустился на меня.
Томас Магридж попятился. В глазах его светилась такая же ненависть и злоба, как и в моих. Мы были словно два зверя, запертые в одной клетке и злобно скалящие друг на друга зубы. Магридж был трус и боялся ударить меня потому, что я не слишком оробел перед ним. Тогда он придумал другой способ застращать меня. В кухне был всего один более или менее исправный нож. От долгого употребления лезвие его стало узким и тонким. Этот нож имел необычайно зловещий вид, и первое время я всегда с содроганием брал его в руки. Кок взял у Иогансена оселок и принялся с подчеркнутым рвением точить этот нож, многозначительно поглядывая на меня. Он точил его весь день. Чуть у него выдавалась свободная минутка, он хватал нож и принимался точить его. Лезвие ножа приобрело остроту бритвы. Он пробовал его на пальце и ногтем. Он сбривал волоски у себя с руки, прищурив глаз, глядел вдоль лезвия и снова и снова делал вид, что находит в нем какой-то изъян. И опять доставал оселок и точил, точил, точил... В конце концов меня начал разбирать смех – все это было слишком нелепо.
Но дело могло принять серьезный оборот. Кок и в самом деле готов был пустить этот нож в ход. Я понимал, что он, подобно мне, способен совершить отчаянный поступок, именно в силу своей трусости и вместе с тем вопреки ей.
«Магридж точит нож на Хэмпа», – переговаривались между собой матросы, а некоторые стали поднимать кока на смех. Он сносил насмешки спокойно и только покачивал головой с таинственным и даже довольным видом, пока бывший юнга Джордж Лич не позволил себе какую-то грубую шутку на его счет.
Надо сказать, что Лич был в числе тех матросов, которые получили приказание окатить Магриджа водой после его игры в карты с капитаном. Очевидно, кок не забыл, с каким рвением исполнил Лич свою задачу. Когда Лич задел кока, тот ответил грубой бранью, прошелся насчет предков матроса и пригрозил ему ножом, отточенным для расправы со мной. Лич не остался в долгу, и, прежде чем мы успели опомниться, его правая рука окрасилась кровью от локтя до кисти. Кок отскочил с сатанинским выражением лица, выставив перед собой нож для защиты. Но Лич отнесся к происшедшему невозмутимо, хотя из его рассеченной руки хлестала кровь.
– Я посчитаюсь с тобой, кок, – сказал он, – и крепко посчитаюсь. Спешить не стану. Я разделаюсь с тобой, когда ты будешь без ножа.
С этими словами он повернулся и ушел. Лицо Магриджа помертвело от страха перед содеянным им и перед неминуемой местью со стороны Лича. Но на меня он с этой минуты озлобился пуще прежнего. Несмотря на весь его страх перед грозившей ему расплатой, он понимал, что для меня это был наглядный урок, и совсем обнаглел. К тому же при виде пролитой им крови в нем проснулась жажда убийства, граничившая с безумием. Как ни сложны подобные психические переживания, все побуждения этого человека были для меня ясны, – я читал в его душе, как в раскрытой книге.
Шли дни. «Призрак» по-прежнему пенил воду, подгоняемый попутным пассатом, а я наблюдал, как безумие зреет в глазах Томаса Магриджа. Признаюсь, мной овладевал страх, отчаянный страх. Целыми днями кок все точил и точил свой нож. Пробуя пальцем лезвие ножа, он посматривал на меня, и глаза его сверкали, как у хищного зверя. Я боялся повернуться к нему спиной и, пятясь, выходил из камбуза, что чрезвычайно забавляло матросов и охотников, нарочно собиравшихся поглядеть на этот спектакль. Постоянное, невыносимое напряжение измучило меня; порой мне казалось, что рассудок мой мутится. Да и немудрено было сойти с ума на этом корабле, среди безумных и озверелых людей. Каждый час, каждую минуту моя жизнь подвергалась опасности. Моя душа вечно была в смятении, но на всем судне не нашлось никого, кто выказал бы мне сочувствие и пришел бы на помощь. Порой я подумывал обратиться к заступничеству Волка Ларсена, но мысль о дьявольской усмешке в его глазах, выражавших презрение к жизни, останавливала меня. Временами меня посещала мысль о самоубийстве, и мне понадобилась вся сила моей оптимистической философии, чтобы как-нибудь темной ночью не прыгнуть за борт.
Волк Ларсен несколько раз пытался втянуть меня в спор, но я отделывался лаконическими ответами и старался избегать его. Наконец он приказал мне снова занять место за столом в кают-компании и предоставить коку исполнять за меня мою работу. Тут я высказал ему все начистоту, рассказал, что пришлось мне вытерпеть от Томаса Магриджа в отместку за те три дня, когда я ходил в фаворитах.
Волк Ларсен посмотрел на меня с усмешкой.
– Так вы боитесь его? – спросил он.
– Да, – честно признался я, – мне страшно.
– Вот и все вы такие, – с досадой воскликнул он, – разводите всякие антимонии насчет ваших бессмертных душ, а сами боитесь умереть! При виде острого ножа в руках труса вы судорожно цепляетесь за жизнь, и весь этот вздор вылетает у вас из головы. Как же так, милейший, ведь вы будете жить вечно? Вы – бог, а бога нельзя убить. Кок не может причинить вам зла – вы же уверены, что вам предстоит воскреснуть. Чего же вы боитесь?
Ведь перед вами вечная жизнь. Вы же миллионер в смысле бессмертия, притом миллионер, которому не грозит потерять свое состояние, так как оно долговечнее звезд и безгранично, как пространство и время. Вы не можете растратить свой основной капитал. Бессмертие не имеет ни начала, ни конца. Вечность есть вечность, и, умирая здесь, вы будете жить и впредь в другом месте. И как это прекрасно – освобождение от плоти и свободный взлет духа! Кок не может причинить вам зла. Он может только подтолкнуть вас на тот путь, по которому вам суждено идти вечно.
А если у вас нет пока охоты отправляться на небеса, почему бы вам не отправить туда кока? Согласно вашим воззрениям, он тоже миллионер бессмертия. Вы не можете довести его до банкротства. Его акции всегда будут котироваться аль-пари. Убив его, вы не сократите срока его жизни, так как эта жизнь не имеет ни начала, ни конца. Где-то, как-то, но этот человек должен жить вечно. Так отправьте его на небо! Пырните его ножом и выпустите его дух на свободу. Этот дух томится в отвратительной тюрьме, и вы только окажете ему любезность, взломав ее двери. И, кто знает, быть может, прекраснейший дух воспарит в лазурь из этой уродливой оболочки. Так всадите в кока нож, и я назначу вас на его место, а ведь он получает сорок пять долларов в месяц!
Нет! От Волка Ларсена не приходилось ждать ни помощи, ни сочувствия! Я мог надеяться только на себя, и отвага отчаяния подсказала мне план действий: я решил бороться с Томасом Магриджем его же оружием и занял у Иогансена точило.
Луис, рулевой одной из шлюпок, как-то просил меня достать ему сгущенного молока и сахару. Кладовая, где хранились эти деликатесы, была расположена под полом кают-компании. Улучив минуту, я стянул пять банок молока и ночью, когда Луис стоял на вахте, выменял у него на это молоко тесак, такой же длинный и страшный, как кухонный нож Томаса Магриджа. Тесак был заржавленный и тупой, но мы с Луисом привели его в порядок: я вертел точило, а Луис правил лезвие. В эту ночь я спал крепче и спокойнее, чем обычно.
Утром, после завтрака, Томас Магридж опять принялся за свое: чирк, чирк, чирк. Я с опаской глянул на него, так как стоял в это время на коленях, выгребая из плиты золу. Выбросив ее за борт, я вернулся в камбуз; кок разговаривал с Гаррисоном, – открытое, простодушное лицо матроса выражало изумление.
– Да! – рассказывал Магридж. – И что же сделал судья? Засадил меня на два года в Рэдингскую тюрьму. А мне было наплевать, я зато хорошо разукрасил рожу этому подлецу. Посмотрел бы ты на него! Нож был вот такой самый. Вошел, как в масло. А тот как взвоет! Ей-богу, лучше всякого представления! – Кок бросил взгляд в мою сторону, желая убедиться, что я все это слышал, и продолжал: – «Я не хотел тебя обидеть, Томми, – захныкал он, – убей меня бог, если я вру!» – «Я тебя еще мало проучил», – сказал я и кинулся на него. Я исполосовал ему всю рожу, а он только визжал, как свинья. Раз ухватился рукой за нож – хотел отвести его, а я как дерну – и разрезал ему пальцы до кости. Ну и вид у него был, доложу я тебе!
Голос помощника прервал этот кровавый рассказ, и Гаррисон отправился на корму, а Магридж уселся на высоком пороге камбуза и снова принялся точить свой нож. Я бросил совок и спокойно расположился на угольном ящике лицом к моему врагу. Он злобно покосился на меня. Сохраняя внешнее спокойствие, хотя сердце отчаянно колотилось у меня в груди, я вытащил тесак Луиса и принялся точить его о камень. Я ожидал какой-нибудь бешеной выходки со стороны кока, но, к моему удивлению, он будто и не замечал, что я делаю. Он точил свой нож, я – свой. Часа два сидели мы так, лицом к лицу, и точили, точили, точили, пока слух об этом не облетел всю шхуну и добрая половина экипажа не столпилась у дверей камбуза полюбоваться таким невиданным зрелищем.
Со всех сторон стали раздаваться подбадривающие возгласы и советы. Даже Джок Хорнер, спокойный и молчаливый охотник, с виду неспособный обидеть и муху, советовал мне пырнуть кока не под ребра, а в живот и применить при этом так называемый «испанский поворот». Лич, выставив напоказ свою перевязанную руку, просил меня оставить ему хоть кусочек кока для расправы, а Волк Ларсен раза два останавливался на краю полуюта и с любопытством поглядывал на то, что он называл брожением жизненной закваски.
Не скрою, что в это время жизнь имела весьма сомнительную ценность в моих глазах. Да, в ней не было ничего привлекательного, ничего божественного – просто два трусливых двуногих существа сидели друг против друга и точили сталь о камень, а кучка других более или менее трусливых существ толпилась кругом и глазела. Я уверен, что половина зрителей с нетерпением ждала, когда мы начнем полосовать друг друга. Это было бы неплохой потехой. И я думаю, что ни один из них не бросился бы нас разнимать, если бы мы схватились не на жизнь, а на смерть.
С другой стороны, во всем этом было много смешного и ребяческого. Чирк, чирк, чирк! Хэмфри Ван-Вейден точит тесак в камбузе и пробует большим пальцем его острие, – можно ли выдумать что-нибудь более невероятное! Никто из знавших меня никогда бы этому не поверил. Ведь меня всю жизнь называли «неженка Ван-Вейден», и то, что «неженка Ван-Вейден» оказался способен на такие вещи, было откровением для Хэмфри Ван-Вейдена, который не знал, радоваться ему или стыдиться.
Однако дело кончилось ничем. Часа через два Томас Магридж отложил в сторону нож и точило и протянул мне руку.
– К чему нам потешать этих скотов? – сказал он. – Они будут только рады, если мы перережем друг другу глотки. Ты не такая уж дрянь, Хэмп! В тебе есть огонек, как говорите вы, янки. Ей-ей, ты не плохой парень. Ну, иди сюда, давай руку!
Каким бы я ни был трусом, он в этом отношении перещеголял меня. Это была явная победа, и я не хотел умалить ее, пожав его мерзкую лапу.
– Ну ладно, – необидчиво заметил кок, – не хочешь, не надо. Все равно, ты славный парень! – И, чтобы скрыть смущение, он яростно накинулся на зрителей: – Вон отсюда, пошли вон!
Чтобы приказ возымел лучшее действие, кок схватил кастрюлю кипятку, и матросы поспешно отступили. Таким образом Томас Магридж одержал победу, которая смягчила ему тяжесть нанесенного мною поражения. Впрочем, он был достаточно осторожен, чтобы, прогнав матросов, не тронуть охотников.
– Ну, коку пришел конец, – поделился Смок своими соображениями с Хорнером.
– Верно, – ответил тот. – Теперь Хэмп – хозяин в камбузе, а коку придется поджать хвост.
Магридж услыхал это и метнул на меня быстрый взгляд, но я и ухом не повел, будто разговор этот не долетел до моих ушей. Я не считал свою победу окончательной и полной, но решил не уступать ничего из своих завоеваний. Впрочем, пророчество Смока сбылось. Кок с той поры стал держаться со мной даже более заискивающе и подобострастно, чем с самим Волком Ларсеном. А я больше не величал его ни «мистером», ни «сэром», не мыл грязных кастрюль и не чистил картошки. Я исполнял свою работу, и только. И делал ее, как сам находил нужным. Тесак я носил в ножнах у бедра, на манер кортика, а в обращении с Томасом Магриджем придерживался властного, грубого и презрительного тона.
Глава десятая
Моя близость с Волком Ларсеном возрастает, если только слово «близость» применимо к отношениям между господином и слугой или, еще лучше, между королем и шутом. Я для него не более как забава, и ценит он меня не больше, чем ребенок игрушку. Моя обязанность – развлекать его, и пока ему весело, все идет хорошо. Но стоит только ему соскучиться в моем обществе или впасть в мрачное настроение, как я мигом оказываюсь изгнанным из кают-компании в камбуз, и хорошо еще, что мне удается пока уходить целым и невредимым.
Я начинаю понимать, насколько он одинок. На всей шхуне нет человека, который не боялся бы его и не испытывал бы к нему ненависти. И точно так же нет ни одного, которого бы он, в свою очередь, не презирал. Его словно пожирает заключенная в нем неукротимая сила, не находящая себе применения. Таким был бы Люцифер, если бы этот гордый дух был изгнан в мир бездушных призраков, подобных Томлинсону.
Такое одиночество тягостно само по себе, у Ларсена же оно усугубляется исконной меланхоличностью его расы. Узнав его, я начал лучше понимать древние скандинавские мифы. Белолицые, светловолосые дикари, создавшие этот ужасный мир богов, были сотканы из той же ткани, что и этот человек. В нем нет ни капли легкомыслия представителей латинской расы. Его смех – порождение свирепого юмора. Но смеется он редко. Чаще он печален. И печаль эта уходит корнями к истокам его расы. Она досталась ему в наследство от предков. Эта задумчивая меланхолия выработала в его народе трезвый ум, привычку к опрятной жизни и фанатическую нравственность, которая у англичан нашла впоследствии свое завершение в пуританизме и в миссис Грэнди[9].
Но, в сущности, главный выход эта меланхолия находила в религии, в ее наиболее изуверских формах. Однако Волку Ларсену не дано и этого утешения. Оно несовместимо с его грубым материализмом. Поэтому, когда черная тоска одолевает его, она находит исход только в диких выходках. Будь этот человек не так ужасен, я мог бы порой проникнуться жалостью к нему. Так, например, три дня сказал я зашел налить ему воды в графин и застал его в каюте. Он не видел меня. Он сидел, обхватив голову руками, и плечи его судорожно вздрагивали от сдержанных рыданий. Казалось, какое-то острое горе терзает его. Я тихонько вышел, но успел услыхать, как он простонал: «Господи, господи!» Он, конечно, не призывал бога, – это восклицание вырвалось у него бессознательно.
За обедом он спрашивал охотников, нет ли у них чего-нибудь от головной боли, а вечером этот сильный человек, с помутившимся взором, метался из угла в угол по кают-компании.
– Я никогда не хворал, Хэмп, – сказал он мне, когда я отвел его в каюту. – Даже головной боли прежде не испытывал, раз только, когда мне раскроили череп вымбовкой и рана начала заживать.
Три дня мучили его эти нестерпимые головные боли, и он страдал безропотно и одиноко, как страдают дикие звери и как, по-видимому, принято страдать на корабле.
Но, войдя сегодня утром в его каюту, чтобы прибрать ее, я застал его здоровым и погруженным в работу. Стол и койка были завалены расчетами и чертежами. С циркулем и угольником в руках он наносил на большой лист кальки какой-то чертеж.
– А, Хэмп! – приветствовал он меня. – Я как раз заканчиваю эту штуку. Хотите посмотреть, как получается?
– А что это такое?
– Это приспособление, сберегающее морякам труд и упрощающее кораблевождение до детской игры, – весело отвечал он. – Отныне и ребенок сможет вести корабль. Долой бесконечные вычисления! Даже в туманную ночь достаточно одной звезды в небе, чтобы сразу определить, где вы находитесь. Вот поглядите! Я накладываю эту штуку на карту звездного неба и, совместив полюса, вращаю ее вокруг Северного полюса. На кальке обозначены круги высот и линии пеленгов. Я устанавливаю кальку по звезде и поворачиваю ее, пока она не окажется против цифр, нанесенных на краю карты. И готово! Вот вам точное место корабля!
В его голосе звучало торжество, глаза – голубые в это утро, как море, – искрились.
– Вы, должно быть, сильны в математике, – заметил я. – Где вы учились?
– К сожалению, нигде, – ответил он. – Мне до всего пришлось доходить самому.
– А как вы думаете, для чего я изобрел это? – неожиданно спросил он. – Хотел оставить «след свой на песке времен»? – Он насмешливо расхохотался. – Ничего подобного! Просто хочу взять патент, получить за него деньги и предаваться всякому свинству, пока другие трудятся. Вот моя цель. Кроме того, сама работа над этой штукой доставляла мне радость.
– Радость творчества, – вставил я.
– Вероятно, так это называется. Еще один из способов проявления радости жизни, торжества движения над материей, живого над мертвым, гордость закваски, чувствующей, что она бродит.
Я всплеснул руками, беспомощно протестуя против его закоренелого материализма, и принялся застилать койку. Он продолжал наносить линии и цифры на чертеж. Это требовало чрезвычайной осторожности и точности, и я поражался, как ему удается умерять свою силищу при исполнении столь тонкой работы.
Кончив заправлять койку, я невольно засмотрелся на него. Он был, несомненно, красив, – настоящей мужской красотой. Снова я с удивлением отметил, что в его лице нет ничего злобного или порочного. Можно было поклясться, что человек этот не способен на зло. Но я боюсь быть превратно понятым. Я хочу сказать только, что это было лицо человека, никогда не идущего вразрез со своей совестью, или же человека, вовсе лишенного совести. И я склоняюсь к последнему предположению. Это был великолепный образчик атавизма – человек настолько примитивный, что в нем как бы воскрес его первобытный предок, живший на земле задолго до развития нравственного начала в людях. Он не был аморален, – к нему было просто неприменимо понятие морали.
Как я уже сказал, его лицо отличалось мужественной красотой. Оно было гладко выбрито, и каждая черта выделялась четко, как у камеи. От солнца и соленой морской воды кожа его потемнела и стала бронзовой, и это придавало его красоте дикарский вид, напоминая о долгой и упорной борьбе со стихиями. Полные губы были очерчены твердо и даже резко, что характерно скорее для тонких губ. В таких же твердых и резких линиях подбородка, носа и скул чувствовалась свирепая неукротимость самца. Нос напоминал орлиный клюв, – в нем было что-то хищное и властное. Его нельзя было назвать греческим – для этого он был слишком массивен, а для римского – слишком тонок. Все лицо в целом производило впечатление свирепости и силы, но тень извечной меланхолии, лежавшая на нем, углубляла складки вокруг рта и морщины на лбу и придавала ему какое-то величие и законченность.
Итак, я поймал себя на том, что стоял и праздно изучал Ларсена. Трудно передать, как глубоко интересовал меня этот человек. Кто он? Что он за существо? Как сложился этот характер? Казалось, в нем были заложены неисчерпаемые возможности. Почему же оставался он безвестным капитаном какой-то зверобойной шхуны, прославившимся среди охотников только своей необычайной жестокостью?
Мое любопытство прорвалось наружу целым потоком слов.
– Почему вы не совершили ничего значительного? Заложенная в вас сила могла бы поднять такого, как вы, на любую высоту. Лишенный совести и нравственных устоев, вы могли бы положить себе под ноги мир. А я вижу вас здесь, в расцвете сил, которые скоро пойдут на убыль. Вы ведете безвестное и отвратительное существование, охотитесь на морских животных, которые нужны только для удовлетворения тщеславия женщин, погрязших в свинстве, по вашим же собственным словам. Вы ведете жизнь, в которой нет абсолютно ничего высокого. Почему же при всей вашей удивительной силе вы ничего не совершили? Ничто не могло остановить вас или помешать вам. В чем же дело? У вас не было честолюбия? Или вы пали жертвой какого-то соблазна? В чем дело? В чем дело?
Когда я заговорил, он поднял на меня глаза и спокойно ждал конца моей вспышки. Наконец я умолк, запыхавшийся и смущенный. Помолчав минуту, словно собираясь с мыслями, он сказал:
– Хэмп, знаете ли вы притчу о сеятеле, который вышел на ниву? Ну-ка, припомните: «Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, его обожгло, и, не имея корня, оно засохло; иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его».
– Ну, и что же? – сказал я.
– Что же? – насмешливо переспросил он. – Да ничего хорошего. Я был одним из этих семян.
Он наклонился над чертежом и снова принялся за работу. Я закончил уборку и взялся уже за ручку двери, но он вдруг окликнул меня:
– Хэмп, если вы посмотрите на карту западного берега Норвегии, вы найдете там залив, называемый Ромсдаль-фьорд. Я родился в ста милях оттуда. Но я не норвежец. Я датчанин. Мои родители оба были датчане, и я до сих пор не знаю, как они попали в это унылое место на западном берегу Норвегии. Они никогда не говорили об этом. Во всем остальном в их жизни не было никаких тайн. Это были бедные неграмотные люди, и их отцы и деды были такие же простые неграмотные люди, пахари моря, посылавшие своих сыновей из поколения в поколение бороздить волны морские, как повелось с незапамятных времен. Вот и все, больше мне нечего рассказать.
– Нет, не все, – возразил я. – Ваша история все еще темна для меня.
– Что же еще я могу рассказать вам? – сказал он мрачно и со злобой. – О перенесенных в детстве лишениях? О скудной жизни, когда нечего есть, кроме рыбы? О том, как я, едва научившись ползать, выходил с рыбаками в море? О моих братьях, которые один за другим уходили в море и больше не возвращались? О том, как я, не умея ни читать, ни писать, десятилетним юнгою плавал на старых каботажных судах? О грубой пище и еще более грубом обращении, когда пинки и побои с утра и на сон грядущий заменяют слова, а страх, ненависть и боль – единственное, что питает душу? Я не люблю вспоминать об этом! Эти воспоминания и сейчас приводят меня в бешенство. Я мог бы убить кое-кого из этих каботажных шкиперов, когда стал взрослым, да только судьба закинула меня в другие края. Не так давно я побывал там, но, к сожалению, все шкиперы поумирали, кроме одного. Он был штурманом, когда я был юнгою, и стал капитаном к тому времени, когда мы встретились вновь. Я оставил его калекой; он никогда уже больше не сможет ходить.
– Вы не посещали школы, а между тем прочли Спенсера и Дарвина. Как же вы научились читать и писать?
– На английских торговых судах. В двенадцать лет я был кают-юнгой, в четырнадцать – юнгой, в шестнадцать – матросом, в семнадцать – старшим матросом и первым забиякой на баке. Беспредельные надежды и беспредельное одиночество, никакой помощи, никакого сочувствия, – я до всего дошел сам: сам учился навигации и математике, естественным наукам и литературе А к чему все это? Чтобы в расцвете сил, как вы изволили выразиться, когда жизнь моя начинает понемногу клониться к закату, стать хозяином шхуны? Жалкое достижение, не правда ли? И когда солнце встало – меня обожгло, и я засох, так как рос без корней.
– Но история знает рабов, достигших порфиры, – заметил я.
– История отмечает также благоприятные обстоятельства, способствовавшие такому возвышению, – мрачно возразил он. – Никто не создает эти обстоятельства сам. Все великие люди просто умели ловить счастье за хвост. Так было и с Корсиканцем. И я носился с не менее великими мечтами. И не упустил бы благоприятной возможности, но она мне так и не представилась. Терние выросло и задушило меня. Могу вам сказать, Хэмп, что ни одна душа на свете, кроме моего братца, не знает обо мне того, что знаете теперь вы.
– А где ваш брат? Что он делает?
– Он хозяин промыслового парохода «Македония» и охотится на котиков. Мы, вероятно, встретимся с ним у берегов Японии. Его называют Смерть Ларсен.
– Смерть Ларсен? – невольно вырвалось у меня. – Он похож на вас?
– Не очень. Он просто тупая скотина. В нем, как и во мне, много... много...
– Зверского? – подсказал я.
– Вот именно, благодарю вас. В нем не меньше зверского, чем во мне, но он едва умеет читать и писать.
– И никогда не философствует о жизни? – добавил я.
– О нет, – ответил Волк Ларсен с горечью. – И в этом его счастье. Он слишком занят жизнью, чтобы думать о ней. Я сделал ошибку, когда впервые открыл книгу.
Глава одиннадцатая
«Призрак» достиг самой южной точки той дуги, которую он описывает по Тихому океану, и уже начинает забирать к северо-западу, держа курс, как говорят, на какой-то уединенный островок, где мы должны запастись пресной водой, прежде чем направиться бить котиков к берегам Японии. Охотники упражняются в стрельбе из винтовок и дробовиков, а матросы готовят паруса для шлюпок, обивают весла кожей и обматывают уключины плетенкой, чтобы бесшумно подкрадываться к котикам, – вообще «наводят глянец», по выражению Лича.
Рука у Лича, кстати сказать, заживает, но шрам, как видно, останется на всю жизнь. Томас Магридж боится этого парня до смерти и, как стемнеет, не решается носа высунуть на палубу. На баке то и дело вспыхивают ссоры. Луис говорит, что кто-то наушничает капитану на матросов, и двоим доносчикам уже здорово накостыляли шею. Луис боится, что Джонсону, гребцу из одной с ним шлюпки, несдобровать. Джонсон говорит все слишком уж напрямик, и раза два у него уже были столкновения с Волком Ларсеном из-за того, что тот неправильно произносит его фамилию. А Иогансена он как-то вечером изрядно поколотил, и с тех пор помощник не коверкает больше его фамилии. Но смешно думать, чтобы Джонсон мог поколотить Волка Ларсена.
Услышал я от Луиса кое-что и о другом Ларсене, прозванном Смерть. Рассказ Луиса вполне совпадает с краткой характеристикой, данной капитаном своему брату. Мы, вероятно, встретимся с ним у берегов Японии. «Ждите шквала, – предрекает Луис, – они ненавидят друг друга, как настоящие волки».
Смерть Ларсен командует «Македонией», единственным пароходом во всей промысловой флотилии; на пароходе четырнадцать шлюпок, тогда как на шхунах их бывает всего шесть. Поговаривают даже о пушках на борту и о странных экспедициях этого судна, начиная от контрабандного ввоза опиума в Соединенные Штаты и оружия в Китай и кончая торговлей рабами и открытым пиратством. Я не могу не верить Луису, он как будто не любит привирать, и к тому же этот малый – ходячая энциклопедия по части котикового промысла и всех, кто этим занимается.
Такие же стычки, как в матросском кубрике и в камбузе, происходят и в кубрике охотников этого поистине дьявольского корабля. Там тоже драки и все готовы перегрызть друг другу глотку. Охотники ежемиминутно ждут, что Смок и Гендерсон, которые до сих пор не уладили своей старой ссоры, сцепятся снова, а Волк Ларсен заявил, что убьет того, кто выйдет живым из этой схватки. Он не скрывает, что им руководят отнюдь не моральные соображения. Ему совершенно наплевать, хоть бы все охотники перестреляли друг друга, но они нужны ему для дела, и поэтому он обещает им царскую потеху, если они воздержатся от драк до конца промысла: они смогут тогда свести все свои счеты, выбросить трупы за борт и потом придумать для этого какие угодно изъяснения. Мне кажется, что даже охотники изумлены его хладнокровной жестокостью. Несмотря на всю свою свирепость, они все-таки боятся его.
Томас Магридж пресмыкается передо мной, как собачонка, а я, в глубине души, побаиваюсь его. Ему свойственно мужество страха – как это бывает, я хорошо знаю по себе, – и в любую минуту оно может взять в нем верх и заставить его покуситься на мою жизнь. Состояние моего колена заметно улучшилось, хотя временами нога сильно ноет. Онемение в руке, которую сдавил мне Волк Ларсен, понемногу проходит тоже. Вообще же я окреп. Мускулы увеличились и стали тверже. Вот только руки являют самое жалкое зрелище. У них такой вид, словно их ошпарили кипятком, а ногти все поломаны и черны от грязи, на пальцах – заусеницы, на ладонях – мозоли. Кроме того, у меня появились фурункулы, что я приписываю корабельной пище, так как никогда раньше этим не страдал.
На днях Волк Ларсен позабавил меня: я застал его вечером за чтением библии, которая после бесплодных поисков, уже описанных мною в начале плавания, отыскалась в сундуке покойного помощника. Я недоумевал, что Волк Ларсен может в ней для себя найти, и он прочел мне вслух из Экклезиаста. При этом мне казалось, что он не читает, а высказывает собственные мысли, и голос его, гулко и мрачно раздававшийся в каюте, зачаровывал меня и держал в оцепенении. Хоть он и необразован, а читает хорошо. Я как сейчас слышу его меланхолический голос:
«Собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей; завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих – разные музыкальные орудия».
И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя пребыла со мною...
И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, все – суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!..
Всему и всем – одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы; как добродетельному, так и грешнику; как клянущемуся, так и боящемуся клятвы.
Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их; а после того они отходят к умершим.
Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву.
Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению.
И любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезла, и нет им более доли вовеки ни в чем, что делается под солнцем».
– Так-то, Хэмп, – сказал он, заложив пальцем книгу и взглянув на меня. – Мудрец, который царил над народом Израиля в Иерусалиме, мыслил так же, как я. Вы называете меня пессимистом. Разве это не самый черный пессимизм? «Все – суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!», «Всему и всем – одно» – глупому и умному, чистому и нечистому, грешнику и святому. Эта участь – смерть, и она зло, по его словам. Этот мудрец любил жизнь и, видно, не хотел умирать, если говорил: «... так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву». Он предпочитал суету сует тишине и неподвижности могилы. Так же и я. Ползать по земле – это свинство. Но не ползать, быть неподвижным, как прах или камень, – об этом гнусно и подумать. Это противоречит жизни во мне, сама сущность которой есть движение, сила движения, сознание силы движения. Жизнь полна неудовлетворенности, но еще меньше может удовлетворить нас мысль о предстоящей смерти.
– Вам еще хуже, чем Омару Хайаму, – заметил я. – Он по крайней мере после обычных сомнений юности нашел какое-то удовлетворение и сделал свой материализм источником радости.
– Кто это – Омар Хайам? – спросил Волк Ларсен, и ни в этот день, ни в следующие я уже не работал.
В своем беспорядочном чтении Ларсену не довелось напасть на «Рубайат», и теперь это было для него драгоценной находкой. Большую часть стихов я знал на память и без труда припомнил остальные. Часами обсуждали мы отдельные четверостишия, и он усматривал в них проявления скорбного и мятежного духа, у который сам я совершенно не мог уловить. Возможно, что я вносил в мою декламацию несвойственную этим стихам жизнерадостность, а он, обладая прекрасной памятью и запомнив многие строфы при первом же чтении, вкладывал в них страстность и тревогу, убеждавшие слушателя.
Меня интересовало, какое четверостишие понравится ему больше других, и я не был удивлен, когда он остановил свой выбор на том, где отразилось случайное раздражение поэта, шедшее вразрез с его спокойной философией и благодушным взглядом на жизнь:
- Влетел вопрос: «Зачем на свете ты?»
- За ним другой: «К чему твои мечты?»
- О, дайте мне запретного вина —
- Забыть назойливость их суеты!
– Замечательно! – воскликнул Волк Ларсен. – Замечательно! Этим сказано все. Назойливость! Он не мог употребить лучшего слова.
Напрасно я отрицал и протестовал. Он подавил меня своими аргументами.
– Жизнь, по своей природе, не может быть иной. Жизнь, предвидя свой конец, всегда восстает. Она не может иначе. Библейский мудрец нашел, что жизнь и дела житейские – суета сует, сплошное зло. Но смерть, прекращение суеты, он находил еще большим злом. От стиха к стиху он скорбит, оплакивает участь, которая одинаково ожидает всех. Так же смотрит на это и Омар Хайам, и я, и вы, даже вы – ведь возмутились же вы против смерти, когда кок начал точить на вас нож. Вы боялись умереть. Жизнь внутри вас, которая составляет вас и которая больше вас, не желала умирать. Вы толковали мне об инстинкте бессмертия. А я говорю об инстинкте жизни, которая хочет жить, и, когда ей грозит смерть, инстинкт жизни побеждает то, что вы называете инстинктом бессмертия. Он победил и в вас – вы не станете этого отрицать, – победил, когда какой-то сумасшедший кок стал точить на вас нож.
Вы и теперь боитесь кока. И этого вы тоже не станете отрицать. Если я схвачу вас за горло, вот так, – рука его внезапно сжала мне горло, и дыхание мое прервалось, – и начну выжимать из вас жизнь, вот так, вот так! – то ваш инстинкт бессмертия съежится, а инстинкт жизни вспыхнет и вы будете бороться, чтобы спастись.
Ну что! Я читаю страх смерти в ваших глазах. Вы бьете руками по воздуху. В борьбе за жизнь вы напрягаете все ваши жалкие силенки. Вы вцепились в мою руку, а для меня это то же самое, как если бы на нее села бабочка. Ваша грудь судорожно вздымается, язык высунулся наружу, лицо побагровело, глаза мутнеют... «Жить! Жить! Жить!» – вопите вы. И вы хотите жить здесь и сейчас, а не потом. Теперь вы уже сомневаетесь в своем бессмертии? Вот как! Вы уже не уверены в нем. Вы не хотите рисковать. Только эта жизнь, в которой вы уверены, реальна. А в глазах у вас все темнеет и темнеет. Это мрак смерти, прекращение бытия, ощущений, дыхания. Он сгущается вокруг, надвигается на вас, стеной вырастает кругом. Ваши глаза остановились, они остекленели. Мой голос доносится к вам слабо, будто издалека. Вы не видите моего лица. И все-таки вы барахтаетесь в моей руке. Вы брыкаетесь. Извиваетесь ужом. Ваша грудь содрогается, вы задыхаетесь. Жить! Жить! Жить!..
Больше я ничего не слышал. Сознание вытеснил мрак, который он так живо описал. Очнулся я на полу. Ларсен курил сигару, задумчиво глядя на меня, с уже знакомым мне огоньком любопытства в глазах.
– Ну что, убедил я вас? – спросил он. – Нате, выпейте вот это. Я хочу спросить вас кое о чем.
Я отрицательно помотал головой, не поднимая ее с пола.
– Ваши доводы слишком... сильны, – с трудом пробормотал я, так как мне было больно говорить.
– Через полчаса все пройдет, – успокоил он меня. – Обещаю в дальнейшем воздерживаться от практических экспериментов. Теперь вставайте. Садитесь на стул.
И так как я был игрушкой в руках этого чудовища, беседа об Омаре Хайаме и Экклезиасте возобновилась, и мы засиделись до глубокой ночи.
Глава двенадцатая
Целые сутки на шхуне царила какая-то вакханалия зверства; она вспыхнула сразу от кают-компании до бака, словно эпидемия. Не знаю, с чего и начать. Истинным виновником всего был Волк Ларсен. Отношения между людьми, напряженные, насыщенные враждой, перемежавшиеся непрестанными стычками и ссорами, находились в состоянии неустойчивого равновесия, и злые страсти заполыхали пламенем, как трава в прериях.
Томас Магридж – проныра, шпион, доносчик. Он пытался снова втереться в милость к капитану, наушничая на матросов. Я уверен, что это он передал капитану неосторожные слова Джонсона. Тот взял в корабельной лавке клеенчатую робу. Роба оказалась никуда не годной, и Джонсон не скрывал своего неудовольствия. Корабельные лавки существуют на всех промысловых шхунах – в них матросы могут купить то, что им необходимо в плавании. Стоимость взятого в лавке вычитается впоследствии из заработка на промыслах, так как гребцы и рулевые, наравне с охотниками, получают вместо жалованья известную долю доходов – по числу шкур, добытых той или иной шлюпкой.
Я не слыхал, как Джонсон ворчал по поводу своей неудачной покупки, и все последующее явилось для меня полной неожиданностью. Я только что кончил подметать пол в кают-компании и был вовлечен Волком Ларсеном в разговор о Гамлете, его любимом шекспировском герое, как вдруг по трапу спустился Иогансен в сопровождении Джонсона. Последний, по морскому обычаю, снял шапку и скромно остановился посреди каюты, покачиваясь в такт качке судна и глядя капитану в лицо.
– Закрой дверь на задвижку, – сказал мне Волк Ларсен.
Исполняя приказание, я заметил выражение тревоги в глазах Джонсона, но не понял, в чем дело. Мне и в голову ничего не приходило, пока все это не разыгралось у меня на глазах. Джонсон же, по-видимому, знал, что ему предстоит, и покорно ждал своей участи. В том, как он держался, я вижу полное опровержение грубого материализма Волка Ларсена. Матроса Джонсона одушевляла идея, принцип, убежденность в своей правоте. Он был прав, он знал, что прав, и не боялся. Он готов был умереть за истину, но остался бы верен себе и ни на минуту не дрогнул. Здесь воплотились победа духа над плотью, неустрашимость и моральное величие души, которая не знает преград и в своем бессмертии уверенно и непобедимо возвышается над временем, пространством и материей.
Однако вернемся к рассказу. Я заметил тревогу в глазах Джонсона, но принял ее за врожденную робость и смущение. Помощник Иогансен стоял сбоку в нескольких шагах от матроса, а прямо перед Джонсоном, ярдах в трех, восседал на вращающемся каютном стуле сам Волк Ларсен. Когда я запер дверь, наступило молчание, длившееся целую минуту. Его нарушил Волк Ларсен.
– Ионсон, – начал он.
– Меня зовут Джонсон, сэр, – смело поправил матрос.
– Ладно. Пусть будет Джонсон, черт побери! Ты знаешь, зачем я тебя позвал?
– И да и нет, сэр, – последовал неторопливый ответ. – Свою работу я исполняю исправно. Помощник знает это, да и вы знаете, сэр. Тут не может быть жалоб.
– И это все? – спросил Волк Ларсен негромко и вкрадчиво.
– Я знаю, что вы имеете что-то против меня, – с той же тяжеловесной медлительностью продолжал Джонсон. – Я вам не по душе. Вы... вы...