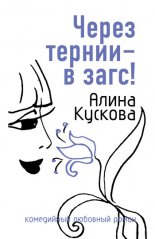Сердце дикарки Дробина Анастасия

Настя по пояс высунулась в открытое окно. Илья тоже перегнулся через подоконник. В конце темной Живодерки отчетливо было видно красное зарево.
– Поднимай всех!
На ходу натягивая штаны, Илья через три ступеньки поскакал по темной лестнице вниз.
Большой дом уже весь был на ногах. Дверь на улицу распахнута, и цыгане один за другим вылетали в темноту, грохоча пустыми ведрами. Мимо Ильи пронесся с двумя жбанами Кузьма, за ним – Митро с бадьей. Молодые цыгане умчались еще раньше. Женщины суетились на кухне, освобождая ведра. Илья заскочил туда, едва дождался, пока Марья Васильевна вывалит из продавленного ведра в кадку соленые огурцы, вырвал его у нее из рук и тоже кинулся за порог. Нужно было торопиться: до приезда пожарной команды огонь мог превратить в головешки всю улицу.
Темная Живодерка была полна народу. Из маслишинской развалюхи выбегали студенты, с ткацкой фабрики неслись рабочие, цыгане бежали из Живодерского переулка целыми семьями. Мимо Ильи кто-то пролетел верхом. Лица всадника он не разглядел, рядом мелькнули лишь выкаченные, сверкающие белком, безумные глаза лошади.
– Кто горит, морэ? – заорал Илья вслед.
– Шалавы наши… – донеслось уже из-за угла.
Илья припустил сильнее. В лицо уже било жаром, зарево становилось все ближе, вопли и грохот ведер – все отчетливее, и наконец глазам Ильи предстал двухэтажный домик мадам Данаи. Левый флигель полыхал, языки пламени с треском вырывались из окон нижнего этажа. У забора стояла толпа полуодетых обывателей, сбежавшихся поглазеть на пожар. Через всю улицу вытянулась цепочка людей с ведрами: черпали из «басейни» на Садовой. Вторая цепочка, поменьше, выстроилась от колодца мадам Данаи во дворе. Сама мадам Даная в роскошном бархатном платье и сбившейся на сторону мантилье сидела на земле под кустом сирени, прижимая к себе два бронзовых канделябра и конторские счеты. Увидев Илью, она повернула к нему круглое, измазанное сажей лицо, не столько расстроенное, сколько озабоченное.
– Даная Тихоновна, как это ты?.. – сочувственно спросил Илья.
– Ох, Илья Григорьич, убытку-то сколько! – жеманно отозвалась мадам Даная. – Опять кто-то из клиентов в постеле папироской баловался. Уж просила-просила Христом-богом: не дымите, господа хорошие, и барышням это неприятно… Все едино! Вот хоть совсем военных не допускай в заведение – второй раз за год горим через них. Право слово, жалобу обер-полицмейстеру снесу!
Илья поглядел на дом. С флигелем уже можно было распрощаться: крыша вот-вот должна была рухнуть. Из открытых окон основного здания, которое только начало заниматься снизу, вылетали подушки, пуфики, свертки одежды и прочие принадлежности публичного дома. Выбежали двое босых кадетов, Петька Конаков с вцепившейся в него девицей, отставной ротмистр Опанасенко в мундире внакидку. В верхнем окне Илья увидел двух парней, обвязавших головы рубахами на манер арабских бедуинов. Они пытались втащить на подоконник пианино. Одно из окон нижнего этажа флигеля было плотно закупорено женским задом в ночной рубашке. Сощурившись, Илья попытался по конфигурации зада определить его хозяйку.
– Матрена, – подсказал подбежавший Митро. – Вот дура, ну что ей там надо-то? Зажарится сейчас!
Он махнул через заборчик и побежал к ворочающемуся в окне заду с криком:
– Ополоумела ты, что ли, кикимора?! Крыша сейчас провалится! Бросай все, вылезай!
Он вцепился в Матренин зад, дернул несколько раз. Раздался визг, и Митро, не удержавшись на ногах, опрокинулся на землю. Сверху на него свалилась, голося и болтая голыми ногами, простоволосая девица пудов на семь, а на девицу упал скатанный ковер, который она так самоотверженно тащила из огня.
– Ой, Дмитрий Трофимыч, обожгетеся! – заверещала Матрена, узнав своего спасителя.
Схватив одной рукой ковер, а другой – Митро за рукав рубахи, она резво поползла прочь от флигеля. И вовремя: крыша с треском и грохотом, выстрелив фейерверком искр, упала внутрь. Мадам Даная, вздохнув, перекрестилась. Кое-кто из девиц заплакал.
– Ладно выть-то, гулящие, – сердито сказала им хозяйка, встряхивая счеты. – Стало быть, пишем еще полсотни плотникам да матерьялу на… Лукерья! Лушка! Ты с ума сошла, корова холмогорская!
Мадам Даная швырнула счеты, вскочила как подброшенная и с удивительной для ее возраста и комплекции прытью бросилась к горящему дому. Илья задрал голову. На подоконнике второго этажа, балансируя, стояла массивная, как гренадер Его величества, девица с повязанной полотенцем головой и в надетой наизнанку юбке. На руках ее висел плотно завернутый в сюртук старикашка.
– Принимайте, ироды, господина майора! – зычно возгласила Лушка. – Да живее, они высоты боятся!
Старичок и в самом деле трусил: он вертел во все стороны растрепанной седенькой головой и отчаянно цеплялся за Лушкину рубашку. Внизу поднялась суета, под окно начали стаскивать уцелевшие подушки и перины.
– Кидай майора, дура! – надсаживаясь, кричал Митро.
– Не могу, они чепляются! – Лушка тщетно старалась оторвать от себя старичка. – Воля твоя, Дмитрий Трофимыч, только они убьются еще, а спросят с меня! Может, нам вдвоем сверзиться? Авось они наверху окажутся!
– Да чтоб вас всех! – вдруг раздалось из глубины комнаты, и Илья глазам своим не поверил: на подоконник рядом с Лушкой вскочил полностью одетый и злой, как черт, Яков Васильев.
– А ну, руки прочь, твое благородие! – рявкнул он так, что у Ильи мороз продрал по коже: точно таким голосом Яков Васильев орал в хоре на провинившихся.
Майор отвалился от Лушки мгновенно, как прижженная углем пиявка, и Яков Васильевич без особых нежностей бросил его вниз. Сверху низверглась, громко крича: «Богородица пречистая, спаси и помилуй!» – Лукерья, а уже за ней легко, как молодой, спрыгнул глава хора. Вскочив на ноги и даже не взглянув на охающего майора и захлопотавших вокруг него проституток, он быстро пошел к мадам Данае, увлек ее в сторону и негромко о чем-то заговорил. Илья проводил его изумленным взглядом. Мимо, пыхтя, волочил тяжелую лестницу черный от сажи Кузьма. Илья ухватился за другой конец, и вдвоем они быстро понесли лестницу к дому.
– Слушай, а Яков Васильич здесь откуда? – спросил Илья. – Ему же семьдесят скоро… Неужто к девкам бегает?
– Здрасьте, святая пятница… – усмехнулся Кузьма – с черного лица блеснули зубы. – Да он с Данаей Тихоновной как с женой уже лет двадцать…
– Забожись! – не поверил Илья.
– Истинный крест! Все наши знают. Он же с ней и раньше, еще когда вы с Варькой в хоре пели… А как Настька с тобой убежала, так Яков Васильич и скрываться перестал. Наши девки говорили, он даже жениться на ней по-честному хотел, да мадам Даная сама отговорила. Негоже, мол, на старости лет дурака в церкви валять. Так и живут… м-м… во грехе. Да если бы не Яков Васильич, у Данаи бы давно вся коммерция накрылась! Всякий же норовит одинокую женщину околпачить…
– Ну и дела! – фыркнул Илья.
Они наконец поднесли лестницу к дому, и от жара стало трудно дышать. Нижний этаж горел вовсю, и, хотя в окна бесперебойно летела вода из наполняющихся по цепочке ведер, было очевидно: огня не остановить. Верхние комнаты были полны дыма, клубами поднимающегося к черному небу. Илья по примеру остальных обмотал голову рубахой, и вдвоем с Кузьмой они принялись прилаживать лестницу к верхнему окну, где двое парней умудрились все-таки втянуть пианино одним краем на подоконник. Задыхаясь от жары, Илья начал подниматься по лестнице.
– Зря стараемся, Илья Григорьич… – просипели сверху, и по голосу Илья узнал сына Митро. – Этот гроб с музыкой все равно по лестнице не спустить…
– Кинем так, – сказал второй, и Илья чуть не свалился с лестницы.
– Гришка, ты здесь откуда?!
– Вот, мебеля спасаем, – солидно донеслось из-под рубашки. – Ну, морэ, кидаем, что ли?
– Кидаем, не то. Илья Григорьич, дядя Кузьма, вы бы в сторонку…
Илья спрыгнул вниз, сбросил лестницу, увлек за собой Кузьму. Через минуту сверху грохнулось пианино и благополучно развалилось на четыре части. Яшка и Гришка, не дожидаясь, пока Илья снова прислонит лестницу, спрыгнули следом.
– Вот незадача-то… – Гришка, размотав рубашку, расстроенно разглядывал пианино. – Такой струмент ценный угрохали… Может, починить можно будет?
– Починят, ничего, – отозвался Яшка, волоча прочь от дома уцелевшую часть с клавишами. – Прошлым разом тож в окно его кидали, и Семка-печник собирал потом. Четыре штафирки лишние остались, а играло же потом целый сезон!
– Отойдите-ка от дома, чаворалэ,[36] – велел Кузьма. – Все равно уже спасать нечего.
Он был прав: основное здание сильно горело. Из окон повыскакивали последние спасатели имущества, которое кое-как было свалено в кучу у забора. От поднимающегося к небу дыма не было видно звезд. Полуодетые девицы сгрудились вокруг мадам Данаи, которая озабоченно, по головам, пересчитывала их:
– Лушка… Матрена… Нюрка… А где Агриппина? Агаша, у тебя господин писарь с Садовой были? Где они?
– Убежавши, как дымом потянуло, не беспокойтеся…
Клиентов не осталось никого: к цыганам подошел только раздобывший где-то штаны Петька Конаков. Девица по-прежнему цеплялась за его плечо, взахлеб причитала, и, приглядевшись, Илья убедился, что она вдребезги пьяна.
– Ох, и спаситель вы мой несказанный, Петр Егорыч… Ох, и сколь же мине свечей за ваше здравие втыкати-и…
– Да замолчи ты, курва, – смущенно сказал Петька, сбрасывая девицу на грудь мадам Данаи. – Даная Тихоновна, сколь разов просить – не давайте вы Феньке ликера ананасного! Она после этого ни на что не годная! Сядет на постелю, расквасится и давай вспоминать, как в деревне лук на зорьке сажала…
– Не лук, а ле-е-ен, спаситель… – уже засыпая, поправила Фенька.
– Да хоть пальму ранжирейную! – Петька нервно осмотрелся по сторонам. – Чавалэ,[37] моей Симки нету здесь?
– А вон несется, – ехидно сообщил Кузьма, вглядываясь в темную улицу.
Оттуда и в самом деле слышались крики и топот: на место пожара бежали цыганки.
– Мать честная и все угодники… – Петька кинулся в переулок, успев крикнуть напоследок: – Эй, не было меня тут!
– Не было, не было! – захохотал Кузьма.
Илья стоял рядом и смотрел на горящий дом. Рыжие блики прыгали на чумазых лицах собравшихся. Яшка у забора умывался из ведра. Рядом разглядывал прогоревшую в нескольких местах рубаху Гришка. Несколько человек еще носились вокруг дома, оттаскивая выброшенное из окон добро. С задымленного неба смотрела луна. Илья не моргая глядел на белый диск. И вздрогнул от истошного вопля за спиной:
– Господи праведный! Анютка! Анька в дому осталась!
Кричала мадам Даная. Тут же вокруг нее сгрудилась толпа закопченного, мокрого, перепачканного народа, посыпались вопросы:
– Какая Анютка? Ваша? Племяшка?
– Как это она? Где?
– Почему не выскочила?
– Может, и нету ее там?
– Да как же нету, как же нету, люди добрые?! – Мадам Даная заливалась слезами на груди Якова Васильича, рвалась из его рук, порываясь бежать к пылающему дому. – Она же там осталась, наверху, на чердаке! Спит, поди. Ее же пушкой не подымешь! Господи, православные! Да сделайте что-нибудь, помогите, вытащите!
– Уж не вытащишь, Даная… – тихо сказал Яков Васильич.
Мадам Даная посмотрела на него, на охваченный огнем дом, зажала рот руками и, хрипло завыв, сползла на землю. Столпившиеся вокруг люди подавленно молчали. Толстая Матрена начала всхлипывать. Илья, не отрывая глаз, смотрел на огненный столб, в который превратился дом. И не заметил, как его Гришка вдруг вырвал из рук Кузьмы ведро воды, вылил его на себя, натянул на голову мокрую чуйку и, перекрестившись, кинулся к дому. Дружный вздох взлетел над толпой. Илья обернулся, успел увидеть, как Гришка приставляет к стене брошенную Кузьмой лестницу и быстро, как кошка, карабкается по ней.
– Чаво![38] Стой! Кому говорю, стой! Выдеру! – закричал Илья, бросаясь вслед, но было поздно: Гришка уже исчез в горящем окне. Илья кинулся было следом, но сразу несколько рук схватило за локти:
– Стой, морэ! Не поможешь! Оба пропадете!
– Да пошли вы к чертям!.. – орал Илья, вырываясь, но из темноты выглянула оскаленная физиономия Митро, потрясающего обгорелым поленом:
– Как дам вот сейчас! Сиди не дергайся! Ему же хуже сделаешь! Сядь, морэ, сядь, дорогой, даст бог, все получится…
– Настька где? – хрипло спросил Илья, садясь на землю. – Настьку не пускайте…
– Она еще дома, ведра раздает. Не пустим, уже Стешка побежала… Не беспокойся. Молись лучше.
Илья машинально перекрестился, но руки дрожали, горло стиснула судорога, а в голове билось одно: что теперь сказать Настьке. Ведь не выберется… Не выберется, паршивец, не сгорит, так задохнется… И чего только его понесло туда, невеста ему эта Анютка, что ли?!
Народ волной прихлынул к дому – стояли почти вплотную, не боясь, что ударит горящим бревном, сыпанет искрами. Мадам Даная колотилась в истерике на земле, над ней сгрудились девицы. Цыгане стояли с полными ведрами наготове, но с каждой минутой становилось все очевиднее, что их помощь не понадобится. На Илью уже смотрели с сочувствием. Рука Митро, сжавшая его плечо, казалось, окаменела. Кузьма в стороне тихо сговаривался о чем-то с Яковом Васильевым. Яшка стоял ближе всех к дому; весь подавшись вперед, смотрел воспаленными от жара глазами на пылающие окна. И стиснул зубы, застонав, когда в доме что-то тяжело рухнуло и из крыши вылетел сноп искр.
– Ну, все, крещеные, – вздохнув, сказал кто-то в толпе.
Илья бешено повернулся на голос, вырвался из держащих его рук… но в это время диким голосом завопил Яшка:
– Вон они!
Илья вскинул голову. И увидел в окне второго этажа фигуру сына. Гришка качался как пьяный, стоя на подоконнике. На плече у него висел какой-то белый сверток. На голове, вцепившись когтями в Гришкины волосы, истошно мяукала перепуганная кошка.
– Прыгай! Прыгай, чаво! – орал весь двор.
Илья подбежал вплотную и увидел, что глаза Гришки плотно зажмурены. «Дэвла, ослеп, что ли?» – мелькнуло в голове. Лестница еще стояла прислоненной к стене. Илья занес было ногу на нее, но подлетевший Митро оттолкнул его так, что он упал вместе с лестницей:
– Сдурел?! Стена сейчас завалится!
Ой, черт… Илья поднялся на колени, не сводя глаз с фигуры сына в окне. От бессилия сводило скулы. Набрав побольше воздуха, он гаркнул так, что заболело в груди:
– Прыгай, сукин сын! Отдеру как сидорову козу!
Гришка вздрогнул, открыл глаза. Испуганно посмотрел вниз, на отца, обернулся – и прыгнул. Илья кинулся к сыну и едва успел заметить, как прямо на него падает рассыпающаяся золотыми искрами стена дома. Но сверху шлепнулось что-то мокрое, вонючее, липкое, стало трудно дышать, кто-то поволок его по земле, твердый корень порвал рубаху, ободрал спину… – и темнота.
Илья очнулся от вылитого на голову ведра воды. Тут же сел торчком, огляделся:
– Гришка где?
– Да что ему будет, герою твоему… – проворчал кто-то рядом, и Илья узнал голос Якова Васильева. – Вон, девки его облизывают.
– Живой? – не поверил своим ушам Илья.
Вскочив, он в минуту разметал плачущий, смеющийся, кудахтающий клубок проституток, пробился к сидящему на земле сыну, крепко схватил его за плечи:
– Сынок! Гришенька! Как ты, господи? Не обжегся? Убью, паршивец, семь шкур спущу! Да как… как тебе только… О матери-то подумал?!
Гришка растерянно улыбался, щурил глаза. Илья размахнулся было дать ему подзатыльник, но руки отчаянно дрожали, и он сумел только торопливо, неловко ощупать сына с ног до головы. Кажется, все у того было на месте.
– Да я целый, дадо… – хрипло сказал Гришка, глядя на него. – Не надо. Люди… Цыгане смотрят.
– Поучи отца еще! Это от дыма… – Илья вытер рукавом глаза, поспешил отвернуться. Увидел рядом, у куста, лежащую Анютку. Ей уже подсунули под голову подушку, вытерли лицо, обвязали мокрым платком опаленные волосы, а она все моргала короткими ресницами и спрашивала у ревущих девиц:
– А что случилось, мадамочки?
– Вот сон у девки! – подивился Кузьма, присаживаясь рядом с Ильей на корточки. – Не поверишь, морэ, – битый час добудиться не могли! Ничего не видела – ни пожара, ни дыма, ни Гришки! Даже когда стена упала, не проснулась! Яков Васильич на нее полведра воды вылил, только тогда глазами захлопала!
Растрепанная, зареванная мадам Даная одним рывком подняла Анютку на ноги и повергла на землю перед Гришкой:
– В ноги! В ноги кланяйся, дуреха! Сколь народу из-за тебя чуть не загинуло!
– Да не загинуло же, Даная Тихоновна… – смутился Гришка и наклонился, чтобы помочь всхлипывающей Анютке встать.
В это время с Большой Грузинской донесся сперва слабый, а потом уже отчетливый звон и грохот.
– Ну, наконец-то, царствие небесное, – устало сказал Кузьма, поднимаясь, – из Тверской части летят. Еще бы завтра схватились, ироды.
Илья поднялся на ноги. По черной Живодерке несся, громыхая, пожарный обоз, огонь факелов отражался в медных касках, бочка прыгала на кочках и плескала водой. Несколько пожарных спрыгнуло с лошадей на ходу, кинулись разматывать брезентовые рукава, расхватывать багры.
– Ну, все. – Илья повернулся к сыну. – Пошли-ка домой. Идти-то сам можешь? Ох, мать сейчас тебе покажет!
Гришка молча улыбнулся. Встал и пошел рядом с отцом.
Утро занялось ясным, свежим. О ночном пожаре напоминал лишь запах гари и мокрого угля, заполнивший весь Большой дом. Взбудораженные цыгане так и не легли спать и до света сидели в нижней зале, раз за разом пересказывая друг другу ночные события. Только главный герой, Гришка, войдя в дом, сразу свалился на полати в кухне и захрапел. Илья сильно подозревал, что сын притворяется, чтобы не смотреть на слезы матери. Успокаивать перепуганную, заплаканную Настю, которой цыганки успели сообщить, что горящий дом свалился прямо на ее сына, Илье пришлось самому. Успеха его утешения не имели: Настя тихо провсхлипывала до утра, сидя рядом со спящим Гришкой и гладя его по плечу. Не успокоило ее даже то, что сын был целым и невредимым, сумев опалить только брови и ресницы и заработав сильную головную боль от дыма.
Проснувшись наутро, Гришка все-таки был вынужден еще раз выслушать причитания Насти, дать себя осмотреть с ног до головы, поклясться матери на иконе, что больше он никогда, ни за что, ни за кем не полезет ни в какой огонь, – и лишь после этого был с миром отпущен поглядеть на пепелище вместе с другими парнями. А Илье пришлось остаться и по новой выслушивать Настькины нотации, главной темой которых было: «А ты куда, дух нечистый, смотрел?!» Он не спорил: что толку? Сам чуть не умер со страха…
Компания молодых цыган со смехом и шутками шла по Живодерке. Вся улица была ночью на пожаре, все видели Гришку на подоконнике горящего дома – и из-за каждого забора сыпались вопросы, похвалы, одобрительные возгласы и поздравления. Гришка искренне смущался, краснел, вызывая смех парней, вполголоса ругался:
– Чего им всем надо? Своими бы делами занимались…
– Да как же, жди! – ухмыльнувшись, хлопнул его по спине Яшка. – Ты теперь герой пуще Ланцова![39] Вот погоди, дойдем до Данаи – тебя там еще и мадамы зацелуют!
Гришка совсем растерялся и уже готов был ушмыгнуть в ближайший переулок, не дожидаясь объятий обитательниц публичного дома. Еще утром ему испортило настроение то, что Маргитка, оказывается, единственная из всех девчонок-цыганок не прибежала на пожар и не видела его. Более того, она выслушала рассказ парней о Гришкином подвиге с полным равнодушием, чуть ли не зевая, а под конец еще и фыркнула: «Вот нужда-то дураку за всякой пигалицей по головешкам скакать…» Когда же Гришка, отчаянно конфузясь, осмелился сказать, что за ней, Маргиткой, он полез бы и в пекло адское, девчонка с обидным смехом заявила: «Вольно кобеляти на луну брехати!» – ловко увернулась от Яшкиного подзатыльника и убежала. И никакие восторги и поздравления соседей не могли возместить Гришкиного расстройства. И тем более ни к чему ему был весь курятник мадам Данаи, но не говорить же было об этом цыганам…
Впереди показался публичный дом – вернее, то, что от него осталось. Яшка только присвистнул, обозрев обширные завалы горелых бревен, засыпанных золой и пеплом, которые местами еще дымились. Левый флигель и основное здание сгорели дотла, правое крыло было почти цело, лишь обгорев снаружи: его успела спасти пожарная команда. Она же погасила занявшийся было маслишинский дом по соседству. По оценке всех собравшихся, Живодерка дешево отделалась. Сейчас в грудах угля копошились перемазанные сажей девицы мадам Данаи, отыскивая уцелевшие вещи. Сама мадам, сидя на ворохе подушек у забора, озабоченно щелкала на счетах и время от времени что-то записывала карандашиком на бумажке. Рядом с ней стоял лохматый, насупленный дядька в подпоясанной веревкой косоворотке – вожак артели строителей. Сами мужики деловито разбирали завалы бревен, и Гришка ничуть не удивился, увидев, что ими уверенно распоряжается Яков Васильич – такой же бодрый, подтянутый и сердитый, как и всегда.
– И никакой устаток его не берет! – восхищенно сказал Яшка, глядя на старого цыгана. – А ведь душу положу, что спать не ложился. И где только успел уже мужиков достать? Эй, Яков Васильич, бог в помощь! Даная Тихоновна, каков убыток, а? Еще слава богу, что за Садовой живем!
– Твоя правда, парень, – со вздохом сказала хозяйка заведения, сдвигая на лоб очки. – А то вовсе пришлось бы дело закрывать. А так, глядишь, и выкарабкаемся с божьей помощью.
– При чем тут «за Садовой»? – тихо спросил Гришка.
– А ты не слыхал, что ли? Указ был от городской думы: если кто погорит в центре, до Садовой улицы, – деревянных домов больше не строить, а ставить каменные, чтобы вид в городе лучше был. Вот было бы дело, если бы Даная каменное заведение отгрохала! Поди, из генерал-губернаторского дома ездили бы. Эй, Даная Тихоновна! А где же вы все на время застройки селиться-то будете?
– Да соседями бог не оставил. – Хозяйка кивнула на соседнюю развалюху купца Маслишина. – Я уж с Ерофеем Лукьянычем уговорившись, призрит барышень вместе с господами студентами…
– Пустили капусту к козлам в гости! – заржал Яшка на всю Живодерку.
Ему вторил хор студенческого смеха из-за маслишинского забора. Неожиданно из густых вишневых зарослей послышался серебряный голосок:
– Григорий Ильич! А Григорий Ильич!
Гришке и в голову не пришло, что это обращаются к нему, и он не поворачивал головы на голос до тех пор, пока Яшка не ткнул его в бок:
– Оглох? Вон тебе Анютка машет! Да иди, иди! В своем праве, небось!
Гришка поморщился, но пошел. Анютка в голубом ситцевом платьице и белой косыночке на голове махала ему из-за забора. Когда Гришка подошел, она чинно сложила руки на животе, потупилась и шепотом сказала:
– Уж не знаю, как и благодарить вас, Григорий Ильич, за спасение-то…
– Не знаешь – так не благодари, – хмуро сказал Гришка, слыша, как в спину ему гогочут парни. – Ты что – всамделе спала?
– Знамо дело, спала… – тоненько хихикнула Анютка. Ее русые кудряшки запрыгали у висков, курносый нос забавно сморщился, и Гришка против воли улыбнулся.
– И как это вы меня поднять-то сумели, да еще с одеялом вместе? Я ж тяжелая…
– Где тяжелая? – удивился Гришка, меря взглядом тоненькую фигурку в голубом платье. – И не почувствовал ничего…
Он говорил правду, потому что вчера, оказавшись в огненной круговерти, задыхаясь от жары и дыма, был так рад, что вообще нашел в этом аду спящую девчонку, и так торопился, что не почувствовал не только Анюткиной тяжести, но даже вцепившейся в волосы кошки.
– Как самочувствие-то ваше, Григорий Ильич? – Анютка осторожно коснулась пальчиком его руки. Гришка неловко отстранился, заложил руки за спину.
– Слава богу. И ты не хворай.
Отвернувшись, он махнул ожидающим его цыганам, быстро зашагал к ним. Анютка растерянно и обиженно посмотрела ему вслед.
– Ну что ты, как дурак-то? – спросил Яшка, когда компания цыган уже вышла на Садовую. – Не видишь – девчонка за тобой страдает.
– Угу… – недоверчиво усмехнулся Гришка. – Когда это она успела-то?
– Для этого дела много времени не надо. Ты не будь валенком, заверни как-нибудь к Данае, поболтай с ней. Может, там и еще чего получится. Ты не думай, Анютка не как другие девки, чистая. Даная ее даже к отцу Евстигнею учиться отдавала, она грамотная…
– Мне что с этого? – вышел из себя Гришка. – Сказано тебе – не хочу! Незачем она мне!
– Опять же дурак выходишь. – Яшка на ходу сорвал лист сирени, сунул черешок в рот. Невнятно сказал: – Выкинь ты Маргитку из головы. Что в ней есть, кроме рожи-то? Вот сам подумай: ну, женишься ты на ней, ну, накидает она тебе полные углы… А через десять лет на что любоваться будешь? Станет, как все бабы, – самовар в юбке. И мозгов ни на копейку, один визг – и все. Ну, к чему тебе это? Будь Маргитка хоть вполовину как твоя сестра, тогда бы я сам ее за тебя уговорил. А так… Побереги здоровье-то.
Гришка молчал. Делал вид, что слушает, как орут, размахивая кнутами, извозчики на углу, щурил глаза на солнце. Как в детстве, хотелось плакать, и все силы шли на то, чтобы этого не увидели цыгане.
Глава 8
Июль начался холодными дождями. Жара пропала, словно не было: теперь над Москвой висели серые тучи, и день напролет то моросило, то крапало, то лило ливнем. Тротуары давно перестали высыхать, сырой воздух лез за воротник, липы и клены на Тверской стояли поникшие, и даже вездесущие воробьи куда-то попрятались от холодных капель. Москва снова стояла пустая. На обычно шумной и многолюдной Воздвиженке в самый полдень почти никого не было – лишь ругались на углу два мокрых торговца пирогами, да с Моховой неожиданно вывернула пролетка. Илья, в глубокой задумчивости шествующий посередине мостовой, едва успел прыгнуть на тротуар.
– Да чтоб тебя размазало! – выругался он.
Пролетка с дребезжанием пронеслась вниз по Воздвиженке, резко остановилась у переулка, и из нее выпрыгнула женщина. Быстро оглянувшись, она подобрала подол платья и побежала по лужам через улицу. Илья с удивлением заметил, что женщина бежит к нему. Приблизившись, она нерешительно замерла в двух шагах.
– Что угодно госпоже? – со всей почтительностью осведомился Илья.
– Смоляко, морэ… – С темного, словно сожженного лица блеснули длинно разрезанные, черные глаза. – Ты… меня не узнаешь?
– Данка… – ахнул он.
Женщина кивнула, грустно улыбнулась. Несколько минут Илья молча разглядывал ее.
Как была красавицей, так и осталась, проклятая… И годы ее не взяли. Только еще лучше стала. Даже и не сразу поймешь, что цыганка, хоть и черная, как головешка. Прическу высокую уложила, шляпа и платье по моде, а дождя не испугалась. А золота-то на пальцах, отец небесный! А серьги бриллиантовые, а цепочка на шее! Хоть сейчас хватай эту королеву соломенную в охапку да в ломбард неси, на вес сдавай.
– Давно ли в Москве, Смоляко?
– Второй месяц.
– Как наши все?
– А то ты не знаешь?
– Откуда, морэ, откуда? – Данка снова горько улыбнулась. – Знаешь ведь… Я для них вроде как не своя.
– Кто ж тебе виноват? – резко спросил Илья. – И жалуешься на что? Ты ведь своего добилась. Настоящая бари раны[40] – при доме, при золотишке и при жулике своем.
Данка быстро взглянула на него, но ничего не сказала. Ее длинные худые пальцы нервно затеребили бархотку на шее. Илья смотрел на эту бархотку с крошечной голубоватой жемчужиной и не мог понять, почему он не уходит. Других дел нет будто, кроме как с этой потаскухой разговаривать… Хотя, если подумать, чем она потаскуха? Всяк ищет, где лучше. Кто от счастья откажется, если оно само подплыло и в руку ткнулось? А Данка – таборная, у нее хватка мертвая, своего не упустила. Если бы не Кузьма…
– Мне бы поговорить с тобой, морэ, – наконец сказала Данка. – Все-таки столько лет не видались. Хочешь, пойдем ко мне? У меня и вино найдется.
Илья колебался. Он отчетливо понимал, что, если об этом его гостевании узнает Митро – убьет на месте. С другой стороны, страшно хотелось посмотреть, как может устроиться в жизни таборная босявка без единого родственника. Да и не похоже, чтобы она от счастья светилась. Неужто поджаривать начало?
– А Навроцкий где? – осторожно спросил он.
– Боже мой, да откуда я знаю? Четвертый день не появляется…
Это решило дело.
– Ну, идем, пхэнори. Показывай, как живешь.
Дом Данки Илья знал: с месяц назад показал Кузьма. Обыкновенный дом в два этажа, скрытый в глубине яблоневого сада, темный и неприветливый, Кузьма обозвал его «кутузкой». Калитку открыл старик-дворник, покосившийся на спутника хозяйки с крайним недоверием. На крыльцо выбежала молоденькая горничная в сером платье.
– Маша, никого не принимать, – строго сказала Данка. – Из ломбарда придут – говори, нету дома. Принеси вино в нижнюю гостиную. Придет барин – скажи ему… Нет, ничего не говори. Пускай. Все, ступай.
– Как скажете!
Горничная ушла. Илье пришлось сделать усилие, чтобы закрыть рот. Вон как она научилась… Будто всю жизнь прислуге приказы раздавала.
– Идем, Илья.
В большой гостиной с розовыми обоями и ореховой мебелью Данка указала ему на широкий бархатный диван. Илья как можно уверенней уселся, оглядел комнату.
Черт знает что. Паркет, зеркала, хрустали разные… Портрет какой-то на стене в раме болтается. Кого это она, интересно, туда пристроила? Господа – те хоть родню свою на стены лепят, князьев да графьев. А Данке кого вешать, если ее бабке на ярмарке руку золотили, а дед в это время краденых коней сбывал?
– Мангав, Илья, пи.[41]
Илья отвернулся от портрета и увидел, что горничная ставит на низкий столик поднос с вином. Данка взяла один бокал, улыбнулась:
– Что ты так смотришь? Я пять лет ни с кем по-цыгански не говорила.
– Ну, и не велика печаль, – отозвался он, беря бокал. Вино оказалось хорошим, чуть терпким, согревающим нутро. – Дай тебе бог еще сто лет не говорить – зато жить как жила.
– Жить как жила? – Снова горькая улыбка, старившая Данку на несколько лет, тронула ее губы. – Боже сохрани…
– Да что ж тебе не слава богу? – наполовину искренне, наполовину издевательски поинтересовался Илья, ставя бокал на стол. – Только не говори, что тебе по ночам во сне наш Кузьма является.
– А… – Данка встала, прошлась по комнате. Остановившись у окна и глядя на серую улицу, вполголоса спросила: – Так ты меня тоже судишь за это?
– Я тебе не судья, – буркнул Илья. – Всяк живет как может.
– Не брехай! – сердито отозвалась она. – Я понимаю, цыганки злятся – завидуют, наверно, дуры. Знали б они… Но ты-то чего, морэ, ты-то? Ты же знаешь, как у меня все сложилось!
– Знаю. Потому и говорю.
Данка молчала, стоя у окна и водя пальцем по покрытому каплями стеклу. Илья вздохнул, опустил голову. Да… Уж кто-кто, а он знал.
И разве забудешь такое? Забудешь то жаркое, душное лето, когда табор мотался из одной губернии в другую, забудешь звенящие от солнца и зноя дни, небо без конца и края, реки и отражающиеся в них облака, высокие, до плеча, некошеные травы, медовый запах цветов… Семнадцать было ему, а девочке из самой бедной в таборе кибитки не было и тринадцати. Маленькая черная девчонка с длинными волосами, которые не заплетались в косы, не связывались в узел, а вылезали во все стороны из-под рваного платка и рассыпались по худенькой спине, скрывая вылинявший ситец платья. Она вплетала в кудрявые пряди ромашки, гоняла Илью в лес за лилиями и огорчалась до слез, когда он приносил их совсем увядшими: жара сразу убивала нежные цветы. Вместе с ним она ловила решетом рыбу в реке, и ее волосы падали в воду. Она бегала по всему табору, ловя его отвязавшегося коня, а однажды украла его рубашку, сушившуюся на оглобле, и вернула наутро, буйно хохоча и напрочь отказываясь объяснять, зачем проделала это. Он носил ей цветы, таскал слепых лисят из леса, красовался перед ней на украденном жеребце, а в один из слепящих солнцем дней затащил ее в копну сена у самого леса. Медовый запах пыльцы стелился над лугом, гудела вековая дубрава, горячие солнечные пятна обжигали лицо, в густой траве пели пчелы. От молодой дури у него кружилась голова, останавливалась кровь от близости худенького смуглого тела, дрожали руки. Рассыпавшиеся волосы девочки закрывали ее лицо, неумелыми были его пальцы, скользящие по едва наметившейся груди, и слова были глупыми, неумелыми:
– Ты меня любишь, Данка?
– Да-а-а…
– Только меня? Одного?
– Да… Подожди…
– Чего ждать?
– Ох, нет… Илья, постой… Подожди, послушай… Нам с тобой убежать нужно, меня завтра сватать придут. Мотькина мама с моей сегодня говорила, я за шатром спряталась, подслушала. Они меня за Мотьку хотят взять, за Мотьку, друга твоего. Отец отдаст, я знаю, он Мотькиному отцу с Пасхи должен… Только я за него не пойду, ни за что не пойду! Убежим сегодня, а? Или, если хочешь, бери прямо сейчас, будешь самым моим первым, а потом… А потом я в реку кинусь.
Он ушел тогда. Ушел, так и не узнав этого молодого тела, не выпив губами полудетскую грудь, ушел не оглядываясь и не слушая ее тихого плача. Ведь Мотька был его другом, верным другом, с которым ему сам черт был не брат и которого не заменит ни одна девка, даже самая красивая… Но вечером, когда солнце опрокинулось за дубраву, высветив ее насквозь розовыми полосами, Илья вернулся к копне – сам не зная зачем. Девочки уже там не было. Было лишь рассыпанное, измятое сено, по которому он, обняв, катал ее, и красные бусинки мелькали в сухой траве – одна, вторая… Илья собрал их – ведь это он разорвал неловким движением истлевшую нитку. А на другой день, на сватовстве Мотьки, сумел незаметно подойти к невесте и, пряча глаза, сунуть в ее вспотевшую ладошку эти красные бусинки. Все без одной. Одну он оставил себе – круглую и гладкую, как голубиное яичко. Потом потерял, конечно… И после ни он, ни Данка не вспоминали об этом дне – ни за два года до свадьбы (невеста должна была подрасти), ни в Москве, когда Данка во вдовьем платке появилась на Живодерке, ни когда она вышла замуж за Кузьму. Зачем было вспоминать? Дело прошлое…
– Может, мне из хора уходить не надо было? – донесся до Ильи задумчивый голос Данки, и он, вздрогнув, вернулся из жаркой степи в Данкину гостиную. – Да, наверное, зря я ушла. Все с того и началось. Я ведь в того «яровского» Федьку Соколова ни на пять копеек влюблена не была. Но очень уж, дуре, в «Яр» хотелось. Вот там-то, думала, настоящие богачи-цыгане, золото горстями меряют… Пожила, присмотрелась – а цыгане-то те же. Публика, правда, почище, миллионщики наезжали чуть не каждую ночь. Деньги, цветы, камни дорогие… Я ведь, Илья, такого сроду не видела, в таборе и сотой доли таких денег в руках не держала! И решила тогда – заживу, как графиня, всем назло заживу! Ко мне ведь купцы именитые ездили, Купряшев-миллионер, граф Суровцев чуть не застрелился, замуж звал… Но я не соглашалась, всем отказывала – хоть и с Федькой не жили давно. Думала – что толку одного доить, если десяток можно? Стала деньги собирать, золото откладывала. Цыгане завидовали, а уж цыганки… Шипели, как змеи подколодные, хоть я и в хор много отдавала…
– Кузьму не вспоминала? – не утерпел Илья.
Данка стремительно развернулась к нему, и он увидел злые слезы в ее глазах.
– И ты туда же, господи ты мой… Илья! Да ты ведь лучше всех знаешь, как я с Кузьмой оказалась. Мне тогда все равно было за кого, хоть за черта плешивого, – лишь бы цыганом был, лишь бы замуж, лишь бы снова по городам одной не шляться… Мне ведь пятнадцать всего было! Да, не любила его, да, да! Так ведь он меня об этом и не спрашивал! Спросил: «Пойдешь?» Я сказала: «Пойду». И пошла. Никогда я ему любви не обещала, и никто такого говорить не может. И он не может!
– Наверно, не может… Только измотала ты его дай боже. – Илья смотрел на блестящие паркетные плашки. – Он из-за тебя пить начал. Если б не Митро да не Варька моя, пропал бы уже давно.
– Это не из-за меня. – Данка отошла от окна, нервно отпивая из бокала. – Что-то Федька Соколов не запил, когда я его бросила. И миллионщики мои живы, и граф Суровцев так и не застрелился… Слава богу, все здравствуют и даже переженились. А Кузьма…
– Только тобой и жив.
– Илья, золотой, а что же мне поделать? – Данка совсем по-таборному вцепилась обеими руками в аккуратную прическу. – Да, знаю, знаю – он и к «Яру» ходил из-за меня, и здесь, на Воздвиженке, я его сколько раз видала, пьяным. Трезвый не приходил… Я ведь только прикидывалась, что его не узнаю: думала, так успокоится скорее… Ну ведь ничего, ничего у меня к нему нет. И не было! Хоть зарежь! Чужой он мне…
– А этот Навроцкий что же – роднее оказался? – мрачно спросил Илья.
Данка вздрогнула. Медленно, держась за край стола, опустилась на диван.
– Навроцкий… Да что вам всем Навроцкий? Знал бы ты, морэ… У меня ведь таких, как он, сотня была! Все в ногах валялись, золотые горы сулили, а мне только смешно было. Хоть пропади они все разом – не заплакала бы. А Казимир только появился – и все. Все! Все, Илья… Теперь я только его каждый вечер ждала. И пела для него, и плясала, и все подарки его берегла, ни одного колечка не продала… И до того в конце концов без головы осталась, что позвал он меня в тройку – ни минутки не думала! Подхватилась, в шаль завернулась – и прыгнула! Хоть и знала, что в «Яр» теперь возврата не будет, он ведь за меня в хор ни гроша не заплатил… И знала, что играет, что денег нет и что не женится никогда – на цыганке-то! – и все равно… И не жалела ни о чем!
– А сейчас что же? – осторожно спросил Илья.
– Сейчас… – Данка стиснула дрожащие пальцы. – Сейчас… Плохо все сейчас, Илья. Совсем плохо. Я ведь все, как дура последняя, ему отдавала, что ни просил, – все! Так и вытянул по грошику… И дом уже заложен, и золотишко только то осталось, что на мне. Я уж боюсь, как бы он меня саму в свои карты не проиграл.
Голос Данки был спокойным, но по лицу бежали слезы, капали на сжатые руки, на кольца, на смятую бархотку. Илья молчал.
– Одна я, Илья. Когда я с ним на тройке улетела, я все постромки за собой обрубила. А теперь вот и кинуться некуда. От своих оторвалась, ни к кому не прилепилась… Что ж теперь… Пропадаю я, морэ.
Илья поднял глаза. Помедлив, протянул руку, слегка прикоснулся к плечу Данки – и она, зарыдав, уткнулась лицом в его грудь.
– Ох ты, дура… Какая ж дура, дэвла… Что ж с тобой тут сделали?
Ничего, кажется, особенного и не сказал, а ее затрясло. Вцепившись обеими руками в рубашку Ильи, Данка взвыла в голос, хрипло причитая по-цыгански, как вдова над гробом. Гребень выпал из прически, и черные вьющиеся пряди ринулись вниз по худенькой спине, по алому бархату дивана. Илья растерянно погладил их, обнял дрожащие плечи Данки, закачал ее, как ребенка, вполголоса приговаривая «ч-ш-ш…». В гостиную вбежала горничная и, ойкнув, остановилась на пороге.
– Пошла вон, – одними губами сказал ей Илья.