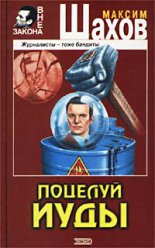Барыня уходит в табор Дробина Анастасия

– Варька! – гаркнул Илья.
Испуганная Варька прибежала из кухни, на ходу вытирая руки полотенцем:
– Что, что, что? Чего вам подать? Чего не хватает?
– Спой нам, чайори, – с усмешкой сказал Митро.
Варька уронила полотенце. Растерянно посмотрела на брата.
– Спой, – Илья тоже взял гитару. – Тебя все просят.
Варька не стала ломаться. Встала рядом с братом, привычно кивнула Митро и Кузьме, подождала первого аккорда. И взяла – высоко и весело:
- Шэл мэ вэрсты [40], шэл мэ вэрсты, милая, прошел, —
- Ай, нигде пары себе я не нашел!
Варька пела, как в хоре, – чисто, звонко. На лицах цыган появились улыбки. Никто из таборных не знал этой песни, и второй куплет подхватили только Настя, Митро и Кузьма:
- Ай, дрэ форо, дрэ Москва мэ пришел —
- Гожона ромня [41] себе нашел!
- Сашенька-Машенька, черные глаза —
- Зачем сгубила бедного меня?
Мелодия стала чаще, и Варька пошла плясать. Цыгане весело загудели, раздвинулись. Илья взволнованно смотрел на разгоревшееся лицо сестры, на качающиеся тяжелые серьги, на вьющийся вокруг ног бархат платья. И никак не ожидал, что она вдруг остановится перед ним, поклонится до земли, мазнув по полу кистями дорогой шали, и улыбнется лукаво и широко, как не улыбалась ни одному гостю в ресторане. Она вызывала брата плясать, и цыгане восторженно заорали:
– Давай, морэ!
– Помоги сестре! Гостей уважь!
Песня носилась по тесной комнате, хлопали в ладоши цыгане, подкрикивали женщины, две гитары захлебывались озорной плясовой… – и разве можно было удержаться на ногах? Илья сорвался с места, взвился в воздух рядом с сестрой, припечатал каблуком загудевший пол. Как где-нибудь в деревенской избе под Смоленском, или в таборе, на вечерней заре, у гаснущих углей, или на свадьбе какой-нибудь черноглазой девчонки. И не нужно смотреть по сторонам, дрожать – вдруг получится плохо, вздрагивать от острого, неласкового взгляда хоревода, совать за пазуху пожалованные рубли… А Варька уже кинулась к порогу, за руки втянула в круг невесток деда Корчи, и те заплясали тоже, мелькая босыми ногами из-под обтерханных юбок. Илья подлетел к столу, топнул сапогом перед старой Стехой. Все покатились со смеху:
– Ну, давай, пхури…
– Такой чаво вызывает…
– Да пропадите вы все! – объявила старуха, вставая с места. И поплыла по кругу, мелко-мелко дрожа плечами, и развела руками, и поклонилась мужу. Дед Корча вскочил, по-молодому взъерошив пятерней седые кудри, ударил по голенищу сапога раз, другой, третий… Вскоре плясали все. Дети вертелись под ногами у взрослых, с визгом носилась по кругу Варька, вскидывался в воздух, колотя себя по груди и голенищам, кривой Пашка, и бешено сверкал его единственный разбойничий черный глаз. Пол гудел, трещали ветхие половицы, содрогалась посуда в шкафах Макарьевны, и сама она кораблем плыла среди пляшущих цыганок вслед за крутящимся мелким бесом Кузьмой. Мельком Илья увидел Настю. Она не плясала, сидела за столом, зачарованно смотрела на разошедшихся цыган. Лохматый мальчишка по-прежнему сидел у нее на коленях и сосал палец.
К ночи повалил снег. Все уже наелись, наплясались, наговорились. Дети заснули на полу, поделив пестрые подушки. Старая Стеха о чем-то разговаривала с Макарьевной, рядом, отдыхая, сидели женщины. Заплакал ребенок, и мать, шепотом успокаивая его, выпростала из кофты грудь. Усталая Варька внесла в комнату самовар, зажгла лампу, и оранжевые отблески заскакали по лицам цыган. Илья сидел рядом с дедом Корчей, вполголоса говорил:
– Так что, может, к весне вернусь в табор. Здесь, конечно, неплохо, деньга вроде хорошая…
– Чего ж тебе, лешему, еще надо?
– Да ну… – Илья не знал, что ответить, и небрежно пожал плечами. – Когда кочуешь, каждый день – живой барыш. А здесь на Конной примелькаешься – и все.
– А в ресторане? – прятал усмешку дед Корча. Цыгане, придвинувшись к ним, с интересом ловили каждое слово. Митро хмурился, уткнувшись подбородком в гитарный гриф, смотрел в сторону.
– Что – в ресторане? Не век же мне здесь киснуть. Варьку оставлю – а сам обратно.
– Дурак ты, ей-богу! – усмехнулся дед Корча.
Возразить Илье было нечего. Краем глаза он заметил, что Мотьки больше нет за столом, и, понизив голос, спросил:
– Что у Мотьки со свадьбой случилось?
– А ты не слыхал еще? – дед Корча покряхтел, нахмурился. Зачем-то тщательно расправил складку вылинявшей рубахи за поясом. – Да-а… Беда – черней не выдумаешь. На всю семью позор такой, что хоть вешайся. Данка-то… тьфу… порченой оказалась.
– Данка?! – поразился Илья. – Да… да как же это? Быть не может!
– Все наши видели. И зачем только до свадьбы довели? Повыродились цыгане…
Не договорив, Корча махнул рукой, умолк, зато остальных как прорвало. Сдвинувшись головами над столом, цыгане взахлеб, кто шепотом, а кто и во весь голос, принялись вываливать Илье невеселую историю Мотькиной свадьбы. Рассказали все: и как съезжалась родня из пяти губерний, и какие столы сделал Мотькин отец для гостей, и сколько цыган сидело за этими столами, и что пели, и как плясали, и какое платье было у этой потаскухи, и как все любовались на ее счастливое лицо – и ведь притворялась, до последнего прикидывалась, бесстыжая! Рассказали, как с песнями, с пляской провожали молодых на постель, как пили за их здоровье, как желали счастья… И как вскоре из комнаты раздался пронзительный плач, и растрепанная, зареванная Данка в одной рубашке вылетела под ноги онемевшим матери и отцу. А следом вышел Мотька с белыми скулами и скомканной простыней в руке – чистой, как первый снег.
– Дэвлалэ… – пробормотал Илья. – А… а потом?
– Известно что, – нехотя сказал дед Корча. – Родителям – хомут на шею. В ту же ночь добро да детей в кибитку покидали и съехали из табора от такого позора. И ведь в голову, в голову никому не пришло! Бабы, старухи – и те не донюхались! Степан же – крутой цыган, всегда дочерей строго держал. Все видели – еще только темнеет, а Степановы девки, все пятеро, уже у шатра крутятся. Как за старшей недоглядел – понять не могу. Вот тоже проклятие цыгану – кто теперь у него младших замуж возьмет? Ну, может, заедет подале, где их не знает никто… Я ему посоветовал в Сибирь ехать, тамошним цыганам своих девок сплавлять. Жалко, если засидятся.
– А… Данка? – тихо спросил Илья.
– Черт ее знает… Пропала. С той ночи никто не видал.
Илья потрясенно молчал. Он хорошо помнил Данку. Глазастая, гибкая, как прутик, девчонка носилась по табору, сверкая босыми пятками. В ее вьющихся густых волосах можно было увидеть что угодно – от увядших ромашек и ленточек до щепок и куриных перьев. У нее были маленькие тонкие руки, худые пальцы в россыпи цыпок. Улыбаясь, она показывала влажный ряд мелких зубов, смешно морщила короткий нос и становилась похожей на белочку. Хорошо пела звонким чистым голоском. Илье самому нравилась девчонка, и, видит бог, не будь Мотька его другом – заслал бы сватов. Но Данка с тринадцати лет была обещана Мотьке, отец наотрез отказывал другим сватам. И вот… Данка – потаскуха. Нет – быть того не может!
Хлопнула дверь, вошел Мотька. Цыгане умолкли. Он скользнул быстрым взглядом по их смущенным лицам, опустил глаза. Сев на свое место, уставился в пол. За столом повисла неловкая тишина.
– Спой-ка, морэ, – вдруг велел Корча, и Илья понял, что дед обращается к Мотьке. – Спой, хоть лето вспомним.
Мотька мрачно посмотрел на деда. Он явно был раздосадован, но отказаться не посмел. Илья, не знавший, как помочь другу, с готовностью тронул струны гитары, но Мотька не глядя отмахнулся. И запел, не взяв дыхания, хриплым, сорванным голосом.
- Ах ты, мири доля, мири бедная…
Пел Мотька плохо даже по таборным меркам, но при первых же звуках Илья почувствовал, как в комнате повеяло полынным запахом, горьким дымом. Илья закрыл глаза, вспоминая давний, промозглый вечер. Поздняя осень. Серое, низко нависшее над сжатыми полями небо, мелкая крупа дождя, разбитая дорога с залитыми черной водой колеями. По дороге тянутся кибитки, чавкают копыта усталых лошадей, кто-то щелкает кнутом, безнадежно ругается: «Чтоб тебе, проклятая, околеть!..» Отец идет рядом с конями, помогая им выбираться из грязи, и вполголоса поет свою песню:
- Ах ты, мири доля, мири бедная,
- Да пропадаю я, погибаю, мать моя…
Песня вдруг смолкла – на полуслове. Илья, очнувшись от воспоминаний, поднял голову, осмотрелся – и успел увидеть только, как Мотька, отворачивая от света лицо, торопливо, неловко пробирается между сидящими цыганами к выходу. Хлопнула дверь. В комнате повисла смущенная тишина. Цыгане старались не глядеть друг на друга.
– Вот так-то, чавалэ… – вздохнув, буркнул кто-то.
Илья метнул на говорящего бешеный взгляд, жестом извинился и встал из-за стола.
Мотька стоял на дворе, у забора, обхватив руками мерзлые бревна. Илья подошел, встал рядом. Он слышал хриплое, прерывистое дыхание друга, отчаянно соображал, что сказать, как утешить, но слова не лезли в голову.
– Чего ты? – не оборачиваясь, хрипло сказал Мотька. – Иди в дом.
– Я ничего… я… морэ, да ну ее к чертям, что ты, ей-богу… Ну, хочешь, Варьку свою за тебя отдам? Она с радостью пойдет, не беспокойся! Будет в хоре петь, деньгам счет потеряешь с такой женой… Хочешь? – Илья осекся, вдруг сообразив, каким крокодилом будет смотреться его Варька после красавицы Данки.
Но Мотька, казалось, не обратил внимания на невыгодность мены. Не поднимая головы, с трудом сказал:
– Спасибо. Поглядим. Варьку не нуди, я ей сам… Сам спрошу.
– Она у меня честная. Хоть сорок простыней подкладывай.
– Знаю, – Мотька вытер лицо рукавом рубахи, шумно высморкался в снег и лишь после этого повернулся к другу.
– Иди к нашим, – сказал Илья. – Ни к чему всем знать.
Мотька кивнул. Медленно прошел мимо Ильи, поднялся на крыльцо.
Илья приблизился к забору и так же, как только что Мотька, обнял руками колья, замер, глядя на пустую улицу. То ли был виноват Мотька с его песней, то ли сказалось выпитое за вечер, но к сердцу вдруг подкатила острая тоска.
Уедут. Завтра – уедут. И дед Корча, и Стеха, и Сиво, и Мотька… Уедут, а он останется. Зачем, дэвлалэ? Дальше драть глотку в ресторане? Сшибать рубли с пьяных купцов? Издали смотреть на Настьку и вздрагивать от непрошедшего стыда, вспоминая слова Митро? Плясать через месяц на ее свадьбе со Сбежневым, желать молодым счастья? Отец небесный, как надоело все… Не дожидаться бы весны, уехать сейчас… Прямо завтра и уехать! А Варька пусть как хочет. Теперь она и без него не пропадет.
За спиной заскрипел снег. Кто-то подошел, встал рядом.
– Варька, ты? – не поворачиваясь, спросил Илья.
– Это я, Илья.
Он обернулся. Рядом стояла, кутаясь в пуховой платок, Настя. Поймав его изумленный взгляд, улыбнулась краем губ.
– Постою с тобой немного… Разрешишь?
– Двор не купленный, – резко сказал он, отодвигаясь. Думал – обидится, уйдет, но Настя подошла ближе, тоже оперлась на забор.
– Хорошо вы спели сегодня.
– Спасибо.
– И песня красивая… Я давно ее выучить хочу, да Варьке все некогда показать мне.
– Тебе незачем. Куда ты с этой песней – в ресторан? Или, может, князю своему споешь?
– Да что с тобой, Илья?
– Ничего. Ступай в дом, холодно.
Она ничего не сказала. Но и не ушла, продолжая стоять рядом с ним у забора. Тихо падал снег, крупные хлопья ложились на сугробы. Со старой ветлы вдруг снялась и полетела над Живодеркой ворона. Несколько снежных комьев мягко упали на забор.
– Друга твоего жаль. Не повезло. Куда же она пошла, бедная?
– Таскаться не надо было, – глядя в сторону, сказал Илья.
– Илья… – Настя вдруг тронула его за рукав, и ему волей-неволей пришлось повернуться к ней. – Не обидишься, если спрошу?
– Ну?
– Тогда, осенью, когда вы приехали только… Это ведь ты на ветле сидел? Ты, а не Кузьма? Да?
Вся кровь бросилась ему в лицо. Смеется… Смеется над ним. Столько времени молчала, проклятая девка, а ведь разглядела все-таки его тогда… Илья опустил голову, благодаря темноту вокруг.
– Илья… – осторожно позвала Настя.
– Ну, что?!! – взорвался он. – Ну да! Я это был! Я сидел! Довольна теперь? Беги, Стешке расскажи, вместе похохочете! Можешь и остальным сказать! И князю своему, тоже посмеется!
– Что ты, Илья… Что с тобой?
– Ничего, – устало сказал он, опираясь на забор. – Можешь сколько хочешь смеяться. Только мне без тебя жить незачем.
– Что?..
– Вот так.
Тишина. Илья смотрел себе под ноги, на синий искрящийся снег и не понимал – почему Настя еще здесь, почему не расхохочется ему в лицо, не убежит? Стоит рядом и как будто ждет еще чего-то. А ему больше нечего ей сказать.
– Я уеду. Завтра, со своими. Варька останется, вы уж не бросайте ее тут, все-таки родственники. А мне, ей-богу, надоело.
– Что ж… – Настя вздохнула. – Тебе решать, конечно. Только чего же тогда твое слово стоит?
– Какое слово? – нахмурился он. – Я никому слова не давал.
– Забыл, значит? У меня, конечно, свидетелей нет.
– Настя… – Илья резко повернулся. – Да… да о чем ты?
– Ты меня замуж звал.
«Все. Помираю», – буднично подумал Илья, прислоняясь спиной к забору. В висках застучал жар. Заговорить он не мог, как ни старался, и только смотрел во все глаза на Настю, стоящую перед ним. Она тоже молчала. Опустив глаза, теребила бахрому шали. И подалась, когда Илья, шалея от собственной наглости, притянул ее к себе. Как во сне – хрупкие плечи под его ладонями, холодные пальчики, взволнованное дыхание. Как во сне – тонкое лицо Насти в его руках, присыпанные снегом волосы, лихорадочно блестевшие глаза. Она приникла к нему. Даже во сне, даже в самых отчаянных мечтах ему не виделось такое.
– Но как же… – собственный голос казался ему чужим, – как же… В самом деле? Не… не морочишь ты меня?
– Дурак… – простонала она, прижимаясь щекой к его ладони. – Я же еще осенью… как увидела тебя – сразу… Ты что, черт, не видел ничего, что ли? Не понимал?
– Нет… Нет. Ты бы… ты бы хоть шепнула мне… – Илья упал на колени в снег. Поймал дрожащую руку девушки, уткнулся в нее лицом.
– Настя… Настька… Чайори, лачинько…
– Илья! – перепугалась она, вырывая руку. – Встань! С ума сошел, увидят нас! Что со мной отец тогда сделает! Иди сюда, иди скорей!
Она заставила его подняться, насильно утащила к темной стороне дома, прижалась спиной к обледенелым бревнам. Илья, боясь открыть глаза, боясь проснуться, целовал ее испуганно приоткрывшиеся губы, глаза, брови, пальцы.
– Настька… Настька… Настька… уедем… Завтра же уедем с нашими… не догонят… А догонят – так ты уже жена мне будешь. Хорошо будем жить, увидишь! Я для тебя все сделаю, все что захочешь, про князя и думать забудешь!
– Подожди… Постой, Илья! – Настя, словно спохватившись, резко отстранила его. – Нельзя так. Понимаешь – нельзя.
– А… как же можно? – растерялся он. – Что мне – свататься приходить? Разве Яков Васильич отдаст?!
– Не отдаст ни за что, правда… – Настя задумалась. Илья ждал, жадно глядя в ее лицо. – Подожди, Илья. Один день подожди. Я все равно с тобой уеду, твоя буду, но… подожди.
– Чего ждать? – забеспокоился он. – Чего ты хочешь, Настя?
– Я знаю чего. Не спрашивай. И спасением души клянусь – послезавтра уедем.
– Ты… точно решила?
– Да.
Илья потянулся к ней, но совсем рядом вдруг протяжно скрипнула дверь, на голубой снег упала тень. Настя, тихо охнув, прижалась спиной к стене. Илья, загородив ее, шагнул вперед.
– Арапо! Чего тебе?
– Мне-то ничего… – задумчиво пробурчал тот с крыльца. – А вот ты что здесь пасешься?
– Так… проветриться вышел.
– М-гм… Настьки не видал?
– Вроде домой побежала.
– Да? – успокоился Митро. – Ну ладно. Ты это… возвращайся. Там тебя Варька ищет, петь хочет.
– Скажи – сейчас иду.
Дверь закрылась. Илья тут же обернулся, но Насти уже не было рядом. Он дошел до крыльца, медленно опустился на ступеньку, запустил обе руки в волосы. Посмотрел на следы маленьких ног, убегающие к калитке. Из дома доносился разговор, звон стаканов, смех. А ему так хотелось – хоть кричи! – вылететь за калитку, догнать Настю и еще раз прижать ее к себе, спрятать лицо в рассыпавшихся черных волосах, еще раз спросить – правда ли? Не привиделось ли ему? Не приснилось ли…
Глава 8
На другой день таборные ушли еще потемну. Провожала их Варька: Илья, заснувший лишь под утро, не слышал ни приглушенных голосов, ни звона посуды, ни топота и детского плача. Ночь он просидел на постели, прислонившись к стене и глядя в темноту. Ближе к рассвету не выдержал, на цыпочках прошел в кухню, зажег лучину перед осколком зеркала, висящего на стене. Долго и недоверчиво рассматривал свою черную физиономию, лохматые, сросшиеся на переносице брови, торчащие скулы, диковатые, чуть раскосые глаза. В прыгающих бликах огня Илья показался себе даже страшнее, чем обычно. Попытался улыбнуться – вышло еще хуже. На полу кто-то зашевелился, сонно забормотал: «Что ты, чаво?» – и Илья поспешил дунуть на лучину. Вернувшись в комнату, навзничь повалился на постель и заснул.
Варька разбудила его, когда за окном давно стоял серенький день.
– Илья, подниматься думаешь? Наши уже уехали.
– Как уехали? – он сел на постели, поскреб голову. – Куда? Чего не разбудила, дура?!
– Стеха не велела. Зашла, посмотрела на тебя, сказала: «Не тронь…» – Варька присела на край постели. Помедлив, спросила: – Ты только не сердись, но… вчера что случилось? Ты сам не свой сидел.
– Вчера? – недоумевающе переспросил он. И сразу вспомнил все. И рявкнул: – Да ничего не случилось! Пьяный был! Отвяжись! Где Кузьма?
– Кажется, на Тишинку пошел.
– Ну, и я пойду. – Илья решительно встал и начал одеваться. Варька пожала плечами и ушла в кухню.
Оставаться дома было ни к чему: Варька явно что-то учуяла. Не глядя на сестру, Илья наспех опрокинул в себя стакан обжигающего чаю, сунул в карман бублик и выскочил за дверь.
На дворе слегка вьюжило, по небу неслись лохматые облака, из чего Илья заключил, что к ночи разойдется метель. Первой мыслью было – зайти в Большой дом и если не поговорить, то хоть посмотреть на Настю. Но на это Илья, подумав, не решился. Если Варька что-то заметила, то могут догадаться и остальные. Митро давно уже за ним поглядывает, значит, еще раньше все видно было, а теперь… Нет, в Большой дом идти незачем. Лучше кое-как докрепиться до вечера, ночь переспать, а завтра – к черту с Настькой из Москвы.
Илья сам не знал, куда повезет Настю. О том, чтобы вернуться с ней в табор, и думать было нечего. Как она станет там жить? Что делать? Идти вслед за кибиткой босиком по пыльной дороге? Бегать по площадям и улицам – «Дай погадаю, красавица»? Жечь лицо под солнцем, царапать руки, разжигая костер, носить воду? Да ни за что на свете он ей не позволит! Но и оставаться в Москве тоже нельзя было. Мелькнула было мысль о том, чтобы обвенчаться с Настькой где-нибудь на окраине, в Рогожской или Таганке, а утром вдвоем явиться в Большой дом и повалиться в ноги Якову Васильичу. Ну, покричит, ну, может быть, пояс снимет да отходит обоих… Так дело-то уже сделано, не воротишь, женой ему будет Настька. Так бы все и было, конечно… будь Настя обещана кому другому. Не Сбежневу. Илья понимал – дело не в том, будет или не будет Настька княгиней, а в сорока тысячах.
Он уже не раз видел, как по воскресеньям в гостиной Большого дома собираются цыгане, и Марья Васильевна кладет на стол огромную расходную книгу. Среди хоровых она называлась «зеленой» из-за обтягивающего ее сафьяна и пользовалась невероятным почитанием: кое-кто даже крестился при ее виде, словно на выносе иконы. Следом появлялась большая шкатулка из красного дерева с инкрустацией. Ключик от нее Марья Васильевна носила на шее. В шкатулке хранились все деньги, собранные хором за неделю работы в ресторане. Шкатулка торжественно отпиралась, и начинался расчет. В зеленую книгу были записаны все песни и романсы, которые исполнялись за вечер, учтена каждая пляска, указано, сколько заплачено гостями каждой певице, каждому гитаристу. Марья Васильевна, вооружившись счетами, подсчитывала это все, делила, складывала. Цыгане завороженно следили за ее действиями. Кое-кто, не доверяя счетам, считал в уме и на пальцах, сравнивал свои расчеты с цифрами Марьи Васильевны и успокаивался: ошибок сестра хоревода не делала никогда. Если при дележе денег и возникали скандалы, то совсем не из-за этого. Илья помнил, как однажды молоденькая плясунья Симка, скаля зубы, кричала на Настю:
– Лопни мои глаза, если я сама не видела! Тебе князь кольцо дарил с красным камнем за песню, за «Надоели ночи» дарил. Что я, слепая?! Все видели, милая, не беспокойся, все! Ты его хоть бы спрятала да напоказ не таскала, совсем стыда не осталось!
Бледная Настя сорвала с пальца кольцо. Яков Васильич тяжело взглянул на Симку:
– Ну-ка замолчи. Ей жених дарил, это – другое! Настька, надень обратно.
– Не надо, отец, – сказала Настя. Сказала тихо, но Симка захлебнулась на полуслове, растерянно оглянулась на цыган, ища поддержки, но все молчали. Повернулась к Симке: – Возьми. Мне не жаль, – золотое кольцо с большим рубином, звеня, покатилось по столешнице. – Может, это ты свои цацки в рукав прячешь. А я не научена.
– Я прячу? Я, ромалэ? Да что же это такое?! – заголосила было Симка, но Яков Васильевич взглядом остановил ее. Взяв со стола кольцо, протянул его Насте:
– Надень.
– Не буду! – отрезала Настя, отворачиваясь. – Оставь, отец, клади вместе с остальными. Сергей Александрович не обидится.
Яков Васильевич не стал настаивать, бросил кольцо в шкатулку с деньгами. Испуганная Симка спряталась за спины цыган, но на нее уже никто не обращал внимания. Все сделали вид, что ничего не произошло. Дележ продолжался.
После окончания расчета с теми, кто работал в хоре, в комнату входили старые цыгане. Илья знал их всех: Татьяну Михайловну, высохшую и маленькую старушку с поблекшими глазами, когда-то сводившую с ума всю Москву романсом «Плакали ивы», семидесятилетнюю Ольгу-Птичку, прозванную так когда-то за звонкий голос, тетю Пашу, которую длинно именовали Бессменная Графиня: она трижды была на содержании, и все три раза, как нарочно, – у графов. Приходили когда-то гремевший тенор Колька, теперь согнутый в три погибели, разбитый ревматизмом старик Николай Федорович; гитарист Граче, у которого дрожали покрытые коричневыми пятнами руки; бас Бочка, седой как лунь, охрипший и сгорбившийся. Хор не оставлял своих, и деньги выделялись каждому. Получив свою долю, старики спокойно и с достоинством благодарили и, не считая денег, уходили.
Конечно, солисты зарабатывали больше остальных. Но Илья знал, что Зина Хрустальная содержит чуть ли не полсотни родственников, проживающих в Таганке; что Митро должны деньги – и черта с два вернут! – два десятка нищих цыганских семей из Марьиной Рощи. По поводу последних Митро ругался: «И надо же было туда сестру замуж отдать! Теперь, хочешь не хочешь, вся Марьина Роща нам родня. Чуть что – являются, просят. Тьфу! Что я им – Попечительский совет?! А куда денешься?» Кузьма слал деньги в Ярославль; в доме братьев Конаковых постоянно толклись какие-то тетки, дядья, племянники… Так было всегда. И в таборе Илья видел то же самое: стоило кому-нибудь из цыган зажить побогаче, как немедленно объявлялись какие-то нищие, седьмая вода на киселе, родственницы, которых нужно было брать в семью, кормить, одевать и считать кровными. Все это называлось «романэс» [42] и обсуждению не подлежало.
У семьи Васильевых такой родни тоже было не счесть. И все цыгане Москвы слышали, что после Рождества Настя выходит замуж за князя Сбежнева. Все знали, сколько денег после этого пойдет хору. Все ждали. Сорок тысяч были огромными деньгами, и кто бы стал слушать Настю, которая вдруг заявила бы, что она не хочет выходить за графа? Кому бы пришло в голову даже спрашивать ее об этом? Ни за одну хоровую девчонку еще не давали таких денег. И что скажут цыгане, если завтра наутро Настька явится к отцу с мужем – и вовсе не с тем, с каким нужно? Илья хорошо понимал: житья после этого им с Настей в Москве не будет.
Ну и ладно! И наплевать! Других мест нету будто? Уедут в Ярославль, в Тулу, в Калугу. Даже и в Санкт-Петербург можно. Настьку любой тамошний хор с руками оторвет – здесь, в Москве, она королева, а там еще выше будет. Может, и его возьмут. А не возьмут, тоже не беда, – если в городе хоть какой-то конный базар будет, с голоду они не помрут. И как бы ни кричала Настька, что никаких денег ей не нужно – о них тоже думать надо. Дети пойдут, святым духом сыты не будут.
Хорошо бы сына первого… И второго. И третьего тоже, а потом Настька пусть делает что хочет, хоть табун девок рожает одну за другой. К тому времени они уже точно станут на ноги и можно будет с чистой душой откладывать хоть на десяток приданых… Размечтавшись, Илья не особенно следил за дорогой и уже прикидывал, во что ему обойдется свадьба старшего сына, когда вдруг обнаружил, что стоит посередине Большой Садовой. Тишинка, где он рассчитывал отловить Кузьму, была совсем в другой стороне. Выругавшись, Илья развернулся, подождал, пока мимо не спеша проедет извозчик с пассажиром, перебежал улицу… и нос к носу столкнулся с Катькой – рыжей горничной Баташевых.
– Илья, чертов сын! – заверещала она на всю Садовую. – Да ты это или нет?! Ну, бог тебя послал, я как раз к вам бегу!
– Что стряслось? – испугался он.
– Совесть у тебя есть или нет, вурдалак?! Ты что, не слыхал?
– О чем?
– Да Иван же Архипыч в Пермь уж неделю как укатимши!
Только тут Илья понял. И сам не ждал, что так испугается.
– Ну и черт с ним. Мне какое дело?
– Илья, да ты что? – всплеснула Катька руками. – Неужто тебе в тот раз плохо было? Барыня, голубушка, исстрадалась за ним, исплакалась, голубица моя сизая, каждую ночь подушку слезами мочит, а он… Черт неумытый, совсем стыд потерял! Хоть бы раз зашел, образина ты адская!
Илья молчал. С той ночи, проведенной в спальне Баташевой, прошло больше месяца, но он лишь недавно перестал вспоминать о случившемся. В первые дни было совсем никуда – так и стояли перед глазами серые, мокрые от слез глаза, светлые косы, белое тело, просвечивающее сквозь рубашку, плечи, грудь… Мгновенно делалось жарко, в глазах темнело, и он едва удерживал себя от того, чтобы не понестись сломя голову туда, в Старомонетный… Но об этом и думать было нельзя: Илья хорошо помнил, какого страху натерпелся в ту ночь в коридорах и закоулках чужого дома. Тем более что Баташев был в Москве, вел свою коммерцию и несколько раз даже заезжал к цыганам: послушать Глафиру Андреевну. Потом понемногу схлынуло, Илья уже не вспоминал о Баташевой и даже раза два, поддавшись на уговоры, смотался с Митро к мадам Данае. Хорошего, конечно, в этом было мало, но Митро успокаивал: «Ничего не поделаешь, чаво. Раз мужиком родился – надо». И вот теперь Катька… Неужели не забыла его Лизавета Матвеевна?
Горничная словно угадала мысли Ильи.
– Тебе, кобелю, хорошо, дело свое паскудное сделал, позабавился – и в сторону! А мне каково? Я ведь каждый божий день вижу, как Лизавета Матвевна убивается. И добро бы по красавцу сохла, а то – лешак лешаком, господи прости, во сне узришь – не открестишься… Раньше я ее все успокаивала: не плачьте, говорю, не может он прийти, хозяин дома, поостеречься надо… Она вроде бы верила. А сейчас что я ей скажу?! Что у тебя, цыганская морда, последняя совесть почернела и отвалилась?!
– Послушай… – Илья собрался сказать все как есть – что он женится и завтра уезжает из Москвы, что у него и в мыслях не было обижать Лизавету Матвеевну, что баба она хорошая и дай бог ей какого-нибудь офицера или хотя бы приказчика для забав, коль уж с мужем совсем худо. Но взгляд его случайно упал на другую сторону улицы. И слова застряли в горле: по Садовой шла Настя.
Она была одна. В своем чернобуром полушубке, красном полушалке, накинутом на голову, и с каким-то узелочком в руках. Шла торопливо, почти бежала, то и дело оглядываясь через плечо. Не сводя с нее глаз, Илья отстранил с дороги Катьку.
– Прости… тороплюсь. После поговорим.
– Эй, Илья! – растерянно закричала та вслед. – Куда ты, проклятый? Что мне барыне говорить? Придешь вечером, ворота отпирать али нет?
– Отпирай что хочешь… – не думая бросил он и пошел за красным полушалком.
Сначала Илья хотел просто догнать Настю. Но уже через несколько шагов в душе заскреблось что-то нехорошее. Куда она бежит? Одна, даже не взяла извозчика… И наверняка никому не сказала… А почему она отказалась уехать с ним сразу, выпросив себе один день? Для чего он ей понадобился? А ему, ошалевшему от радости, даже в голову не пришло спросить об этом…
С Большой Садовой Настя свернула на шумную, запруженную санями и людьми Тверскую, потом – в Столешников переулок. Илья шел за ней, отставая на несколько шагов. Ему отчаянно хотелось, чтобы Настя заметила его. Тогда бы он смог подойти, удивиться, мол, как это они встретились, проводить ее туда, куда она так спешит… Но Настя не оглядывалась. Когда же она повернула на Большую Дмитровку, у Ильи встал в горле комок. Там, в Копьевском переулке, стоял особняк князей Сбежневых.
Может, не туда, уговаривал он себя, не сводя глаз с мелькающего в конце Дмитровки красного полушалка. Может, по делам, в магазины на Кузнецком мосту. Может, на Петровку, в гости к тетке… Но красный язычок исчез в Копьевском переулке, и Илья, чувствуя, как каменеют ноги, остановился на углу. Торговка сбитнем, сидящая на кадушке со своим товаром, изумленно посмотрела на него из-под надвинутого на глаза платка, предложила:
– Сбитеньку, молодец? Горяченького, с огонька? Утресь варила!
Илья хотел было сказать «не хочу», но голос куда-то делся. Дико посмотрев на торговку (та отшатнулась, перекрестилась), он чуть не бегом бросился в Копьевский.
Она была там. Стояла у заснеженных ворот особняка, разговаривая с дворником. Слов Илья, застывший в подворотне, слышать не мог. Затем Настя торопливо вошла в ворота, и тяжелые створки сомкнулись за ней.
Дворник проводил Настю до крыльца, постучал в дверь. Ее долго не отворяли. Наконец высунулась повязанная повойником голова старой кухарки:
– Кто беспокоить?
– Князь Сергей Александрович дома? – отрывисто спросила Настя.
Бабка, пожевав губами, пристально осмотрела ее с головы до ног.
– Может, и дома. Как сказать-то?
– Скажи – Васильева Настасья Яковлевна.
Старуха снова недоверчиво оглядела ее. Настя ответила спокойным взглядом, решительно вошла в переднюю, выпростала руки из муфты, сняла шаль.
– Пожалуйста, поди доложи.
– Арефьевна, кто там? – послышался голос князя.
Старуха тяжело повернулась:
– Барышня к вам, Сергей Лександрыч.
– Ко мне?.. – Сбежнев появился из боковой комнаты. Арефьевна поднесла свечу к самому лицу Насти, и князь обрадованно всплеснул руками:
– Настя? Здесь?.. Но… как же? Арефьевна, поди вон… – он быстро подошел, сам взял у Насти муфту и шаль, помог снять полушубок, передал это все недовольно поджавшей губы кухарке, склонился над рукой Насти. – Глазам своим не верю! Ты – здесь, у меня! Прошу, прошу в комнаты!
Стоя на пороге, Настя осматривала небольшую, хорошо протопленную комнату. Печь в синих и зеленых изразцах, огромный дубовый шкаф, сверху донизу забитый книжными томами в кожаных переплетах, стол с зеленым сукном, заваленный бумагами, утонувшее в чернильнице перо, коробка сигар, гитара на стене. Оконные стекла были затянуты морозом, и блики свечей прыгали на затейливых ледяных узорах. По паркету, задрав хвост трубой, важно ходил кот.
– Васька, брысь! – прогнал его Сбежнев. Поправил подушки на обтянутом потертым бархатом диване, подвел к нему Настю. – Садись, прошу тебя, садись! Что же ты не предупредила, Настенька? Я бы выслал за тобой лошадей, сегодня такой немыслимый мороз… Я распоряжусь насчет чаю. А может быть, ты голодна? Арефьевна! Арефьевна!
– Ничего не надо, Сергей Александрович, – сказала Настя, опускаясь на диван.
Князь отошел от двери. Обеспокоенно взглянул на нее.
– Что-то случилось?
Настя не отвечала. Сбежнев сел рядом, попытался заглянуть ей в лицо. Настя отвернулась.
– Что-то произошло… – упавшим голосом сказал князь. – Я должен был и сам догадаться. Ты здесь, одна… В такой час… Прежде ты никогда не хотела прийти. Яков Васильевич знает?
– Что вы… Нет, конечно.
– Может, послать человека известить его? Он может бог знает что подумать, я не хочу, чтобы…
– Нет, Сергей Александрович, нет! – хрипло сказала, почти выкрикнула Настя. В голосе ее послышалось рыдание.
Сбежнев торопливо опустился на колени, повернул Настю к себе.
– Настенька! Но отчего?.. Что произошло, ангел мой, кто тебя обидел? Почему ты не хочешь мне рассказать? Через неделю венчание, все готово, в Веретенникове нас ждут, шафером согласился быть Никита Строганов… Откуда слезы?
– Простите вы меня, Сергей Александрович, – тихо сказала Настя. Нагнувшись, погладила тершегося о ее юбку кота, поправила складку у пояса. – Простите дуру. Не пойду я за вас.
В маленькой комнате наступила тишина. Стало отчетливо слышно, как потрескивают угли в печи. Кот толкнул было головой упавшую Настину руку, но ласки не дождался и, недовольно муркнув, снова заходил кругами по полу. Из-за двери донесся звон посуды, ворчание Арефьевны. Настя сидела не поднимая глаз. Князь молча, тревожно смотрел на нее.
– Вот, я принесла все. – Настя неловко развязала узелок. Тускло блеснуло золото, камни. – Все подарки ваши, все до единого, все колечки, серьги… Возьмите.
– Настя… – изумленно прошептал Сбежнев, глядя на сверкающую россыпь. – Но… почему? Чем я виноват? Чем я обидел тебя? Слово чести, я решительно ничего не понимаю! Мы виделись три дня назад, все было хорошо, ты была весела, пела… Скажи мне, дружок, голубчик Настя, что случилось? Чем я провинился перед тобой?
– Сергей Александрович, не мучьте меня… – Настя закрыла лицо руками. – Я уже сама ничего не знаю! Знаю только, что дура набитая и ноги вашей не стою! Раньше надо было, а я… Отца слушалась, кобылища!
– Подожди… Но как же… Ты хочешь сказать, что Яков Васильевич… Он принуждал тебя?!
– Да… Нет… Не знаю… Я ведь и сама хотела… – Настя заплакала. – Одному поверьте – я вас не обманывала! Я… я хотела, чтобы и нашим хорошо было… и вы человек добрый, любите меня, знаю… Кто бы другой цыганку замуж взял? Хору деньги нужны, но… Но не могу я теперь, видит бог, не могу! Не надо свадьбы, и денег, и ничего не надо!
– Ты не любишь меня? – резко спросил князь.
Настя молча, отчаянно помотала головой.
Сбежнев встал, подошел к окну. Настя, отняв руки от лица, испуганно следила за ним. Кот вскочил на печь, завозился там, устраиваясь потеплее. За окном пошел снег, и в комнате потемнело.
Сбежнев быстрыми шагами вернулся к дивану. Снова опустился на колени, взял Настю за обе руки.
– Настя… Голубчик. Не сердись, постарайся выслушать меня спокойно. Я старше тебя. Смею думать, опытнее. Я немного знаю эту жизнь и… и, вероятно, понимаю тебя. Ты очень молода, ты боишься замужества, это все – простые девичьи страхи перед венцом. Поверь мне, все будет хорошо. Может быть, ты не хочешь уезжать от цыган? Не хочешь расставаться с отцом, семьей? Но, дружок, мы можем остаться в Москве, я думаю, средств хватит, хотя… нет, что я говорю, конечно, это возможно! Ты даже сможешь петь, как прежде, в хоре, и…
– Не годится это, Сергей Александрович, – Настя попыталась высвободить руки. – Вы – князь, вас вся Москва знает, вы в большие дома вхожи, а жена… в ресторане поет? Вы себе пассаж сделаете…
– Мне это безразлично! – вспыхнул князь. – Настя, поверь, мнение света меня ничуть не волнует. Я хочу лишь, чтобы ты была счастлива. И разумеется, со мной.
– Не с вами, Сергей Александрович, – тихо, твердо сказала Настя. – Не с вами. Я… я уже обещала. Слово дала.
– Дала слово? – медленно переспросил Сбежнев. – Но… когда? Кому?
– Вы его знаете. Цыган, из наших. Смоляков Илья.
– Черт побери… – растерянно выговорил князь. Провел рукой по лицу, нахмурился.
Настя с тревогой следила за ним.
Неожиданно Сбежнев рассмеялся: