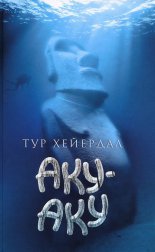Беда по вызову Степнова Ольга
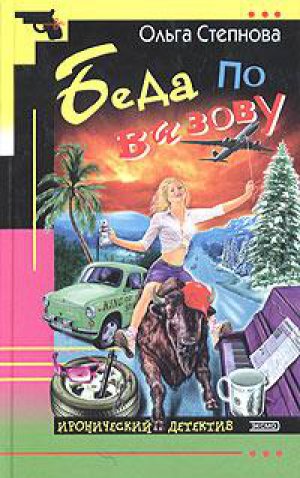
Сюрпризов я не любил.
Дома Ильич засунул водку в холодильник, быстро порезал два соленых огурца и тонко построгал копченую колбасу.
— Ты как хочешь, а я не подшивался, не крестился, и женщинами всегда интересовался.
Он налил себе стопочку и подцепил на вилку огурец.
— А как там мой RAV?
— Работаю, стекла нужны и кое-какие инструменты.
— Вот деньги соберешь со своих и купишь.
— Не хватит.
— Соберешь по тысяче, остальное я добавлю. Слушай, тут такое дело. Знаешь, у нас в школе подвальное помещение с отдельным входом?
Я кивнул. Подвал был большой, с высокими потолками, но сырой, и с облезлыми стенами.
— Нужно как-то облагородить помещение, — сказал Ильич, — Причем, как-нибудь тихо, по ночам, чтобы не светить.
— Отремонтировать?
— Ну да.
— Мне?
— Ну да.
— А деньги?
— Ну да. Соберешь по три тысячи. Или нет. Скажешь, что школа начала новую экспериментальную программу по подготовке учеников к разным экстремальным ситуациям. Обучение всяким единоборствам, приемам самообороны, способам выживания, повышения сомооценки, уверенности в себе и прочей хрени. Ты же, кажется, этим с ними занимаешься? Вот. Скажешь родителям, что это новая программа, пока только в нашей школе. И соберешь по пять тысяч. Они крякнут, но наскребут. Тем более, что все дети взахлеб обсуждают твои уроки, а на переменах только и делают, что отрабатывают приемы.
Я помрачнел.
— Я обещал, что секция каратэ будет бесплатная.
— Бесплатная, Петька, только в тюрьме параша, — его опять заело на тюремной теме. — В других классах тоже пособираем.
— Так, может, бригаду нанять, денег хватит, а то я все не успею.
— Успеешь. Напрягись. Срок на подвал — три недели. И так, чтобы Дора не видела там никакого шевеления.
Значит, три недели — это время, которое Ильич может спокойно раскатывать на переднем сиденье, не пригибаясь, думать о кабаках и продажных девках. А там, все зависит от того, как я расстараюсь. В дверь позвонили, я от неожиданности вздрогнул. Ильич без тени беспокойства, шаркая тапками, пошел открывать. Вернулся он страшно довольный и не один. Его сопровождала совсем не романтического вида девица, в очень коротких меховых шортах. Ее необъятные ляжки были зарешечены колготками в такую крупную сетку, что мне невольно вспомнился «Гришка Зюкин, который сетку рабицу плетет». Так Сазон любовно называл своего соседа, с которым резался в шашки. Девицы было так много, что я посочувствовал малогабаритному Ильичу, который светился от удовольствия. Понятно, куда он долго названивал у киоска. Но это оказалось не все. Вслед за девицей на кухне появился смазливый блондин ростом с меня. Он был сказочно хорош, и я подумал, что это тот, с кем надо расплачиваться за вовремя доставленное женское тело. Но он вдруг улыбнулся и обнял меня.
— Это сюрприз, — сказал Ильич.
Я размахнулся и дал сюрпризу в челюсть. Он ушел от удара, получив по морде вскользь. Многие гомики хорошо дерутся, потому что их часто бьют. Мы стали самозабвенно обмениваться ударами, и нас вдруг посетило вдохновение. Как говорит Татьяна, занятие стало творческим. Я вспомнил наш парк, Борю Бройтмана, и главный тогда для меня вопрос «мальчик ты или девочка».
— Эй, вы мне тут все перебьете! — крикнул Ильич, и мы как по команде замерли. Девица молча отдирала свою сетку рабицу от острого края табуретки, к которой ее оттеснили. На кухне царил разгром.
— Вот жопа. Опять всю водку разбили. Ты чего? — уставился на меня Ильич.
— Сюрприз удался.
— Я на работе! — взвизгнул блондин, держась за молодую, нежную щеку. Я вдруг подумал: ведь он и правда на работе.
— Я компенсирую, — заявил Ильич. — Нет, ты, правда, чего? Сам сказал — в бога веришь, от водки подшился, бабами не интересуешься. Полный набор уркагана. Я тебе от всего сердца — сюрприз!
— Нет, правда, спасибо. — Сказал я, еле шевеля разбитой губой, — Я это дело с детства люблю. Получил удовольствие.
Ильич принес сотню баксов и сунул красавчику.
— Хватит?
Тот кивнул:
— Захотите еще помахаться, звоните. — Он посмотрел на меня с упреком, и красивым баритоном сказал:
— Какой вы грубый и неженственный.
И хлопнул входной дверью. Я тоже оделся и ушел.
За очками Беда опять не пришла. Мне было стыдно себе признаться, но я стал злиться на нее за то, что она не приходит. Она, что думает, я сам к ней поеду и, может, потеряю по дороге штаны? Утром я засунул ключ за косяк и съездил за Ильичом. В школе мы появились вместе. Он с синяком на лбу, я с разбухшей губой. Ученики хихикали. Навстречу нам двигалась Дора Гордеевна.
— Это Петр показывал мне приемы, — почему-то счел нужным объяснить ей свой вид Ильич.
— Какой он… разносторонний! — хмыкнула она. Ильич как-то сжался под ее взором. Вчера на неприятной встрече он выглядел увереннее.
Татьяна издалека мне сухо кивнула и свернула в другом направлении. Я так и не понял, что произошло, и почему ее пирожковые страсти вдруг угасли.
Вечером я провел родительское собрание. Мой десятый «в» добросовестно предупредил родителей и я, шепелявя разбитой губой, пряча от стыда глаза, оповестил пришедших мам о том, что они должны сдать по пять тысяч за то, что их детей будут учить по особой программе. Если бы это были сытые папы, я бы не чувствовал себя так плохо. Но пришли усталые женщины средних лет, не очень хорошо одетые. Особенно удивила меня мать Стариковой, самой разодетой девицы в классе. Она меняла наряды каждый день, а матушка ее сидела в не по сезону легкой, тряпичной куртке с обшарпанными обшлагами.
Мамы восприняли мое сообщение молча. Потом закивали как китайские болванчики. Неожиданно встала мать Славика Боброва, самая холеная и молодая из всех.
— А что, я согласна за это платить. Вы знаете, моего ребенка всегда били. Он скромный, интеллигентный мальчик. И очень плохо видит. Ему всегда разбивают очки. Вчера он пришел домой счастливый и рассказывает: «Мама, я шел по улице, вдруг ко мне трое пацанов подбегают и говорят: „Иди сюда, мы тебе у-шу будем показывать“. Все громадные как слоны. Я тут вспомнил, как меня Дроздов учил. Правую руку вперед вытянул — один упал. Левую вытянул — другой упал. А третий сам быстро-быстро убежал. Мам, я же ничего даже не делал, только сконцентрировался, как Дроздов учил!» — у нее на глазах были чуть ли не слезы умиления. Я отвел глаза.
— И моя дочка тоже довольна! — воскликнула мать Алины. — Она теперь настырных кавалеров очень просто отшивает.
Они опять все закивали.
— А частями можно? — тонко пискнула миниатюрная мать близнецов-Карелиных, которой все взносы всегда приходилось сдавать в двойном размере.
— Можно. — Я ушел с собрания с тяжелым сердцем.
Я сходил в подвал, ужаснулся объему работ, но решил, что справлюсь, если не сильно буду упахиваться с джипом. Вечер опять прошел в одиночестве. Окуляры зло усмехались мне с крышки пианино. Рон, чувствуя мое состояние, тихо валялся в углу, исподлобья рассматривая мою хмурую физиономию. Я покормил его и пошел в подвал крушить штукатурку. Ключ положил за косяк.
Прошла изнуряющая неделя. Днем я без продыха вел уроки, ночью орудовал в подвале, в перерывах делал кузовной ремонт. Спал часа по два. Прокурорская проверка тихо сошла на нет. Как и предрекал Ильич, ни один из родителей не подтвердил факт поборов в этой отдельно взятой школе. Мне же эти родители послушно приносили деньги, а я добросовестно вносил в список имена тех, чьи дети будут обучаться по новой программе, придуманной Ильичом за бутылкой Флагмана. Вскоре у меня накопилась приличная сумма, на которую нужно было купить стройматериалы и запчасти для RAVа. Наличные деньги почему-то больше не будоражили меня, не включали фантазию, и не поддавали адреналина. Я стух, устал и потерялся.
В субботу, когда в дверь заколотили, я спал. Было часов восемь вечера и я решил урвать пару часов сна перед ночной работой. В дверь колотили уже, наверное, давно, потому что я совсем потерял чувство времени. Рон почему-то не лаял, а тихо скулил и махал хвостом. За все время, которое я здесь жил, никто не колотил в мою дверь. За всю мою жизнь никто никогда не пинал ту дверь, за которой находился я. Я подождал немного.
В том, что дверь именно пинали, не было никакого сомнения. Я выждал еще. Удары стали реже, но сильнее. Я полежал еще и понял, что так пытаться проникнуть в помещение может только Беда. Я обрадовался. И распахнул дверь тогда, когда она очередной раз сильно долбанула по ней ногой.
Беда ввалилась в сарай и, пролетев плашмя мои скудные жилые метры, затормозила подбородком у окна. Я почувствовал себя отомщенным. Рон кинулся на нее с радостным лаем и стал лизать стриженый затылок. Она, будто всегда входила в двери только так, невозмутимо встала на четвереньки и, из такого положения спокойно сказала:
— Я забыла у тебя электрошокер.
— Очки.
— Электрошокер.
— Очки.
— Электрошокер.
— Очки.
— Электрошокер. — Она встала. Очков на ней не было и она беспомощно щурилась.
— Очки.
— Электрошокер.
— Да что ты привязалась со своим электрошокером? У меня его нет.
— Есть.
— Нет.
— Есть.
— Нет. Мне этот фаллоимитатор без надобности.
— А мне сгодиться. Он никогда не подводит.
Спокойно, Бизя. А то опять окажешься с голыми яйцами в одних штиблетах.
— Держи свой электрошокер, — и я протянул ей очки. — Убийца педагогов.
— Из тебя такой же педагог, как из меня…
— Писатель, — подсказал я. — Ты что, все это время щурилась?
— Все это время я валялась на диване. Без темы, без работы, и без…
— Электрошокера — опять подсказал я.
— Фаллоимитатора, — поправила она.
— Кстати, твои очочки стоят триста долларов. А пижамка пятьсот.
— С тобой кто-то хорошо поработал. Ты узнал истинную цену вещей. Это точно была баба. И точно не та раскладушка с ватрушками.
— Кто-о?
— Когда я тут у тебя… лежала, приходила такая, с целым блюдом ватрушек.
— Ну и?
— Что?
— Где ватрушки?
— Мы их съели.
— Мы?
— С Рокки. Он учился давать лапу.
— Вот почему у него был понос.
— Понос был от грибов.
— А рас…кладушка?
— Ушла. Я ей не понравилась.
— Ты лежала на ее одеяле. А потом сожрала ее пироги. Вернее, мои. А говорила, что осталась из-за меня без кефира.
Она пожала худыми плечами.
— Без кефира и осталась. Кефир она не принесла. Тащи мою сумку.
— Чего?!
— Моя сумка осталась за дверью.
Я почему-то послушно принес ее замшевый рюкзак, хотя собирался выгнать Беду взашей. Она напялила свои очки и снова стала драной вороной.
— Их жевал Рон, — честно признался я.
— Они из металла, который опять принимает прежнюю форму. Тебя что, не просвятили?
Она достала из рюкзака какую-то бутылку и поставила на мой стол.
— Давай рюмки, Гарик!
— Я не Гарик! — от гнева я аж подавился собственной слюной.
— Да, а кто? Ты не сказал.
— А ты не спросила. Что за манера называть всех как заблагорассудится?
— Обычно я всегда попадаю в точку. Так как?
— Гл… Б… Зови Петя.
— Петя? Петров?
— Дроздов.
— Никакой индивидуальности.
— Зато у тебя хоть отбавляй.
— Да, меня не перепутаешь. Это рюмки? — Она показала на два граненых стакана.
— Не тарелки.
— У тебя есть зеленка?
— Ее разве пьют?
— Хочешь — пей, а я рану на подбородке прижгу.
Я представил Беду с зеленым подбородком и поморщился.
— Прижигай своей водкой.
— Это абсент. Им прижигают душу, а не тело.
— Разве он не запрещен?
— Запрещен. В Европе.
Я повертел в руках бутылку с надписью «King of Spirit». На дне болтался какой-то осадок.
— Значит, мы пьянствуем?
— Я — дегустирую.
Еще одна дегустаторша нашлась. Я отвинтил крышечку, плеснул примерно половину стакана светло-зеленой жидкости и одним глотком выпил.
— Стой! — заорала Беда. Но было поздно. Я стоял посреди своей каморки, парализованный дикой горечью. Горечь — было единственное, что осталось в этом мире. Глаза полезли на лоб, а желудок подтянулся к горлу. Несколько долгих мгновений я старался не выплеснуть абсент ей в лицо прямо из желудка. Сазон называл это действие «опорожниться верхним концом». Победила воля. Я мысленно записал очко в пользу Беды, и она опять оказалась в плюсе.
— Кретин. Ты, что, никогда не пил абсент?
— Пил. Ты же видела. — Мне стало легче и веселее.
— У тебя сахар есть? — она закурила Житан. Я стрельнул у нее сигарету и затянулся крепким, вкусным дымом.
— А на фига нам сахар?
— Дырявой ложки у тебя, конечно, тоже нет.
— Да все у меня есть.
Я положил на стол почти целую пачку рафинада и алюминиевую ложку, с двумя дырками посередине, которую соорудил, чтобы вытаскивать из кастрюли свои холостяцкие пельмени.
— Какое богатство! — удивилась она, плеснула на дно стакана абсент, положила сверху дырявую ложку, в нее сахар, и через сахар начала лить обычную воду, которая стояла на столе в пластиковой бутылке. Сахар постепенно растворился, а пойло в стакане замутилось и стало выглядеть, как обычный самогон. Я рискнул проделать те же действия. Прошло помягче.
— Не кури! — сказала Беда, когда я взял сигарету.
— Почему?
— А… кури, — махнула она худой рукой, — Потом увидишь.
Я затянулся. Жизнь — не самая плохая штука.
— Каждый раз, когда я тебя вижу, ран на тебе все прибавляется, — намекнула она на разбитую губу.
— На тебе тоже, — намекнул я на разбитый подбородок. — А где твоя машина?
— Там что-то прокручивается, не схватывается, в общем, не заводится.
— Бендикс хреначит, — поставил я диагноз. Она внимательно посмотрела на меня и налила себе вторую порцию. Я тоже.
Каморка раздвинула тесные стены и яркие лучи солнца в девять вечера залили мое скромное жилище. По-моему, запел соловей.
— Тебе заплатили за книгу?
— Книгу зарубили, — она вдруг зарыдала. Рыдала она без единой слезинки и с каменным лицом, но я все равно все понял, увидел и почувствовал, как она подвывает и подскуливает там, у себя внутри. Я не стал спрашивать, кто зарубил и почему.
Меня вдруг стало двое. Один правый, другой левый. Правый я был добр и благодушен. Ему стало жаль Беду и захотелось помочь. Левый оказался желчен и скептичен, но тоже отнесся к ней почти с сочувствием.
— А хочешь, — закричал правый я, — я подарю тебе сюжет? Или как это там называется?
— Ты — сюжет?
«Ты в этом ничего не понимаешь», — подсказал левый я правому. Беда опять изобразила свой мутный напиток. Оба меня потянулись к стакану. Ни один из них не был пьян. Пьяным я себя хорошо знал.
— Ну, не хочешь, как хочешь, — обиделись на нее оба сразу и закурили.
— Не кури, — попросила она обоих. Оба не послушались.
— Давай свой сюжет.
— Не дадим, — ответили мы.
— Давай! — заорала она и так стукнула кулаками по столу, что все предметы на нем — стаканы, бутылка, сахар, и даже дырявая ложка — подскочили. — Из-за тебя я отдала свою тему, я болтаюсь без работы и только вычитываю чужие материалы. Книгу зарубили. В издательстве сказали — недоработанный сюжет. Я щурилась всю неделю, а ты даже не мог привезти мне очки!
Тот я, который был левее, хотел ее выгнать, но правый не позволил.
— Слушай, — сказал он, — слушай.
И стал рассказывать историю Бизона и депутата Грача. Он живописал все в красках от третьего лица, а левый скептик хмурился и злился. На правого снизошло вдохновение. Вот, смотри: любовь — сразу, одна, и на всю жизнь — только так и должно быть. А вот интрига — блестящая! А какой друг, какая погоня и вдруг — разоблачение, подстава и безысходность. Что делать герою? Пиши свою книгу, зачитаются.
Беда слушала, кажется, с интересом. И даже закурила.
— Не кури, — сказал ей левый скептик. Правый взял черный Житан. Они оба увидели, что она дерзкая, сильная, и абсолютно непредсказуемая.
— Какая ты классная! — заявили мы оба.
— Эк тебя тыркнуло! — непонятно выразилась она. — Давай, рассказывай дальше. И правый рассказал… как герой сел в другой самолет.
— В общем, он оказался и не герой вовсе, — закончил за него левый.
Она стала ходить по моей каморке, бормотать, потом откинула крышку пианино, и сыграла на раздолбанных клавишах что-то сложное и классическое.
— Так и дурак сможет, — сплагиатничал левый, — что-то не схватывает, не заводит.
— Бендикс хреначит, — повернулась она к нам лицом.
Беда была одна, а меня два, и я не знал, как уладить этот вопрос. Мы подошли к ней одновременно и губами стали изучать ее всю. Она почему-то пахла полынью и была потрясающе горькая на вкус. Горечь — единственное, что осталось в этом мире. И это был вселенский, бесконечный кайф. А если вселенная бесконечна, то жизнь тоже должна быть бесконечна.
Утром я проснулся отдельно от тела. Тело за мной не успевало. Ни думать, ни двигаться. Я рассмотрел над собой бревенчатый потолок, вспомнил, что теперь живу в сарае, но забыл свое второе имя. Меня лизнула в нос собака и я вдруг припомнил, что пса зовут Рокки. Это было не похмелье, это было возрождение — без головной боли и сушняка.
Рядом лежала Беда. Она, похоже, давно не спала, или не спала совсем. Ее длинное голое тело мистически отливало в утреннем свете и я понял: она не драная ворона, она ведьма. И напитки у нее ведьмовские, и очки принимают прежнюю форму, даже если их пожует собака.
— Бизя, — сказала она, — твой сюжет дрянной. Он избит как твои ботинки. Единственное, что в нем интересно, это то, что ты сел в другой самолет. И улетел в другой город. Я займусь этим делом, Бизя.
— Что за манера называть всех как заблагорассудится? Чем ты займешься?
— Твоим делом. Раз у тебя самого не хватает духу им заняться.
— Не хватает духу? — Я подлетел с лежака. Штанов на мне, конечно же, не было. — Не хватает духу? Я рассказал тебе историю, бери ее и проваливай! Только не забывай, что это пьяный бред! — Она встала, натянула джинсы и рубашку. Я испугался, что она уйдет, но она крикнула: «Рокки, гулять!», накинула куртку и вышла.
Кажется, моя жизнь с ней стала регулярной, и она даже займется моим делом, раз у меня не хватает духа заняться им самому. «Король духов». Не хватает духа. Пусть подавится моим «делом». Пусть сломает себе зубы.
Она пришла из морозного утра, и очки ее сразу запотели. Она стала вытирать их полой моей рубашки, которую я только одел. Она вытирала их так, будто мы прожили душа в душу двадцать лет. Я потянул рубашку на себя.
— Скажи, почему мой сюжет дрянной?
Она включила старый электрический чайник, поставила на плитку разогревать собачью кашу, и неудобно села на пианино.
— В нем нет ничего, что отличало бы его от других. Начиная с трупа в багажнике. Ха! Видел ли ты хоть один сюжет без трупа в багажнике? От этого мутит и сводит скулы от скуки. Шикарная девица с имечком из дешевого романа тоже не впечатляет. Двойники-депутаты — бред и фарс, Ширли-Мырли какое-то. Супермишка — друган до гробовой доски — избито и пошло. И только главный герой интересен тем, что за его суперменством скрывается полный идиотизм и рассеяность старой клуши.
— Идиотизм? Рассеяность? Старой клуши?! Я — старая клуша?!! — Я запустил в нее своим драным ботинком. Она увернулась и снаряд оставил грязный след на пианино.
— Ну вот, а говорил, что у меня манера называть всех как заблагорассудится. Я всегда попадаю в точку.
Я кивнул.
— Черт с тобой. Ты одна узнала правду, и мне от этого стало легче.
— Это любовь, — хмыкнула она. Я поискал, чем запульнуть в нее еще. Рон, попривыкнув к нашим отношениям, радостно принес мне обратно не достигший цели ботинок. Я раздумал его бросать и с трудом отыскал второй. Черт знает как трудно отыскать вещи после ночи, проведенной с Бедой.
Мы вполне мирно уселись пить чай. Она порылась в своем рюкзаке и бросила на стол блокнот с ручкой.
— Пиши.
— Добровольное признание в убийстве Грача?
— Адреса и телефоны. Мишки, Сазона, Карины…
— Ты что, офонарела? Откуда у меня телефон Карины?
— Обычно мужики узнают телефон раньше, чем имя.
— Но я-то — старая клуша. Тем и интересен.
— Пиши, герой. Ты свои дела натворил, теперь моя очередь.
Я отшвырнул блокнот и ручку.
— Зачем ты суешь свой нос дальше, чем тебе положено? Тебе зарубили книгу, я предложил сюжет. Пиши, фантазируй, дорабатывай.
— А ты будешь до конца своих дней прятать морду под козырьком, жить в этом сарае, и, напиваясь до беспамятства, представлять, что я — Карина.
Я подлетел со стула, она умела загнать иголки в самое больное место.
— Тебе-то какое до этого дело? — заорал я.
— Да я по уши в этой истории! Разве ты не заметил? — тоже заорала она.
— Ты имеешь в виду постель? — прошипел я.
— Я имею в виду…духовную близость, — закривлялась она.
— Спасибо. Спасибо за прекрасный вечер, за чудную ночь. Я на работу. Ключ сунешь за косяк.
Но она вылетела быстрее, успев схватить рюкзак и на ходу впечататься в куртку. Она хлопнула моей бедной дверью так, что у пианино заныли все струны. Они ныли в унисон с музыкой в моей душе. Это был гимн всем моим неудачам. Последнее слово опять осталось за ней.
— Ведьма! — рявкнул я в пустоту.
Дверь открылась и зашел…Ильич с Роном. Пес, оказывается, выскользнул за Бедой, но решил вернуться.
— Это что за краля? — с любопытством спросил Ильич.