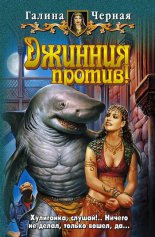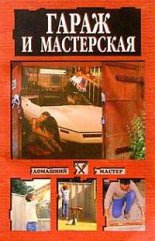История Плавинский Николай
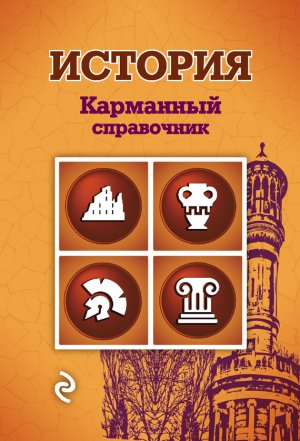
— Куда ехать? — спросил кучер.
Г-жа Д. посмотрела на меня.
Я ответил:
— Не знаю.
— А я знаю, — сказала она.
Женщины всегда знают, где спасение.
Через час я был в безопасности.
Начиная с 4 декабря, каждый из проходивших дней укреплял переворот. Наше поражение было полным, мы чувствовали, что все покинули нас. Париж стал словно лесом, где Луи Бонапарт травил депутатов; хищный зверь гнался за охотниками. Мы слышали позади себя глухой лай Мопа. Нам пришлось рассеяться во все стороны. Преследование было ожесточенным. Мы вступили во вторую стадию исполнения долга — приняли катастрофу и претерпевали ее последствия. Побежденные обратились в гонимых. У каждого была своя судьба. Моим уделом, как и следовало ожидать, раз смерть упустила меня, стало изгнание. Здесь не место говорить об этом; я рассказываю не о себе и не вправе привлекать к своей особе хотя бы крупицу того внимания, которое эта книга может возбудить. К тому же все, что касается лично меня, можно прочесть в книге, ставшей одним из заветов изгнания.[41]
Как бы яростно нас ни преследовали, я считал своим долгом оставаться в Париже, пока еще мерцал хоть слабый луч надежды, пока пробуждение народа еще казалось возможным. Маларме дал мне знать в мое убежище, что во вторник 9 декабря в Бельвиле начнется восстание. Я прождал до 12-го. Ничто не шелохнулось. Народ действительно был мертв. К счастью, смерть народа, как и смерть богов, всегда кратковременна.
Я в последний раз встретился с Жюлем Фавром и Мишелем де Буржем у г-жи Дидье, на улице Виль-Левек. Наше свидание произошло ночью. Бастид тоже был там. Этот мужественный человек сказал мне:
— Вы покидаете Париж, я остаюсь. Сделайте меня своим заместителем. Из вашего изгнания указывайте мне, как действовать. Располагайте мною так, словно я — ваша рука, оставшаяся во Франции.
— Я буду располагать вами так, словно вы — мое сердце, — ответил я.
14 декабря, после приключений, рассказанных в книге моего сына Шарля, мне удалось добраться до Брюсселя.
Побежденные подобны пеплу; дуновения судьбы достаточно, чтобы их развеять. Зловещий мрак поглотил всех, кто сражался за право и закон. Трагическое исчезновение.
XII
Изгнанники
Преступление удалось, и все примкнули к нему. Можно было упорствовать, но не сопротивляться. Положение становилось все более безнадежным. Казалось, на горизонте вырастает огромная стена, которая вот-вот закроет его целиком.
Оставалось одно: уйти в изгнание.
Люди великой души, гордость народа, эмигрировали. Это было мрачное зрелище: Франция, изгнанная из Франции.
Но все, что кажется утраченным для настоящего, идет на пользу будущему: рука, разбрасывающая зерно по ветру, в то же время засевает.
Депутаты левой, окруженные, выслеженные, гонимые, травимые, в течение многих дней скитались от убежища к убежищу; тем, кто уцелел, удалось выехать из Парижа и Франции лишь после долгих мытарств. У Мадье де Монжо были черные как смоль, очень густые брови. Он наполовину сбрил их, коротко остриг волосы и отрастил бороду. Иван, Пеллетье, Жендрие, Дутр сбрили усы и бороду. Версиньи приехал в Брюссель 14 декабря с паспортом на имя некоего Морена. Шельшер переоделся священником. Эта одежда удивительно шла ему; она была под стать его суровому лицу и строгому голосу. Шельшеру помог один достойный священник: он дал ему свою сутану и брыжи, посоветовал снять бакенбарды за несколько дней до отъезда, чтобы свежевыбритые щеки не выдали его, дал ему свой собственный паспорт и расстался с ним только на вокзале.[42]
Де Флотт нарядился ливрейным слугой и в этом виде перебрался через бельгийскую границу у Мускрона. Оттуда он проехал в Гент, потом в Брюссель.
Вечером 25 декабря я вернулся в маленькую нетопленную комнату № 9, которую занимал на третьем этаже гостиницы Порт-Верт. Было около полуночи; я лег в постель и задремал, как вдруг в дверь постучали. Я проснулся и сказал: «Войдите» (ключ я всегда оставлял снаружи). Вошла служанка со свечой, а следом за ней — двое незнакомых мне мужчин. Один из них был гентский адвокат М., другой — де Флотт. Он взял меня за обе руки и долго, нежно пожимал их.
— Как! — воскликнул я. — Это вы?
В Собрании де Флотт всем своим обликом — задумчивыми глазами, высоким лбом мыслителя, коротко остриженными волосами, длинной, слегка курчавившейся бородой напоминал творения кисти Себастьяна дель Пьомбо; казалось, он сошел с картины «Воскрешение Лазаря». Сейчас я видел перед собой худощавого, бледного молодого человека в очках. Но ему не удалось изменить все то, в чем мне тотчас открылся прежний де Флотт: благородное сердце, возвышенность мысли, смелый ум, неукротимую отвагу; если я не узнал его лица, я тотчас узнал его рукопожатие.
Эдгара Кине увезла 10 декабря благородная женщина, валашская княгиня Кантакузен. Она взялась переправить его через границу и сдержала слово. Это было нелегкое дело. Кине снабдили заграничным паспортом на имя некоего Грубеско. Он должен был выдавать себя за валаха и делать вид, что ни слова не понимает по-французски, — он, который мастерски пишет на этом языке. Путешествие было очень тревожным. Начиная с вокзала в Париже, на всем протяжении пути то и дело требовали паспорта. В Амьене к путешественникам особенно придирались, а в Лилле они попали в опаснейшее положение. Жандармы с фонарями в руках ходили по всем вагонам и, внимательно разглядывая пассажиров, проверяли указанные в паспортах приметы. Нескольких человек, возбудивших подозрения, немедленно арестовали и отвели в тюрьму. Эдгар Кине, сидевший рядом с княгиней Кантакузен, ждал, когда дойдет очередь до их вагона. Наконец появились жандармы. Г-жа Кантакузен быстро подалась вперед и тотчас предъявила жандармам свой паспорт. Но жандармский бригадир отстранил ее, сказав: «Не нужно, сударыня. Нас не интересуют паспорта женщин», и тут же грубо спросил у Кине его документы. Кине держал свой паспорт наготове. Жандарм заявил:
— Выйдите из вагона, мы проверим ваши приметы.
Кине вышел. Но, как нарочно, в валашском паспорте не были указаны приметы. Бригадир нахмурился и сказал своим подручным:
— Паспорт не в порядке. Сходите за комиссаром.
Казалось, все пропало. Но тут г-жа Кантакузен обратилась к Кине по-валашски, сыпля непонятными словами так быстро и с таким невероятным апломбом, что сомнения жандарма рассеялись. Он поверил, что перед ним настоящие валахи, и, видя, что поезд сейчас тронется, вернул Кине его паспорт со словами: «Ладно, убирайтесь!» Спустя несколько часов Кине был уже в Бельгии.
Арно (от Арьежа) также испытал немало трудностей: за ним следили, ему пришлось прятаться. Арно был верующий католик, поэтому его жена обратилась к священникам; аббат Дегерри уклонился, аббат Маре согласился помочь; он выказал доброту и мужество. В течение двух недель Арно скрывался в квартире этого достойного священника. Находясь у аббата Маре, он написал архиепископу Парижскому письмо с призывом отказаться от Пантеона, декретом Луи Бонапарта отнятого у Франции и отданного Риму. Это письмо привело архиепископа в ярость. Изгнанный из Франции, Арно уехал в Брюссель; там, прожив на свете полтора года, умерла «маленькая революционерка», 3 декабря доставившая архиепископу письмо рабочего, — ангел, которого бог послал священнослужителю, не узнавшему ангела и отрекшемуся от бога.
В этом поразительном многообразии событий и приключений каждому досталась своя драма. Та, которую пережил Курне, была необычайна и ужасна.
Курне, как мы уже говорили, был прежде морским офицером. Он принадлежал к числу тех чрезвычайно решительных людей, которые подчиняют себе волю окружающих и в дни великих потрясений способны увлечь за собой массы. Его гордая осанка, широкие плечи, сильные руки, мощные кулаки, высокий рост внушали доверие толпе, а проницательный взгляд располагал к нему людей мыслящих. Глядя на него, вы изумлялись его силе; слушая его, вы чувствовали нечто более могущественное, чем физическая сила, — твердую волю. В молодости он служил на наших военных кораблях. Сочетая в себе пылкость человека из народа и спокойствие военного, Курне, полный энергии, нашедший достойных руководителей и достойную цель, стал воодушевляющим примером и в то же время опорой дела, которому отдался; то была натура, созданная для того, чтобы бороться с ураганом и вести толпу. Эти люди понимают народ, потому что они изучили океан, и во время революций, как и во время бури, они — в своей стихии.
Как мы уже говорили, Курне принял деятельное участие в борьбе, был отважен и неутомим. Он был одним из тех, кто мог снова разжечь угасавшее сопротивление. В среду днем нескольким полицейским было приказано отыскать Курне, арестовать его, где бы они его ни нашли, и доставить в полицейскую префектуру, куда уже был послан приказ немедленно расстрелять его.
Тем временем Курне, участвуя в законном сопротивлении, с обычной своей смелостью ходил по всему Парижу, даже по тем кварталам, которые были заняты войсками. Он принял одну только предосторожность: сбрил усы.
В четверг днем Курне стоял на бульваре, в нескольких шагах от кавалерийского полка, построенного в боевом порядке. Он спокойно разговаривал с двумя своими соратниками, Юи и Лореном. Вдруг он заметил, что его и обоих его спутников вплотную окружил полицейский отряд; какой-то человек коснулся его руки и сказал:
— Вы Курне. Я вас арестую.
— Что за вздор! — ответил Курне. — Моя фамилия Лепин.
Человек повторил:
— Вы Курне! Неужели вы меня не узнаете? А я вас сразу узнал; я был вместе с вами членом избирательного комитета социалистов.
Курне взглянул на неизвестного в упор и вспомнил эту физиономию. Шпион говорил правду. Он действительно участвовал в заседаниях на улице Сен-Спир. Шпион рассмеялся и прибавил:
— Мы вместе выбирали Эжена Сю.
Отпираться было бесполезно, а сопротивляться при данных обстоятельствах — невозможно. Как мы уже сказали, Курне и его спутников обступили человек двадцать полицейских, а рядом стоял драгунский полк.
— Я иду с вами, — сказал Курне.
Подозвали фиакр.
— Раз уж я взялся за дело, — заявил шпион, — садитесь-ка все трое.
Он подвел их к фиакру, усадил Юи и Лорена на переднее сиденье, на заднее сел сам с Курне и крикнул кучеру:
— В префектуру!
Полицейские окружили фиакр. Но случайно ли, или по самонадеянности шпиона, или потому, что ему хотелось поскорее получить награду за поимку, — человек, арестовавший Курне, крикнул кучеру: «Скорей! Скорей!» — и фиакр помчался.
Курне знал, что его расстреляют, как только он войдет во двор префектуры. Он твердо решил, что его туда не довезут.
На повороте улицы Сент-Антуан он украдкой обернулся и увидел, что полицейские сильно отстали.
Никто из четверых людей, сидевших в фиакре, еще не проронил ни слова.
Курне бросил товарищам, сидевшим напротив нею, взгляд, означавший: «Нас трое, воспользуемся этим — надо бежать!» В ответ они едва заметно подмигнули ему, косясь на улицу, где было очень людно. Этот взгляд говорил: «Нет».
Спустя несколько минут фиакр с улицы Сент-Антуан свернул на улицу Фурси — там всегда мало прохожих, а сейчас не было никого.
Курне резким движением повернулся к шпиону и спросил его:
— У вас есть ордер на мой арест?
— Нет, но при мне мое удостоверение.
Вынув из кармана документ, выданный полицией, шпион показал его Курне, и тут между этими двумя людьми произошел следующий разговор.
— Это беззаконие!
— Ну и что ж?
— Вы не имели права арестовать меня.
— А все-таки я вас арестую.
— Послушайте, ведь для вас все дело в деньгах. Я вам заплачу, деньги при мне. Дайте мне возможность бежать.
— Если бы вы предложили мне слиток золота величиной с вашу голову, и то я бы не соблазнился. Вы — самая крупная моя добыча, гражданин Курне.
— Куда вы меня везете?
— В полицейскую префектуру.
— Что же, меня там расстреляют?
— Пожалуй, что да.
— И обоих моих товарищей?
— Все может быть.
— Я не хочу ехать в префектуру.
— И все-таки придется.
— А я тебе говорю: не поеду, — крикнул Курне и молниеносным движением схватил шпиона за горло.
Тот и пикнуть не успел; тщетно он отбивался — его стиснула железная рука.
Язык у него высунулся изо рта, глаза, выражавшие ужас, вышли из орбит; вдруг голова его опустилась, на губах выступила кровавая пена; он был мертв.
Недвижные, будто их тоже поразила смерть, Юи и Лорен наблюдали эту страшную сцену.
Они не вымолвили ни слова, не тронулись с места. Фиакр все катился.
— Откройте дверцу, — приказал Курне товарищам.
Они не шелохнулись; оба словно окаменели.
Курне, вдавивший большой палец правой руки в шею негодяя-шпиона, пытался открыть дверцу левой рукой, но это ему не удалось. Сообразив, что без помощи правой руки не обойтись, он разжал пальцы. Мертвец повалился лицом вниз, ему на колени.
Курне открыл дверцу и сказал:
— Выходите!
Юи и Лорен выскочили из фиакра и помчались прочь.
Кучер ничего не заметил.
Курне выждал, пока беглецы скрылись из виду, затем дернул звонок, приказал кучеру остановиться, не торопясь вышел из фиакра, закрыл за собой дверцу, преспокойно вынул из кошелька сорок су, отдал их кучеру, не слезавшему с козел, и сказал: «Поезжайте дальше».
Курне пошел по парижским улицам. На площади Виктуар он встретил своего друга, бывшего члена Учредительного собрания Исидора Бювинье, полтора месяца назад освобожденного из тюрьмы Маделонет, где он отбывал наказание по делу «Солидарите Репюбликен». Бювинье был одним из самых выдающихся членов крайней левой. Светловолосый, наголо остриженный, со строгим взглядом, он напоминал английских «круглоголовых»; в нем было больше сходства с пуританами Кромвеля, чем с монтаньярами Дантона. Курне рассказал ему о том, что произошло, о жестокой крайности, принудившей его действовать.
Бювинье покачал головой и сказал:
— Ты убил человека.
В «Марии Тюдор» я в сходной ситуации вложил в уста Фабиани реплику:
— Нет, еврея.
Курне, по всей вероятности не читавший «Марии Тюдор», ответил:
— Нет, шпиона, — и прибавил: — Я убил шпиона, чтобы спасти трех человек, в том числе — себя.
Курне был прав. Борьба была в самом разгаре, его везли на расстрел, арестовавший его шпион был в сущности наемный убийца, здесь несомненно была налицо законная самозащита. Прибавлю от себя, что негодяй, шпионивший в пользу полиции, а перед народом корчивший из себя демократа, был дважды изменник. И, наконец, шпион был пособником переворота, а Курне боролся за правое дело.
— Тебе нужно скрыться, — решил Бювинье, — поедем в Жювизи.
У Бювинье была небольшая усадьба в Жювизи, селении, расположенном по дороге в Корбейль. Его там знали и любили. Он в тот же вечер отвез туда Курне. Но не успели они дойти до усадьбы, как местные крестьяне сказали Бювинье: «Жандармы уже приходили арестовать вас и опять придут сегодня ночью». Пришлось возвратиться в Париж.
Курне был в такой опасности, как никогда; разыскиваемый, преследуемый, он скитался по Парижу. С величайшим трудом он скрывался там до 16 декабря. Ему никак не удавалось раздобыть паспорт. Наконец приятели, служившие в управлении Северной железной дороги, снабдили его особым удостоверением, в котором значилось:
«Пропустить г-на…, инспектора, следующего по делам службы».
Курне решил уехать на следующий день, утренним поездом, предполагая, вероятно не без основания, что за ночными поездами следят более тщательно.
Поезд отходил в восемь часов утра.
17 декабря, перед рассветом, под покровом густой тьмы, Курне, крадясь из переулка в переулок, пробрался к Северному вокзалу. Высокий рост легко мог выдать его, но он благополучно достиг цели. Кочегары посадили его к себе на тендер паровоза; поезд уже готов был тронуться. Курне поехал в одежде, которую не снимал со 2 декабря, при нем не было ни белья, ни чемодана, но была некоторая сумма денег.
В декабре светает поздно, а смеркается рано; это благоприятствует беглецам.
Поздно вечером Курне без всяких осложнений доехал до границы. В Невэглизе, в Бельгии, он счел себя в безопасности; у него спросили документы; он потребовал, чтобы его отвели к бургомистру, и заявил ему:
— Я — политический эмигрант.
Бургомистр, бельгиец, но тем не менее бонапартист (существует и такая разновидность), просто-напросто приказал жандармам доставить Курне обратно на границу и сдать его с рук на руки французским властям.
Курне решил, что он погиб.
Бельгийские жандармы доставили его в Армантьер. Если бы они привели его к мэру, для Курне все было бы кончено; но они отправились с ним к таможенному инспектору.
Тут Курне начал надеяться.
Он с гордым видом подошел к инспектору и взял его за руку.
Бельгийские жандармы все еще не отставали от него ни на шаг.
— Черт возьми, сударь, — сказал Курне таможеннику, — вы таможенный инспектор, я — железнодорожный. Какого дьявола мы, два инспектора, будем делать неприятности друг другу! Эти простачки-бельгийцы всполошились, уж не знаю почему, и отправили меня к вам с жандармами. Меня послало сюда правление Северной железной дороги с поручением осмотреть в этой местности один мост, устойчивость которого вызывает сомнения. Я прошу вас пропустить меня. Вот мое удостоверение.
Он протянул его таможенному инспектору. Тот прочитал бумагу, нашел ее в полной исправности и обратился к Курне со словами:
— Господин инспектор, вы свободны.
Курне, избавленный французскими властями от бельгийских жандармов, помчался на станцию железной дороги. Там у него были друзья.
— Скорей, — сказал он им, — сейчас ночь, но все равно, это даже лучше. Найдите мне какого-нибудь бывшего контрабандиста, чтобы перевести меня через границу.
Ему привели юношу лет восемнадцати, белокурого, румяного, свеженького валлонца, говорившего по-французски.
— Как вас зовут? — спросил Курне.
— Анри.
— Вы похожи на девушку.
— Но я мужчина.
— Вы беретесь провести меня?
— Да.
— Вы были контрабандистом?
— Я и сейчас контрабандист.
— Вы знаете дороги?
— Нет. На что мне дороги?
— Что же вы знаете?
— Я знаю лазейки.
— По пути — два таможенных кордона.
— Это мне известно.
— Вы проведете меня сквозь них?
— Разумеется.
— Разве вы не боитесь таможенной стражи?
— Я боюсь собак.
— В таком случае, — сказал Курне, — мы возьмем с собой палки.
Действительно, они вооружились толстыми дубинками. Курне дал Анри пятьдесят франков и обещал уплатить еще столько же, когда они минуют второй кордон.
— Значит, это будет в четыре часа утра, — сказал Анри.
Было около полуночи.
Они двинулись в путь.
То, что Анри называл «лазейками», всякий другой назвал бы препятствиями. Крутые откосы сменялись оврагами. Недавно шел дождь, и во всех впадинах стояла вода.
По этому запутанному лабиринту змеилась почти непроходимая тропа, местами заросшая колючим вереском, местами топкая, как болото.
Ночь была темная. Порою во мраке откуда-то доносился собачий лай. Тогда контрабандист начинал кружить, долго ходил зигзагами, круто сворачивал вправо и влево, иногда возвращался назад.
Перелезая через изгороди, перепрыгивая через канавы, поминутно спотыкаясь, увязая в трясине, цепляясь за колючий кустарник, Курне, с окровавленными руками, в изодранной одежде, голодный, весь в ссадинах, измученный, обессиленный, едва живой, — весело следовал за своим проводником.
На каждом шагу он, оступаясь, падал в какую-нибудь яму и вылезал оттуда весь облепленный грязью. Наконец он свалился в колдобину глубиной в несколько футов, и вода смыла с него грязь.
— Вот и отлично! — воскликнул он. — Теперь я чистенький, но как мне холодно!
В четыре часа утра, как обещал Анри, они, благополучно миновав оба кордона, пришли в бельгийскую деревушку Мессин. Теперь Курне уже ничего не приходилось бояться — ни таможенников, ни переворота, ни людей, ни собак.
Он отдал Анри вторые пятьдесят франков и пешком отправился дальше, почти наугад.
Уже стемнело, когда Курне добрался до станции железной дороги. Он сел в поезд и поздно вечером вышел из вагона в Брюсселе, на Южном вокзале.
Выехав из Парижа накануне утром, Курне за все это время не спал и часу, всю ночь был на ногах и ничего не ел. Обшарив свой карман, он не нашел там бумажника, но нащупал корку хлеба. Он больше обрадовался этой находке, чем огорчился из-за потери бумажника. Деньги были зашиты в поясе Курне, а в бумажнике, по всей вероятности упавшем в колдобину, хранились письма, среди лих очень важное для Курне рекомендательное письмо, которое его друг Эрнест Кеклен дал ему к депутатам Гильго и Карлосу Форелю, бежавшим в Брюссель и поселившимся в Брабантской гостинице.
Выйдя из вокзала, Курне бросился в первую попавшуюся наемную карету и крикнул кучеру:
— В Брабантскую гостиницу!
Он тотчас услышал, как чей-то голос повторил: «В Брабантскую гостиницу», и, высунувшись в окошко, увидел человека, при свете фонаря карандашом заносившего что-то в записную книжку.
Вероятно, это был сыщик.
У Курне не было ни паспорта, ни рекомендательных писем, ни документов; он побоялся, как бы его ночью не арестовали, а ему так хотелось выспаться! «Только бы хорошую постель на эту ночь, — подумал он, — а завтра хоть потоп!» Доехав до Брабантской гостиницы, он расплатился с кучером, но не вошел в подъезд. Впрочем, он напрасно стал бы разыскивать там депутатов Фореля и Гильго. Оба они жили в этой гостинице под вымышленными именами.
Курне стал бродить по улицам. Было одиннадцать часов вечера, его давно уже одолевала усталость.
Наконец он увидел ярко горевший фонарь и на его стеклах надпись: «Гостиница Ла-Монне».
Он вошел в прихожую. Хозяин как-то странно посмотрел на него.
Тогда Курне догадался взглянуть на себя в зеркало.
Небритый, всклокоченный, с израненными руками, в испачканной грязью фуражке, в разодранной одежде — он был страшен.
Вынув из пояса двойной луидор, Курне положил его на стол и сказал хозяину:
— Сударь, я расскажу вам всю правду: я не бандит, я изгнанник; вместо паспорта у меня деньги. Я сейчас из Парижа. Я хотел бы прежде всего поесть, а потом выспаться.
Хозяин взял монету и, расчувствовавшись, велел отвести ему комнату и подать ужин.
На другое утро, когда Курне еще спал, хозяин гостиницы вошел к нему в комнату, осторожно разбудил его и сказал:
— Послушайте, сударь, будь я на вашем месте, я пошел бы к барону Оди.
— А что такое барон Оди? — спросил Курне спросонья.
Хозяин объяснил ему, что такое барон Оди. Что касается меня, то, задав тот же вопрос трем жителям Брюсселя, я получил три разных ответа, которые я привожу здесь:
— Это собака.
— Это лиса.
— Это гиена.
Вероятно, в этих трех ответах есть доля преувеличения.
Четвертый бельгиец ограничился тем, что, не определяя породы, сказал мне:
— Это дурак.[43]
Если говорить о занимаемой им должности — барон Оди был «начальник общественной безопасности», как этот пост называется в Брюсселе, иначе говоря, вроде как «префект полиции», помесь Карлье с Мопа.
Стараниями барона Оди, впоследствии оставившего эту службу и, к слову сказать, бывшего, подобно де Монталамберу, «простым иезуитом», бельгийская полиция в то время соединяла в себе черты русской и австрийской полиции. Я имел случай читать весьма странные конфиденциальные письма этого барона Оди. И по действиям и по стилю нет ничего циничнее и омерзительнее иезуитской полиции, когда она приподымает покров над своими сокровенными тайнами. Это производит впечатление расстегнутой сутаны.
В то время, о котором идет речь (декабрь 1851 года), клерикальная партия поддерживала все виды монархической власти; барон Оди простирал свое покровительство и на орлеанистов и на легитимистов. Я излагаю факты — и только.
— Так и быть, пойдем к барону Оди, — сказал Курне.
Он встал, оделся, почистился, как мог, и спросил хозяина:
— Где помещается полиция?
— В министерстве юстиции.
Действительно, в Брюсселе так заведено: полицейское управление входит в состав министерства юстиции; это не очень возвышает полицию и несколько принижает юстицию.
По просьбе Курне его провели к этому важному лицу. Барон Оди соизволил весьма сухо спросить его:
— Кто вы такой?
— Эмигрант, — ответил Курне. — Я один из тех, кого переворот заставил бежать из Парижа.
— Ваше звание?
— Морской офицер в отставке.
— Морской офицер в отставке? — повторил барон Оди заметно смягчившимся тоном. — Знали ли вы его королевское высочество принца Жуанвильского?
— Я служил под его начальством.
Это была чистейшая правда: Курне служил под начальством принца Жуанвильского и гордился этим.
После такого ответа управитель бельгийской общественной безопасности просиял и с самой любезной улыбкой, на какую только способна полиция, сказал Курне:
— Очень приятно, сударь; оставайтесь здесь, сколько вам угодно; мы не пускаем в Бельгию монтаньяров, но таким людям, как вы, мы настежь открываем двери.
Когда Курне рассказал мне об этом ответе Оди, я подумал, что прав был четвертый бельгиец.
Иногда к этим трагедиям примешивался какой-то зловещий комизм. В числе изгнанных депутатов был Бартелеми Террье. Ему выдали паспорт для него и его жены с указанием маршрута, по которому они должны были следовать в Бельгию. Получив этот паспорт, Террье уехал из Парижа в сопровождении женщины. Эта женщина была мужчиной. Преверо, владелец поместья в окрестностях Донжона, видное лицо департамента Алье, был шурином Террье. Когда в Донжон пришло известие о перевороте, Преверо взялся за оружие и выполнил свой долг; во имя закона он восстал против преступления. Поэтому его приговорили к смертной казни. Таково было тогда правосудие. Эти решения правосудия приводились в исполнение. Быть порядочным человеком считалось преступлением, за которое гильотинировали Шарле, гильотинировали Кюизинье, гильотинировали Сираса. Гильотина была орудием власти. Убийство посредством гильотины было в то время одним из способов установления порядка. Нужно было спасти Преверо. Он был маленького роста, худощав. Его переодели женщиной. Он был не так уж красив; пришлось закрыть ему лицо густой вуалью. Руки Преверо, мужественные, огрубелые руки бойца, засунули в муфту, фигуре путем некоторых ухищрений придали приятную округлость — в таком наряде Преверо стал очаровательной женщиной, госпожой Террье. Шурин отправился с ним на вокзал. Париж они пересекли спокойно и без приключений, если не считать одного неосторожного поступка Преверо: увидев, что лошадь, впряженная в тяжелый воз, упала на мостовую, Преверо бросил муфту, откинул вуаль, подобрал юбку, и, если бы насмерть перепуганный Террье не удержал его, принялся бы помогать возчику поднять лошадь. Окажись поблизости полицейский, Преверо тотчас схватили бы. Террье поспешил усадить своего спутника в вагон, и поздно вечером они выехали в Брюссель. Они сидели вдвоем в купе, друг против друга, каждый в своем уголке. До Амьена все шло гладко. В Амьене поезд остановился; дверца купе открылась, вошел жандарм и сел рядом с Преверо. Жандарм спросил паспорт. Террье предъявил его. Изящная женщина под вуалью молча, неподвижно сидела в уголке. Жандарм нашел, что все в порядке, и, возвратив паспорт, коротко сказал: «Мы поедем вместе, я сопровождаю поезд до границы».
Простояв положенное время, поезд тронулся. Ночь была темная. Террье заснул. Вдруг Преверо почувствовал, как чье-то колено прижалось к его колену. То было колено блюстителя порядка. Чей-то сапог слегка коснулся его ноги — то был сапог стража закона. В душе жандарма зародилась идиллия. Сначала он нежно прижался к колену Преверо, но вскоре темнота и крепкий сон супруга придали ему смелости, и он коснулся рукой платья прекрасной незнакомки — случай, предусмотренный Мольером; но дама под вуалью была добродетельна. Преверо, изумленный, взбешенный, осторожно отвел руку жандарма. Опасность была неописуема. Стоило жандарму распалиться, стать более дерзким — и дело приняло бы неожиданный оборот; эклога мгновенно превратилась бы в полицейский протокол, фавн снова стал бы сбиром, Тирсит — Видоком, и произошло бы нечто весьма странное: пассажира гильотинировали бы за то, что жандарм покушался на честь женщины. Преверо отодвинулся, еще глубже забился в утолок, подобрал складки платья, поджал ноги под сиденье — словом, продолжал решительно защищать свою добродетель. Однако жандарм не прекращал своих посягательств, и опасность увеличивалась с каждой минутой. Шла борьба — безмолвная, но ожесточенная; жандарм пытался ласкать Преверо, тот яростно отбивался. Сопротивление разжигало жандарма. Террье все спал. Вдруг поезд остановился, кто-то крикнул: «Кьеврен!», и дверца купе отворилась. Приехали в Бельгию. Жандарм должен был выйти и вернуться во Францию; он встал и уже спускался с подножки на платформу, как вдруг из-под кружевной вуали раздались выразительные слова: «Убирайся, или я тебе разобью морду!»
XIII
Военные комиссии и смешанные комиссии
Что-то странное случилось с правосудием.
Это древнее слово приняло новый смысл.
Кодекс перестал быть надежным руководством. Закон превратился в нечто, присягнувшее преступлению. Судьи, назначенные Луи Бонапартом, обращались с людьми словно разбойники, хозяйничающие в лесу. Как густой лес благоприятствует преступлению своим мраком, так закон благоприятствовал ему своей туманностью. В тех статьях, где туманности не хватало, ее изрядно подбавили, она сгустилась до черноты. Как это сделали? Силой! Совсем просто. В порядке декрета. Sic jubeo. [44] Декрет от 17 февраля — верх совершенства. Этот декрет обрекал на изгнание не только человека, но и самое его имя. Домициан, и тот не придумал бы лучше. Совесть человеческая стала в тупик. Право, справедливость, разум почувствовали, что повелитель приобрел над ними ту власть, какую вор приобретает над краденым кошельком. Не возражать! Повиноваться! Это время не имеет равного себе по низости.
Любое беззаконие стало возможным. Законодательные органы принялись за работу и так затемнили законодательство, что в этой тьме легко можно было совершить любое черное дело.
Удавшийся переворот не стесняется. Такого рода успех позволяет себе все.
Фактов — великое множество. Но мы должны сократить изложение. Приведем только самое характерное.