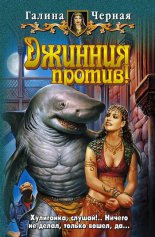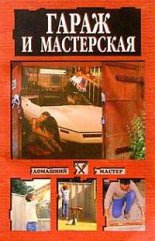История Плавинский Николай
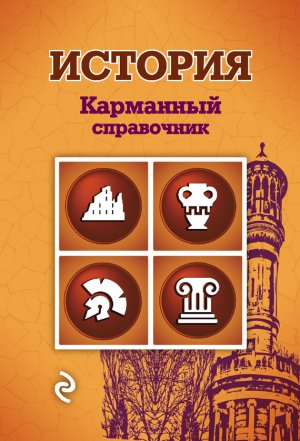
Я ждал рассвета. Он наступил. По моей просьбе де Лар… еще вечером объяснил мне, как выйти, никого не беспокоя. Я поцеловал ребенка в лобик и вышел из гостиной. Я спустился, как можно тише закрыв за собой дверь, чтобы не разбудить г-жу де Лар… Калитка отворилась, и я очутился на улице. Там никого не было. Лавки еще не открывались; молочница спокойно расставляла на тротуаре свои кувшины, возле нее стоял ослик.
Я больше не встречался с де Лар… Впоследствии, в изгнании, я узнал, что он написал мне письмо, которое было перехвачено. Он, кажется, уехал из Франции. Пусть эти взволнованные страницы напомнят ему обо мне.
Улица Комартен выходит на улицу Сен-Лазар. Я пошел в эту сторону. Было уже совсем светло; ежеминутно меня нагоняли и перегоняли фиакры с чемоданами и узлами, направлявшиеся к Гаврскому вокзалу. Кое-где показывались прохожие. Рядом со мной по улице Сен-Лазар двигалось несколько военных фургонов. Напротив дома № 62, где жила м-ль Марс, я увидел на стене только что наклеенный плакат. Подойдя, я узнал шрифт Национальной типографии и прочел:
СОСТАВ НОВОГО МИНИСТЕРСТВА
Министр внутренних дел — де Морни.
Военный министр — дивизионный генерал де Сент-Арно.
Министр иностранных дел — де Тюрго.
Министр юстиции — Руэр.
Министр финансов — Фульд.
Министр флота — Дюко.
Министр общественных работ — Мань.
Министр народного образования — А. Фортуль.
Министр торговли — Лефевр-Дюрюфле.
Я сорвал плакат и бросил его в сточную канаву; солдаты обоза, сопровождавшие фургоны, безучастно посмотрели на меня и проехали своей дорогой.
На улице Сен-Жорж возле какой-то двери я увидел еще одно объявление. Это было «Воззвание к народу». Несколько человек читали его. Я сорвал и этот плакат, несмотря на сопротивление привратника, которому, по-видимому, было поручено его охранять.
Когда я вышел на площадь Бреда, там уже стояло несколько фиакров. Я нанял один из них.
Я находился совсем близко от своего дома. Искушение было слишком велико, я решил зайти. Когда я шел по двору, швейцар удивленно уставился на меня. Я позвонил. Дверь отворил мой слуга Исидор, он громко воскликнул: «Ах, это вы, сударь! Сегодня ночью за вами приходила полиция». Я вошел в спальню жены, она лежала в постели, но не спала и рассказала мне, что произошло.
Накануне она легла в одиннадцать часов. Около половины первого, сквозь дрему, похожую на бессонницу, она услышала мужские голоса. Ей показалось, что Исидор с кем-то разговаривает в передней. Сначала она не обратила на это внимания и попыталась снова уснуть, но голоса не умолкали. Она приподнялась на постели и позвонила.
Явился Исидор. Она спросила его:
— Кто-нибудь пришел?
— Да, сударыня.
— Кто же?
— Он говорит, что ему нужно повидать господина Виктора Гюго.
— Его нет дома.
— Я так и сказал ему, сударыня.
— Ну и что же? Этот человек не уходит?
— Нет, сударыня. Он говорит, что ему непременно нужно видеть господина Виктора Гюго и что он будет ждать.
Исидор стоял на пороге спальни. Вдруг позади него в дверях появился толстый румяный человек; из-под его пальто виднелся черный сюртук. Человек слушал, не говоря ни слова.
Г-жа Гюго заметила его.
— Это вы, сударь, хотите видеть господина Виктора Гюго?
— Да, сударыня.
— Его нет дома.
— Я буду иметь честь подождать, сударыня.
— Он сегодня не придет.
— Мне обязательно нужно видеть его.
— Сударь, если вам нужно сказать ему что-нибудь важное, вы вполне можете довериться мне, я все передам ему в точности.
— Нет, сударыня, мне необходимо говорить с ним лично.
— Но в чем же дело? Это касается политики?
Человек промолчал.
— А кстати, — продолжала моя жена, — что происходит?
— Я полагаю, сударыня, что все уже кончено.
— Что вы имеете в виду?
— То, что президент одержал верх.
Жена пристально посмотрела на этого человека и сказала:
— Сударь, вы пришли арестовать моего мужа.
— Верно, сударыня, — ответил незнакомец и, распахнув пальто, показал свой пояс полицейского комиссара.
Помолчав, он добавил:
— Я полицейский комиссар, у меня ордер на арест господина Виктора Гюго. Я должен произвести обыск и осмотреть весь дом.
— Как ваша фамилия, сударь? — спросила г-жа Гюго.
— Моя фамилия Ивер.
— Вы знаете конституцию?
— Конечно, сударыня.
— Вы знаете, что депутаты народа неприкосновенны?
— Да, сударыня.
— Прекрасно, сударь, — холодно сказала она. — Вы знаете, что совершаете преступление. За это вам придется расплачиваться в будущем. Ну что ж, делайте свое дело.
Ивер что-то забормотал, пытаясь объясниться или, вернее, оправдаться; он выговорил слово «совесть»; запинаясь, произнес слово «честь». Г-жа Гюго, все время державшая себя спокойно, здесь не выдержала и довольно резко перебила его:
— Делайте свое дело, сударь, и не рассуждайте; вы знаете, что каждый чиновник, поднимающий руку на представителя народа, совершает государственное преступление. Вы знаете, что для депутатов президент — только чиновник, как и всякий другой, что он первый обязан исполнять их приказания. Вы посмели явиться в дом к народному депутату и хотите арестовать его, как преступника! Уж если есть здесь преступник, которого следовало бы арестовать, так это вы.
Ивер, опустив голову, вышел из комнаты, и через полуоткрытую дверь моя жена видела, как за этим упитанным, хорошо одетым плешивым комиссаром шмыгнули гуськом семь или восемь тощих субъектов, в грязных долгополых сюртуках до пят и засаленных старых шляпах, надвинутых на глаза, — волки, которых вел за собою пес. Они обыскали квартиру, заглянули в шкафы и ушли — с понурым видом, как сказал мне Исидор.
Ниже всех опустил голову комиссар Ивер. Впрочем, был момент, когда он ее поднял. Исидор, возмущенный тем, как эти люди ищут его хозяина по всем углам, рискнул посмеяться над ними. Он выдвинул какой-то ящик и сказал: «Посмотрите, нет ли его здесь?» Полицейский комиссар злобно сверкнул на него глазами и крикнул: «Берегись, лакей!» Лакеем был он сам.
Когда эти люди ушли, обнаружилось, что не хватает многих моих бумаг. Были похищены кое-какие рукописи, между прочим одно стихотворение, написанное в июле 1848 года и направленное против военной диктатуры Кавеньяка; там были стихи, протестовавшие против цензуры, военно-полевых судов, запрещения газет и, главное, против ареста выдающегося журналиста Эмиля де Жирардена:
- …О, стыд! Вот солдафон:
- Неловкий комедьянт, он в Цезаря играет,
- Из глубины казарм страною управляет.[8]
Рукописи эти пропали.
Полиция могла вернуться с минуты на минуту, — она и в самом деле явилась вскоре после моего ухода, — я обнял жену, не стал будить только что уснувшую дочь и вышел. Во дворе меня поджидали испуганные соседи; я крикнул им смеясь: «Пока еще не поймали!»
Четверть часа спустя я был на улице Мулен, в доме № 10. Еще не было восьми часов утра; полагая, что мои товарищи по Комитету восстания ночевали там, я решил зайти за ними, чтобы всем вместе отправиться в зал Руазен.
На улице Мулен я застал только г-жу Ландрен. Предполагая, что полиция осведомлена и за домом наблюдают, мои товарищи перешли на улицу Вильдо, в дом № 7, к бывшему члену Учредительного собрания Леблону, юрисконсульту рабочих ассоциаций. Жюль Фавр там и ночевал. Г-жа Ландрен завтракала, она и меня пригласила к столу, но нельзя было терять времени: я взял с собой кусок хлеба и ушел.
На улице Вильдо в доме № 7 открывшая мне дверь служанка провела меня в кабинет, где сидели Карно, Мишель де Бурж, Жюль Фавр и хозяин дома, наш бывший коллега, член Учредительного собрания Леблон.
— Внизу меня ждет фиакр, — сказал я им, — встреча назначена на девять часов в зале Руазен, в Сент-Антуанском предместье. Едем.
Но они держались другого мнения. Им казалось, что после вчерашних попыток в Сент-Антуанском предместье все выяснилось и больше там делать нечего; настаивать бесполезно; очевидно, рабочие кварталы не поднимутся; нужно обратиться к торговым кварталам, отказаться от мысли поднять окраины города и начать агитацию в центре. Мы — Комитет сопротивления, душа восстания; идти в Сент-Антуанское предместье, занятое крупными военными частями, значит отдаться в руки Луи Бонапарту. Они напомнили мне то, что я сам говорил накануне по этому поводу на улице Бланш. По их мнению, следовало немедленно организовать восстание против переворота, и организовать его в тех кварталах, где это было возможно, то есть в лабиринте старых улиц Сен-Дени и Сен-Мартен; они считали необходимым составить прокламацию, подготовить декреты, каким-либо способом обеспечить гласность; ожидались важные сообщения от рабочих ассоциаций и тайных обществ. Решительный удар, который я намеревался нанести нашим торжественным собранием в зале Руазен, по их мнению, был обречен на неудачу, они считали своим долгом оставаться там, где были, они и меня просили не уходить, так как членов комитета было немного, а работа предстояла огромная.
Люди, говорившие это, были благородны и мужественны; очевидно, они были правы, но я не мог не явиться на встречу, которую сам назначил. Все приведенные ими доводы были основательны; конечно, я мог бы противопоставить им некоторые сомнения, но спор затянулся бы, а время шло. Я не стал возражать и под каким-то предлогом вышел из комнаты. Шляпа моя была в передней. Фиакр ждал меня, и я отправился в Сент-Антуанское предместье.
В центре Парижа все, казалось, имело обычный вид. По улицам ходили люди, покупали и продавали, болтали и смеялись, как бывало всегда. На улице Монторгейль я услышал звуки шарманки. Но, подъезжая к Сент-Антуанскому предместью, я обратил внимание на то, что ощущалось и вчера, а теперь стало еще заметнее: улицы становились все пустыннее, и вокруг царило какое-то мрачное спокойствие.
Мы прибыли на площадь Бастилии.
Кучер остановил лошадей.
— Поезжайте, — сказал я ему.
II
От Бастилии до улицы Кот
На площади Бастилии было пустынно и вместе с тем многолюдно. Три полка в боевом порядке и ни одного прохожего.
У подножия колонны выстроились четыре запряженные батареи. Там и сям группами стояли офицеры и разговаривали вполголоса с зловещим видом.
Одна из этих групп, самая заметная, привлекла мое внимание. Здесь все молчали, разговоров не было. Все были верхом: впереди — генерал в мундире и шляпе с галунами и черными перьями, за ним — два полковника, а за полковниками — адъютанты и штабные офицеры. Этот отряд в расшитых золотом мундирах стоял неподвижно, словно настороже, между колонной и въездом в предместье. На некотором расстоянии от этой группы, занимая всю площадь, стояли полки и пушки, построенные в боевом порядке.
Мой фиакр снова остановился.
— Поедем дальше, — сказал я кучеру, — въезжайте в предместье.
— Да нас не пропустят, сударь.
— Увидим.
Нас никто не задержал. Фиакр снова тронулся, кучер робел и ехал шажком. Карета на площади вызвала удивление, из домов начали выходить люди. Кое-кто подошел к фиакру.
Мы проехали мимо группы офицеров с густыми эполетами. Эти люди сделали вид, что не замечают нас, — их тактику я понял только впоследствии.
Меня охватило то же волнение, как накануне, когда я очутился лицом к лицу с кирасирами. Видеть прямо перед собой, в нескольких шагах, убийц отечества, спокойных, торжествующих в своей наглости, — было выше моих сил; я не мог сдержаться. Я сорвал с себя перевязь, крепко сжал ее в руке и, высунувшись в опущенное окно фиакра, размахивая ею, закричал:
— Солдаты, посмотрите на эту перевязь — это символ закона, это эмблема Национального собрания. Там, где эта перевязь, там право. Так вот что повелевает вам право: вас обманывают, вернитесь к исполнению своего долга! С вами говорит представитель народа, а тот, кто представляет народ, представляет и армию. Солдаты, прежде, чем стать солдатами, вы были крестьянами, вы были рабочими, вы были и остались гражданами. Граждане, я обращаюсь к вам, я говорю: только закон может вам повелевать. Но сегодня закон нарушен. Кем? Вами. Луи Бонапарт вовлекает вас в преступление. Солдаты, вы — воплощение чести! Слушайте меня, потому что я — воплощение долга. Солдаты, Луи Бонапарт убивает республику. Защищайте ее. Луи Бонапарт — разбойник, все его сообщники пойдут вместе с ним на каторгу. Они и сейчас уже там. Кто достоин каторги, тот тем самым становится каторжником. Заслужить кандалы — значит носить их. Посмотрите на этого человека, который командует вами и осмеливается приказывать вам. Вы принимаете его за генерала, а это — каторжник.
Солдаты словно окаменели.
Кто-то из стоявших рядом (приношу благодарность этому великодушному человеку), подойдя ко мне, схватил меня за руку и шепнул: «Вы добьетесь того, что вас расстреляют».
Но я не слышал и не хотел ничего слушать.
Я продолжал, по-прежнему потрясая перевязью:
— Эй вы, там, в генеральском мундире! Я с вами говорю, сударь. Вы знаете, кто я: я депутат народа, и я знаю, кто вы, я уже сказал вам это: вы преступник. Теперь хотите знать мое имя? Вот оно.
И я крикнул ему свое имя.
Затем я прибавил:
— А теперь назовите мне свое.
Он не ответил.
Я продолжал:
— Ладно, мне не нужно знать вашего имени, пока вы еще генерал: я узнаю ваш номер, когда вы станете каторжником.
Человек в генеральском мундире опустил голову. Свита его молчала. Они не смотрели на меня, но я угадал выражение их глаз, я знал, что в них сверкает бешенство. Я почувствовал безграничное презрение и поехал дальше.
Как звали этого генерала? Я не знал этого и не знаю до сих пор.
Какая-то книжка, прославляющая переворот и опубликованная в Англии, рассказывая об этом происшествии, называет мое поведение «бессмысленной и преступной провокацией» и утверждает, что «сдержанность, проявленная военным командованием, делает честь генералу»… Оставим на совести этого панегириста фамилию генерала и вознесенную ему хвалу.
Я поехал по улице Фобур-Сент-Антуан.
Кучер, который знал теперь, кто я, уже не колебался и погнал лошадей. Парижские кучера народ сметливый и храбрый.
Когда я проезжал мимо первых лавок главной улицы, на колокольне церкви св. Павла пробило девять часов.
«Отлично, — думал я, — я поспею вовремя».
Предместье имело необычный вид. Въезд охранялся двумя ротами пехоты, но не был закрыт. Подальше, на равных расстояниях, были построены еще две роты; они занимали улицу, оставляя свободным проход. Двери лавок в начале предместья были широко открыты, а дальше, шагов через сто, — только чуть-чуть приотворены. Жители, среди которых я заметил много блузников, разговаривали, стоя в дверях и глядя на улицу. На каждом шагу попадались нетронутые объявления о перевороте.
За фонтаном, на углу улицы Шаронны, лавки были закрыты. По обеим сторонам мостовой вдоль тротуаров растянулись два кордона: солдаты стояли цепью на расстоянии пяти шагов друг от друга, в молчании, настороже, подняв ружье к плечу, слегка откинувшись назад, положив палец на курок, готовые открыть огонь. Начиная отсюда, на углу каждого переулка, выходящего на главную улицу предместья, стояла пушка. Иногда ее заменяла гаубица. Чтобы ясно представить себе расположение войск, вообразите два ряда цепочек, растянутые по обеим сторонам Сент-Антуанского предместья: солдаты были звеньями цепочек, а пушки — местами их соединения.
Между тем мой кучер беспокоился. Он повернулся ко мне и сказал:
— Сударь, сдается мне, что мы здесь наткнемся на баррикады. Не вернуться ли?
— Поезжайте дальше, — сказал я.
Он продолжал путь.
Внезапно нам загородила дорогу рота пехоты, выстроенная в три шеренги и занимавшая всю улицу от одного тротуара до другого. Направо был переулок. Я сказал кучеру:
— Сверните сюда.
Он повернул направо, потом налево. Мы попали в лабиринт пересекающихся улиц.
Вдруг я услышал выстрел.
Кучер спросил:
— Сударь, в какую сторону ехать?
— Туда, где стреляют.
Мы ехали по узкой уличке; налево над какой-то дверью я увидел надпись: «Большая прачечная», направо была четырехугольная площадь и посередине какое-то строение — вероятно, рынок. На площади и на улице не было ни души; я спросил у кучера:
— Какая это улица?
— Улица Кот.
— Где здесь кафе Руазен?
— Прямо перед нами.
— Поезжайте туда.
Лошади тронулись все так же, шагом. Опять раздался выстрел, на этот раз совсем близко; конец улицы заволокло дымом; в этот момент мы проезжали мимо дома № 22, над дверью которого я прочел надпись: «Малая прачечная».
Вдруг кто-то крикнул кучеру:
— Стой!
Кучер остановил лошадь, и поверх опущенного стекла фиакра кто-то протянул мне руку. Я узнал Александра Рея.
Этот отважный человек был бледен.
— Поворачивайте обратно, — сказал он, — все кончено.
— Как кончено?
— Да, пришлось начать раньше назначенного часа: баррикада взята, я только что оттуда. Она здесь, совсем рядом.
И он добавил:
— Боден убит.
Дым в конце улицы рассеялся.
— Смотрите, — сказал мне Александр Рей.
В ста шагах от нас, в том месте, где улица Кот соединяется с улицей Сент-Маргерит, я увидел совсем низенькую баррикаду, которую разбирали солдаты. Несли чей-то труп.
Это было тело Бодена.
III
Сент-Антуанская баррикада
Вот что произошло.
В ту ночь де Флотт был в Сент-Антуанском предместье уже с четырех часов утра. Он решил, что если до рассвета начнется какое-нибудь движение, то хоть один депутат должен быть налицо; а сам он принадлежал к числу тех, кто первым выворачивает булыжники для баррикады, когда вспыхивает благородное восстание в защиту права.
Но все было спокойно. Де Флотт всю ночь бродил по улицам, один среди пустынного спящего предместья.
В декабре рассветает поздно. Еще до утренней зари де Флотт был на месте встречи, у рынка Ленуар.
Эта часть предместья охранялась слабо. Войск вокруг не было, кроме караула на самом рынке; другой караул был расположен на некотором расстоянии, в кордегардии на углу улицы Фобур-Сент-Антуан и улицы Монтрейль, возле старого древа свободы, посаженного в 1793 году Сантером. На этих постах офицеров не было.
Сделав рекогносцировку, де Флотт прошелся несколько раз взад и вперед по тротуару, затем, видя, что никого еще нет, и боясь привлечь к себе внимание, опять углубился в боковые улицы предместья.
Обри (от Севера) тоже встал рано, в пять часов утра. Вернувшись домой с улицы Попенкур поздно ночью, он спал только три часа. Привратник предупредил его, что какие-то подозрительные люди спрашивали его вечером 2 декабря и что в дом напротив, № 12 по той же улице Расина, к Югенену приходила полиция, чтобы арестовать его. Поэтому Обри решил выйти до рассвета.
Он пошел пешком в Сент-Антуанское предместье. Когда он подходил к назначенному месту, он увидел Курне и других из тех, что были на улице Попенкур. К ним почти сразу же присоединился Малардье.
Светало. В предместье не видно было ни души. Они шли в глубоком раздумье и тихо разговаривали. Вдруг мимо них вихрем пронесся какой-то необыкновенный отряд.
Они обернулись. Это был пикет улан, окружавший странный экипаж, в котором при тусклом утреннем свете они узнали арестантский фургон. Он бесшумно катился по макадамовой мостовой.
Они еще недоумевали, что бы это могло значить, когда появился второй отряд, подобный первому, затем третий и четвертый. Так, следуя друг за другом на очень близком расстоянии, почти соприкасаясь, проехали десять арестантских фургонов.
— Да ведь это наши коллеги! — воскликнул Обри (от Севера).
В самом деле, через предместье везли депутатов, арестованных на набережной Орсе; это была последняя партия, направлявшаяся в Венсенскую крепость. Было около семи часов утра. В окнах лавок появился свет. Некоторые из них открылись. Кое-где из домов выходили люди.
Фургоны ехали вереницей, под стражей, запертые, мрачные, немые. Не слышно было ни крика, ни возгласа, ни звука. С быстротой и стремительностью вихря, посреди шпаг, сабель и пик, они увозили нечто, хранившее молчание. Что же было это нечто, проносившееся мимо в зловещем безмолвии? Это была разбитая трибуна, верховная власть народных собраний, великий источник гражданственности, — слово, заключающее в себе будущее мира, голос Франции. Показался последний экипаж, почему-то запоздавший. От остальных его отделяло расстояние в триста или четыреста метров; его сопровождали только трое улан. Это был не арестантский фургон, а омнибус, единственный во всей партии. За полицейским агентом, заменявшим кучера, можно было ясно различить депутатов, теснившихся внутри. Казалось, что освободить их — дело нетрудное.
Курне обратился к прохожим.
— Граждане, — воскликнул он, — это увозят ваших депутатов! Вы видели, они только что проехали в фургонах для преступников! Бонапарт арестовал их вопреки всем законам. Освободим их! К оружию!
Вокруг Курне образовалась группа из блузников и ремесленников, шедших на работу. Среди них раздались крики: «Да здравствует республика!», и несколько человек бросились к фургонам. Карета и уланы пустились в галоп.
— К оружию! — повторил Курне.
— К оружию! — подхватил народ.
На мгновение всех охватил единый порыв. Кто знает, что могло бы произойти? Было бы знаменательно, если бы в борьбе против переворота для сооружения первой баррикады употребили этот омнибус и если бы, послужив сначала преступлению, он стал орудием возмездия! Но в ту минуту, когда рабочие бросились к карете, некоторые из сидевших в ней депутатов стали махать обеими руками, чтобы остановить их.
— Э, — сказал один рабочий, — да они не хотят!
Второй продолжал:
— Они не хотят свободы!
Третий прибавил:
— Они не хотели ее для нас, не хотят ее и для себя.
Этим все было сказано: омнибус пропустили. Через минуту крупной рысью пронесся арьергард конвоя; толпа, окружавшая Обри (от Севера), Малардье и Курне, рассеялась.
Кафе Руазен только что открылось. Все помнят, что в большом зале этого кафе происходили заседания знаменитого в 1848 году клуба. Здесь, как уже говорилось, и была назначена встреча.
С улицы в кафе Руазен попадают через проход, ведущий в вестибюль в несколько метров длиною, оттуда посетитель входит в довольно большой зал с высокими окнами и зеркалами по стенам. Посреди зала стоят несколько бильярдных столов, мраморные столики и обитые бархатом стулья и скамьи. В этом зале, не очень удобном для больших совещаний, и заседал в свое время клуб Руазен. Курне, Обри и Малардье сели за столик. Войдя в кафе, они не скрыли от хозяев, кто они такие; их приняли хорошо и на всякий случай указали выход через сад.
Тут же к ним присоединился де Флотт.
К восьми часам депутаты стали собираться. Первыми пришли Брюкнер, Мень и Брийе, затем, один за другим, Шарамоль, Кассаль, Дюлак, Бурза, Мадье де Монжо и Боден. На улице было грязно, и Бурза, по своему обыкновению, надел деревянные башмаки. Те, кто принимает Бурза за крестьянина, ошибаются: это бенедиктинец. Бурза — человек с южным воображением, живым, тонким умом, образованный, блестящий, остроумный; в голове у него вся Энциклопедия, а на ногах — крестьянские башмаки. Что в этом странного? Он вместе — мысль и народ. Бастид, бывший член Учредительного собрания, пришел вместе с Мадье де Монжо. Боден горячо пожимал всем руки, но молчал. Он был задумчив. «Что с вами, Боден, — спросил его Обри (от Севера), — вам грустно?» — «Мне? — возразил Боден, подняв голову. — Никогда я не был так доволен!»
Быть может, он уже чувствовал себя избранником? Когда человек находится так близко от смерти, озаренной славой, улыбающейся ему во мраке, быть может он уже видит ее?
Депутатов сопровождали и окружали люди, посторонние Собранию, но исполненные такой же решимости, как и сами депутаты.
Их возглавлял Курне. Среди них были и рабочие, но ни на ком не было блуз. Чтобы не испугать буржуазию, рабочим, особенно с заводов Дерона и Кайля, посоветовали прийти в сюртуках.
У Бодена была при себе копия прокламации, которую я продиктовал ему накануне. Курне развернул ее и прочел. «Расклеим ее сейчас же по предместью, — сказал он. — Народ должен знать, что Луи Бонапарт — вне закона». Один рабочий-литограф предложил сейчас же напечатать ее. Все присутствовавшие депутаты подписали прокламацию и среди своих подписей поставили мою фамилию. Обри (от Севера) прибавил в заголовке слова: «Национальное собрание». Рабочий унес прокламацию и сдержал слово. Через несколько часов Обри (от Севера), а потом один из друзей Курне, некий Ге, видели, как он в предместье Тампль с банкой клея в руке наклеивал прокламации на всех перекрестках, совсем рядом с объявлениями Мопа, угрожавшими смертной казнью тому, кто будет распространять призыв к оружию.
Прохожие читали обе прокламации одну за другой. Нужно отметить такую подробность: рабочего сопровождал и охранял человек в форме сержанта пехоты, в красных штанах и с ружьем на плече. Это был, очевидно, солдат, недавно отслуживший свой срок.
Накануне общий сбор назначили от девяти до десяти часов утра. Этот час был выбран с таким расчетом, чтобы хватило времени оповестить всех членов левой; следовало подождать, пока они соберутся, чтобы наша встреча больше походила на народное собрание и чтобы действия левой произвели в предместье более внушительное впечатление.
Некоторые из уже прибывших депутатов были без перевязей. В соседнем доме второпях изготовили несколько перевязей из полосок красного, белого и синего коленкора и роздали этим депутатам. Среди тех, кто надел эти импровизированные перевязи, были Боден и де Флотт.
Толпа, стоявшая вокруг них, уже выражала нетерпение, хотя еще не было девяти часов.[9]
Это благородное нетерпение охватило многих депутатов.
Боден хотел подождать,
— Не будем начинать раньше назначенного часа, — говорил он, — подождем наших товарищей.
Но вокруг Бодена роптали:
— Нет, начинайте, подайте сигнал, выходите на улицу. Как только жители предместья увидят ваши перевязи, они сразу восстанут. Вас немного, но все знают, что скоро к вам присоединятся ваши друзья. Этого достаточно. Начинайте.
Как показали дальнейшие события, такая поспешность могла привести только к неудаче. Однако депутаты решили, что они должны подать народу пример личного мужества. Не дать потухнуть ни одной искорке, выступить первыми, идти вперед — вот в чем заключался долг. Видимость колебания могла оказаться более пагубной, чем самая дерзкая отвага.
Шельшер — героическая натура, он всегда готов ринуться навстречу опасности.
— Пойдем, — воскликнул он, — друзья нас догонят. Вперед!
У них не было оружия.
— Обезоружим ближайший караул, — сказал Шельшер.
Они вышли из зала Руазен, построившись по двое, держась под руку. С ними были человек пятнадцать или двадцать рабочих, которые шли впереди и кричали: «Да здравствует республика! К оружию!»
Перед ними и позади них бежали мальчишки с криками: «Да здравствует Гора!»
Запертые двери лавок приоткрылись. В дверях показались мужчины, и кое-где из окон выглядывали женщины. Группы людей, шедших на работу, провожали их глазами. Раздались крики: «Да здравствуют наши депутаты! Да здравствует республика!»
Все выражали сочувствие, но не было никаких признаков восстания. По пути процессия почти не увеличилась.
К ней присоединился какой-то человек, который вел под уздцы оседланную лошадь. Никто не знал, кто он и откуда взялась лошадь. Он словно предлагал свои услуги тому, кто захотел бы бежать. Депутат Дюлак приказал этому человеку удалиться.
Так они дошли до кордегардии на улице Монтрейль. При их приближении часовой подал сигнал тревоги, и солдаты в беспорядке выскочили из караулки.
Шельшер, спокойный, невозмутимый, с манжетами и белым галстуком, как обычно, весь в черном, в наглухо застегнутом сюртуке, похожий на квакера, приветливый и бесстрашный, направился прямо к ним.
— Товарищи, — сказал он, — мы депутаты народа и пришли от имени народа просить у вас оружие для защиты конституции и законов.
Караул дал себя обезоружить. Один только сержант пытался сопротивляться, но ему сказали: «Ведь вы один!», и он уступил. Депутаты роздали ружья и патроны окружавшим их смельчакам.
Некоторые из солдат кричали: «Почему вы отбираете от нас ружья? Мы готовы драться за вас, на вашей стороне».
Депутаты не решались принять это предложение. Шельшер хотел было согласиться. Кто-то из депутатов заметил, что солдаты подвижной гвардии уверяли в том же самом июньских повстанцев, а получив оружие, повернули его против восставших.
Поэтому оружия солдатам не вернули.
Сосчитали отобранные ружья, их было пятнадцать
— Нас сто пятьдесят человек, — заметил Курне, — ружей нам не хватит.
— Не беда, — сказал Шельшер. — Где тут еще есть караул?