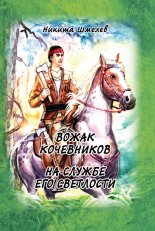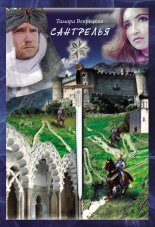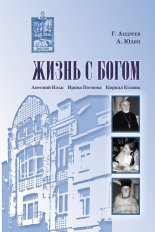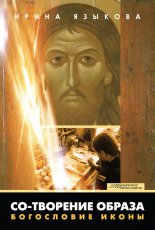Теплые вещи Нисенбаум Михаил

– А то. Время разбрасывать песо – и время собирать песо. Так сказал Заратустра.
– Вообще-то это из Библии, – неприязненно возразила Людик.
– Мы заработаем музыкой.
– Музыкой?
– Да. Я слышал, на хорошем месте музыканты зарабатывают до тысячи долларов за две недели.
– В Ковент-Гарден?
– Например, около ГУМа. Или рядом с Пушкиным. Короче, где-то там, где ходят американские туристы и русские подпольные миллионеры.
Глупость нехотя возвращалось к нам. Мы заказали еще капуччино – на предпоследние деньги. Коля говорил, что Паганини часто играл в обычных трактирах, что уличные музыканты – это просто сказка, что мы не хуже зверей, которые шли в Бремен.
И мы опять развеселились, стали дурачиться, как два младших поросенка (роль положительного зануды Наф-Нафа выпала на долю Людика). Я рисовал на салфетках шаржи на Колю, который поет вместе с котом и ослом, а Коля в отместку писал на меня эпиграммы.
Через какое-то время официантка стала подходить к нам каждые десять минут и спрашивать все более вежливо, не принести ли нам чего-нибудь еще. Сначала мы ничего не заказывали, потом стали просить о чашечке горячего кураре с парой чайных ложек цикуты. Официантка уходила на кухню, возвращалась и говорила, что сегодня, к сожалению, ни кураре, ни цикуты нет, но можно выбрать из того, что есть в меню.
Наконец, мы выпали из бархатной кофейной бонбоньерки на улицу. Ночная мгла мягко мельтешила снегопадом, как экран вечности по окончании передач.
Уши мои и щеки горели и как бы саднили током беспокойства: как? как же все будет?
9
Воскресенье далеко забрело в ночь на понедельник. Будильник пришел откуда-то издалека и пробил треском теплую защиту сна. Давно заметил: при неблагополучной жизни сон – не отдых, а спасительное бегство. Коля не проснулся ни от будильника, ни от стука сковородки с жареной картошкой, которую я притащил с кухни: в квартире все ели в своих комнатах. Уходя, я написал Коле записку, чтобы он поменьше искал приключений на кухне и завтракал картошкой, бутербродами с сыром и паштетом.
Заехав на Шоссейную в контору, я встретил инженера Зою-Ванну, которая сказала, что меня перебрасывают на Тайнинскую в однокомнатную квартиру. Полный ремонт: смывать потолки, сдирать обои, шпаклевать стены и так далее. .. Через три дня мне в помощь пришлют Вовку Перинина, а начинать надо одному. Новость была неплохой: во-первых, не нужно больше таскаться в Некрасовку за Люберцы, где мы ремонтировали подъезд. Во-вторых, работать одному лучше. За последние три месяца компания малярных девиц мне изрядно надоела. К тому же, как сказала Зоя-Ванна, хозяев тоже нет. Прекрасно: от хозяев вечно одна морока.
Я ехал на «Бабушкинскую» по оранжевой ветке. Странно было проезжать «Алексеевскую». На удивление, нищих сегодня не было. Наверное, у них по понедельникам выходной.
От «Бабушкинской» надо было добираться на автобусе в сторону Лосиного острова. За окном тянулись хмурые невыспавшиеся улицы. В трехстах метрах от конечной остановки начинался лес. Зайдя к технику-смотрителю и взяв ключ от квартиры, я обменялся парой слов с сантехником Жорой (у Жоры вечно было такое сыто-скучное лицо, словно он только что объелся маслянистыми лепешками), а после неторопливо отправился на Тайнинскую.
Спешить было особенно некуда, да и желания побыстрее начать смывать потолки, понятное дело, не возникало. Поэтому я побрел по дворам пешком, заходя во все подворачивающиеся магазины. На задворках универсама лежали ощипанные капустные листья. Рядом торговали розовым узбекским виноградом «тайфи». Снег ровно лежал на горках и грибках детских площадок, белел мягкими шапочками на колышках штакетников и ветках кустов. Перед самым домом на Тайнинской я купил в продуктовом немного печенья «Мария» и синий высокий короб молока.
Однушка на седьмом этаже была пуста. В отличие от других квартир, которые меня посылали ремонтировать, она была довольно аккуратной. Хотелось даже разуться у порога. В спертом воздухе были смешаны запахи пыли, скудных обедов, сердечных капель и безвыходного сиротства. Из вещей на кухне остались табуретка, когда-то давным-давно выкрашенная белой эмалевой краской, рассохшийся стол да еще горшок с полумертвым алоэ, торчащий на подоконнике на фоне заснеженного двора. В комнате, обклеенной бледно-зелеными обоями, засаленными по углам и там, где раньше, должно быть, стоял диван, вещей не было вовсе, если не считать жестянки с пуговицами и нитками. Жестянка притулилась в углу рядом с батареей: похоже, вынося пожитки из дому, люди просто не заметили ее или заметили, но не взяли из какого-то суеверия.
Пуговицы все были разные, неновые и совсем непраздничные: черные, серые, желтовато-костяные, как на больничных халатах. Пара иголок была воткнута в лоскуток красной фланели, из одной торчала черная нитка.
Я поднял глаза к окну и увидел, как чист и светел новый снег.
Впервые мне захотелось как можно скорее приступить к работе, чтобы избавиться от тяжести сострадания к неизвестной мне отлетевшей душе.
10
Вечером Коля пришел грешный и веселый, и сразу начал рассказывать, как к Людику в комнату зашли какие-то красавицы-стоматологини, как одна из них строила Коле глазки («Хорошо, что не зубки» – подумал я), и одной из них он оставил мой телефон.
– Отлично! Зачем ты дал ей телефон? – возмутился я.
– Как зачем? Позвонит, позовет тебя, а ты позовешь меня.
– А если меня не будет дома? Она позовет какого-то Колю, соседи будут ругаться, потом приедет бабушка, она тоже будет ругаться.
– Все будет не так. Соседи будут приятно заинтригованы, скажут бабушке, бабушка будет очарована.
– Соседи будут скрежетать зубами, а бабушка...
– А бабушка уже не будет. Возраст... А знакомый стоматолог всегда кстати. Особенно будущий.
– Не заговаривай мне зубы. И вообще. Как же Людик? Я уж не говорю о твоей жене.
– Я качусь по наклонной, – сказал Коля самодовольно. – Неужели так сложно заметить?
Хотя все сказанное вопиющим образом противоречило моим правилам, на душе стало легко и беззаботно.
Многолетние наблюдения приводят меня к печальному выводу: мои друзья – это люди, чье общество доставляет мне наслаждение. Искренняя беседа, споры, взаимное вдохновение – вот что привязывает меня к другу. А вот что касается самоотверженности, верности, готовности идти на жертвы, – в этом мои друзья никогда не были сильны. Конечно, они могут помочь с переездом, у них легко перехватить денег на пару недель, если нужно переставить шкаф – здесь на них тоже можно рассчитывать. Жадность – обычный порок людей положительных – им несвойственна. Зато в моих друзьях нет и в помине ни пунктуальности, ни устойчивости, ни надежности. Они легки в общении – и до неприличия легкомысленны в жизни. На них нельзя положиться, на них не стоит рассчитывать – разве что в каких-нибудь безумных предприятиях, вроде тех, которые мы затевали.
С надежными и ответственными людьми дружба как-то не складывается – положительные люди в большинстве своем скучны. Нельзя же проводить жизнь в ожидании похода в разведку, тюрьмы, сумы и скучать ровно до тех пор, пока не захочется залезть в петлю по той или иной причине.
Поэтому моя жизнь длится в ожидании того друга, в котором стойкая самоотверженность и альтруизм окажутся совместимы с окрыленностью. Циники возразят, что таких людей не бывает – и попадут впросак. Ведь таков я сам.
11
В четверг вечером, зачехлив гитару, мы вышли из дому. При этом соседка Настя, девушка пятидесяти лет, увидев нас, шмыгнула в свою комнату, чтобы не здороваться, и сильно хлопнула дверью. А Анна Игнатьевна, с которой мы столкнулись на пороге, на наши куртуазные приветствия ответила негостеприимным молчанием и рентгеновским взглядом, который пронзил нас насквозь, но при этом не обнаружил наши личности. Как будто нас не существовало, а существовали только наши низкие тайны.
Кабинка дореволюционного лифта мне всегда нравилась больше, чем наша прихожая. А еще было здорово смотреть, как темные слои шахты сменяются видами подъезда, проплывающими мраморными лестницами, лепными потолками и почтовыми ящиками.
В проулке между флигелями искристым серпантином и конфетти взметался снег, словно сейчас был Новый год, а не обычный будний четверг.
От «Библиотеки имени Ленина» мы проехали одну станцию и вышли на «Проспекте Маркса». Вдоль путей задумчиво качались тусклые луны светильников. Мы спустились в переход на «Площадь Свердлова» – отличное место для коммерческого музицирования.
– Не надо только нагонять меланхолию, – взвинченно говорил Коля. – Жизнь и без того грустна.
– Надо петь, когда люди идут с нового поезда. Как только доходят до середины перехода – сразу заводим песню.
Людика на этот раз с нами не было. Собственно, от нее все равно никакого толку. Что взять с поклонника, который стесняется своих кумиров?
В метро было душно. Люди опять не улыбались, кто-то устало возвращался с работы, кто-то шел на концерт или в гости, но лица у всех были такие, словно сейчас утро и все идут на работу. Длинная труба перехода спускалась под наклоном, и арка внизу казалась огромным полусомкнутым веком. Млечно светили фонари, похожие на жемчужные орехи. Полукруглые пояса лепнины с известковыми сказочными цветами, плодами, лепестками шли волнами по стенам и потолку. В таких огромных помещениях хочется крикнуть и слушать эхо.
Мы расположились наверху, между двух арок. Чехол от гитары распластался у наших ног, готовясь принять в свое дермантиновое лоно шелестящие ассигнации и звенящие дублоны.
Подумав, мы сняли наши пальто и сложили их на выступ стены. Под рубашку поползла подземная зябкость.
Подсознательно оттягивая момент начала, я долго подтягивал колки, пробовал октавы. Метрах в трех от нас к стене прилип первый зевака, который глядел с пьяной тягучей благожелательностью. Люди оглядывались, некоторые немного замедляли шаг, ожидая услышать начало нашего концерта. А я все возился, пока Коля не сказал мне одними усами, чтобы я закруглялся, потому что «пошла волна». Действительно, из дальней пасти в тоннель выкатывала приближающаяся толпа. И тут мы грянули.
Первый куплет подошел к середине, а волна уже подкатила к нам. Я вдруг заметил, что многие люди заулыбались и сразу стали разными и знакомыми.
Два наших дружных мужских голоса будто бы прибавили огня в лампах. В чехол закапали монеты и посыпались мелкие бумажки. Наш первый слушатель отлепился от стены и приблизился к нам, хлопая в ладоши и всячески избочениваясь от готовности пуститься впляс. Хотелось послать его в болото при помощи чревовещания.
Волна уже прошла, а мы все пели про «Крысулю». Никто не остановился нас дослушать. Это было странно: бросая в чехол деньги, прохожие не платили за доставленное удовольствие, а просто подавали неимущим музыкантам. Наша премьера принесла добрых девяносто тысяч.
– Слышь, борода, – подвалил мужик с пивом ко мне, – Ты, понял, ох...енный гитарист!
– Ну, я в школе учился. Два года.
– Земляки, давай про черну шапку, а? – уже на правах своего сказал зевака. Глаза его были томны, а брови штормило сентиментальной сединой. И не дожидаясь нашего согласия, завел: «Ой да не вечер, да не вечер».
– А вот как раз и вечер, – строго возразил Коля. Ему ведь не сказали, какой он прекрасный певец, поэт и композитор.
Глотка арки извергнула новых человеков.
– От всей, как говорится, души, – тут наш незванный завсегдатай бросил в чехол мятую десятитысячную.
– Заберите деньги, – хором прошипели мы с Колей и тотчас грянули парадным фортиссимо про липу вековую.
Меценат, который сообщил, что его зовут Толян, терпеливо дослушал последнюю строчку («Скоро и твой милый тем же сном уснет») и добавил в чехол еще три бумажки. Хотя мы пришли именно заработать, с Толяна брать деньги было отчего-то неловко. Положив гитару на грязный пол, я вынул из чехла спонсорские купюры и принялся впихивать их упирающемуся мужику. Толян оскорбленно упирался, выгибаясь, словно мыслящий тростник. Тут Коля поднял гитару и заявил:
– Для нашего гостя из солнечной подземки Анатолия исполняется казачий романс «Черна шапка»!
Мы спели уже пять или шесть песен, а в чехле набралось всего на четверть билета в плацкартный вагон. Откуда-то неслышно приковыляла тетенька в ситцевом платочке и пригорюнилась метрах в пяти перед нами, повернув ладошку к потолку, как делают люди, которые хотят узнать, идет ли дождь.
Подходившие стали оделять деньгами и ее, причем ей доставалось больше. Деря глотку очередным шлягером, я пытался понять, отчего так выходит. Наверное, думать во время пения не нужно, но тем не менее, я думал.
У людей, которые слышат музыку, душа размягчается. Им кажется, что они на празднике, во всяком случае, в какой-то артистической атмосфере. И тут, в состоянии праздничной размягченности, они видят тетеньку с протянутой рукой, которая явно чужая на празднике. Лучшие чувства, разбуженные нами, тотчас устремлялись к ней: ведь ей было плохо. Она была немолода, бедна и унижена, а мы молоды, бодры и к тому же пели песни. Поэтому главные финансовые поступления шли тетеньке, а остатки – нам.
Тоннель то наполнялся, то пустел, накатывала и затихала глубинная дрожь чудовищной тяжести.
Играть проходящим мимо – совсем не то, что играть в клубе или дома перед друзьями. Пока слушатель приближается, глядит на тебя, прислушивается, тебе кажется, что можно повлиять на него, привлечь музыкой, заставить остановиться. А потом он отворачивается и уходит прочь, и тебя разбирает – не злоба, конечно... Хочется сразу забыть о нем и петь для более достойного, кто сейчас как раз на подходе. Но тот, на кого ты надеешься, тоже проходит мимо.
Однако рядом Коля, ему нужен билет, а мы профессионалы. Профессионалы умеют делать свое дело, невзирая на его бессмысленность, если только за это платят.
И все же каждый раз, когда люди приближались к нам и улыбались, возникала уверенность в том, что мы выбрали хорошее место.
Через три песни из дальнего грота потянулась очередная вереница пассажиров, которых мы встретили песней «Мы вам честно сказать хотим». Тетенька куда-то немедленно пропала, точно ушла сквозь стену. К первому припеву наконец два человека задержались возле нас, дослушав песню до конца. Но как и все мечты, эта сбылась самым нежелательным образом. Двое слушателей были метрополитеновские милиционеры. Один был юн и усат, другой – крепкий бровастый мужчина в годах. На их лицах не было никакого выражения, потому что на службе не полагается проявлять посторонние эмоции. После короткого диалога о правилах пользования метрополитеном, паспортах, московской прописке и административной ответственности мы стали собираться, а содержимое чехла перешло представителям более благородного искусства. Хотя наш новый друг Толик, мыча и матерясь, страстно доказывал, как прекрасны дружба и искусство вокала.
– Кончай, Толян, – сказал Коля. – Мужчины здесь не плачут.
Мы угрюмо зачехлили гитару и пошли от греха подальше в ближайшую каменную глазницу, как никому не нужные соринки.
Когда мы поднимались на эскалаторе на «Проспект Маркса», Коля вдруг сказал:
– Никогда не буду шутить на тему милиции, судов и тюрем. И про больницы тоже. Про нищих мы уже пошутили.
Не знаю почему, на меня снизошло благодатное спокойствие. Причин для радости не было, скорее наоборот, но душе про это лучше знать.
И тут – как кстати! – я увидел ее. Девушка стояла у той вечно закрытой двери, что ведет в соседний вагон, и задумчиво вглядывалась во что-то запредельное. Во что-то, что происходит не здесь и не сегодня. На ней было кашемировое пальто цвета предрассветной пустыни и длинный черный шарф. Я смотрел на девушку неприлично долго, но она этого не замечала. В ее лице была спокойная одушевленность и никому не адресованная приветливость. Хотелось сказать ей:
– Знаете, такой девушке, как вы, не подходит метро. Нет, я не считаю, что в метро ездить стыдно: сам люблю метро, особенно длинные эскалаторы и всякие сказочные станции. Но вам здесь не место. Вам место на скамье, которая стоит где-нибудь над морем на обрыве. Чтобы соленый ветер развевал ваши волосы. Или в крайнем случае, в коллекционном автомобиле, собранном в пятидесятые годы. Я имею в виду, ваш образ отлично вписался в такие картины, а здесь фон неподходящий.
Я так разволновался, что даже не заметил, как мы приехали. И конечно, ничего никому не сказал. Выходя из вагона, оглянулся. Она по-прежнему улыбалась своим нездешним садам.
– Жениться тебе надо, – раздался недовольный голос Коли.
Отличный совет от человека, который делал все, чтобы приблизить день своего развода.
12
Утром в пять часов двадцать минут, когда на Кольском полуострове засыпают полярные совы и поднимается легкая рябь вокруг острова Корфу, в Москву вернулась бабушка. Я встретил ее на Казанском вокзале, приняв картонный чемодан и невероятно тяжелую сумку с мамиными соленьями. По дороге я очень острожно сказал, что у нас дома ненадолго находится мой лучший друг Коля, интеллигентный молодой человек, который сегодня или завтра уедет. И еще что Коля потерял все деньги и билет на свой поезд. Нужно ли удивляться, что бабушка поздоровалась с заспанным, но зато в костюме и при галстуке Колей несколько чопорно.
Все свое недовольство Колиным присутствием она выплескивала только на меня. Но я-то чувствовал, что ее слова должны были поразить нас обоих. Например, она сказала:
– Миша, ты что, не мог предложить гостю тапки? Хламида ты монада!
И хламида, и монада был я. Колю она не называла по имени, а поминала словом «гость», говоря опять же только со мной.
За завтраком мы улещали бабушку салатом «Столичным» из кулинарии ресторана «Прага». Денег у нас хватило всего грамм на триста. И в течение всего времени, пока бабушка распространялась на тему моей глупости и невнимательности (если бы она только могла представить истинную картину нашей глупости, она не тратила бы слов, а просто убила нас прадедовским подстаканником), Коля жевал один и тот же листик петрушки из салата. Он его обметывал зубами, как швейная машинка, не меняясь в лице. Только глаза его за очками становились все мельче и бдительней.
Кстати, последний бабушкин попрек состоял в сочувствии той женщине, которой я достанусь. Соболезнования моей потенциальной половине я также часто слышал от моей мамы, из чего следует, что эта фраза передается в нашей семье из поколения в поколение. Значит, и сама бабушка где-то услышала ее раньше, скорее всего, от своей мамы, да и та вряд ли изобрела ее сама, потому что все мы, честно говоря, не подарок.
Тем не менее после завтрака бабушка несколько смягчилась и даже принялась готовить свой фирменный клетчатый пирог с курагой.
А я поехал на работу. Когда двери лифта на Тайнинской открылись, я вздрогнул: прямо передо мной торчал тощий длиннющий Вовка Перинин: мне прислали напарника.
– Приветик, – сказал Вовка. – Как ты тут без меня? Отлично? Розочка и Ленка велели тебя поцеловать.
Бабушка быстро сообразила, что без денег Коля будет ошиваться у нас дома еще неделю, а то и больше. Поэтому она одолжила ему на билет, и вечером того же дня он отбывал в купейном вагоне фирменного поезда номер шестьдесят один «Москва – Тайгуль». Об этом я узнал, вернувшись домой, примерно за час до Колиного отъезда. С бабушкиной стороны это было просто подло. У меня было такое мрачное настроение, точно я провожал не его, а себя – в последний путь. Коля с удовольствием устраивался в темноватом купе, вытаскивал дорожные вещи. Потом в купе вошли двое попутников – супружеская пара с огромными чемоданами и картонной коробкой. Пора было прощаться. Мы вышли из вагона.
– Пиши сразу, как приедешь, – сказал я напоследок, стараясь смотреть в сторону, на медленно причаливающий состав из Улан-Удэ, который бегом обступали носильщики с тележками. Снега не было, изо рта шел пар.
– Можешь встречаться с Людиком, – ответил Коля, – если она тебе нравится, конечно.
– Кажется, я не просил о милостыне. А ты бы лучше держался жены.
Коле вечно все нипочем. Как будто я подписался грустить один за всех на свете.
После моего возвращения с Казанского вокзала обе наши комнаты оказались завалены бабушкиными вещами из чемодана.
– У, злыдень! – сказала бабушка добрым голосом. – Давай за стол! Пирог не сердце, вмиг остынет.
13
Утром на следующий день я спустился по лестнице пешком и заглянул в почтовый ящик, надеясь увидеть в круглые дырочки белеющую бумагу конверта. Идиотство! Разумеется, никакого письма в ящике не было и быть не могло. Коля еще ехал в поезде туда, где снегирь солнца кутается в морозные дымы, где остались друзья, Дворец имени В. П. Карасева, тайга, Бездонное озеро и, конечно, мой дом.
И опять метро, опять две пересадки – на «Курской» и на «Проспекте Мира». Ладно, силы у меня найдутся. Сил всегда достаточно, надо записать это где-нибудь на видном месте, чтобы не забывать.
– Люти топри, – заныл знакомый голос, – ви извинитте нас что ми вам опращаемся.
Вдруг я осознал, что этот голос меня радует. Впервые я взглянул на маленькую, профессионально скорбную женщину с веселым узнаванием – как на свою. Может быть, как на актрису из нашего с Колей общего театра. Приятно было видеть и ее, и чумазого мальчика, уже из другой семьи – из второго актерского состава. Только на Тайнинской, подходя к подъезду, я понял, что все еще улыбаюсь.
Вовка мазал полосы обоев прозрачным киселем клея и подавал их мне. С каждым узорчатым куском комната увеличивалась в размерах и наполнялась новой жизнью. Перинин напевал «диги-диги-дон» и приятно хлюпал клеевой кистью по желтоватой бумажной изнанке. И, кажется, впервые за много дней я не отдал бы все на свете за возможность оказаться в поезде, который сейчас маленькой темно-зеленой змейкой подползал к предгорьям Урала (если, конечно, у таких маленьких гор могут быть предгорья).
Глава 6
КОГДА ТВОЙ ДРУГ ВДАЛИ
1
Метель вернулась под вечер. Однокомнатная квартирка в Бирюлево располагась на первом этаже. Даже в солнечные дни там было довольно сумрачно, а сейчас, несмотря на ранний час, в комнате на чемоданах сидела ночь. Серые снежные отряды маршировали мимо, стекла дрожали и потрескивали под натиском ветра.
Санька должна была появиться еще полчаса назад. В три я думал, что хочу побыть один подольше, раз уж нельзя сбежать. Но квартира была съемная, причем снимал ее не я, а Таня Меленькова, моя хорошая знакомая. Таня согласилась принять на постой Саньку, приехавшую из Дудинки на три дня, и выдала мне запасной ключ. У Саньки ключа не было, и поэтому сбежать я никак не мог – иначе она оказалась бы у запертой двери, пока не придет Меленькова. А Таня из деликатности постарается прийти как можно позже.
Словом, все пути к отступлению были отрезаны.
Изредка сквозь прорехи пурги мутно проглядывали фары проезжающих автобусов и легковых машин, а потом улица вновь исчезала. Но свет в комнате зажигать не хотелось. Неровный мрак рядом с огромным аквариумом, в котором бесновалась огромная метель, как нельзя лучше соответствовал моему хаосу: во мне был такой же мятущийся мрак. И если бы было возможно, я бы и в мыслях ничего не включал – уж очень не хотелось признавать, что, собственно, со мной происходит.
Прошел час. Саньки не было. Мысли о позорном бегстве исчезли. Прикоснулся пальцами к стеклу – пальцы были холоднее. Ветер усилился, стекло вздрогнуло, и я понял, что ничего так не хочу, как увидеть Саньку, объясниться и включить свет. Наш общий, для двоих.
2
Никогда не мешайте вашим друзьям разводиться. Будьте благоразумны, проявите выдержку. Отойдите в сторонку, прикиньтесь нейтральной Швейцарией, а еще лучше – белым пятном на карте непознанного мира. Браки, разводы – личное дело друзей, ваше вмешательство только навредит, причем раньше всего – вам самим, уж поверьте.
Это я знаю сейчас. Но тогда, много лет назад, когда мои лучшие друзья Коля и Санька собирались разводиться, мне втемяшилось, что я могу спасти их брак. Я любил их именно как пару и с тех пор, как они поженились, никогда не думал о них порознь, хотя с Санькой познакомился года на три раньше.
Тот год выткался пестрым на удивление. Я учился в десятом классе и по вечерам ходил на репетиции театра «Ойкос» в ДК имени В. П. Карасева. Дорожки сквера были устланы рябыми тополиными листьями, небо над Дворцом подпирали колонны белесых, табачно-желтоватых и грязно-розовых заводских дымов, а моя жизнь день ото дня становилась все новее и непривычней. На шкафу сохла очередная картина, ногти были выпачканы красками, а свитера и рубахи пропахли пиненом, казеином и кедровым лаком.
Читая Новый Завет, Платона и Лосева, я поражался не только глубине написанного, но и тому, что сам достиг такой высоты. У меня появились взрослые друзья, непризнанные художники и поэты. Роман с Кохановской летел, как самолет без пилота: даже в лучшие минуты мы приближались к катастрофе.
Город кружился, волшебно позванивал, загорался и нависал громадами тьмы. А теперь вот еще нарисовался и «Ойкос». Странно было одно: каждый день я продолжал ходить в школу, хотя школьником себя давно не чувствовал.
Театр только образовался, его возглавила молодая выпускница Челябинского института культуры Мила Михайловна, эффектная эмансипе в огромных модных очках. Мила Михайловна надменно курила, громко смеялась и красиво жестикулировала, была страстно влюблена в театр и мечтала о постановке-сенсации. Любое помещение, где она появлялась, было ей тесно. Может быть, она и курила так много для того, чтобы все ограничения скрылись в сизом витиеватом тумане. Единственное пространство, где ее голосу жилось привольно, была сцена.
Поскольку творческих людей в нашем районе можно было пересчитать по пальцам однорукого, Мила Михайловна моментально познакомилась с художником Вялкиным, моим старшим другом и учителем с большой буквы. Вместе они решили поставить на тайгульской сцене авангардистский спектакль «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Роль титульной чайки была отдана мне.
Начались месяцы репетиций. Мы встречались во Дворце имени В. П. Карасева, в угловой комнате на втором этаже, беседовали, разыгрывали этюды, произносили скороговорки, спорили и пели песню про «актерское трудное счастье». Из окон комнаты была видна пустая танцплощадка во внутреннем дворике, раскрашенная разноцветными концентрическими кругами. Это должно было походить на грампластинку, но более напоминало мишень. Изредка при свете фонарей было видно, как через мишень наискосок пробегает фигурка уборщицы или дежурной по сцене.
Наши театральные способности были невелики, Мила Михайловна время от времени играла этюд «отчаянье», говорила «к черту, ничего у нас не выйдет», эротично хватаясь за сердце. Девочки бросались обнимать и утешать Милу Михайловну, мальчики виновато хмурились, а Мила Михайловна через несколько минут закуривала очередную сигарету и возвращалась к работе с видом каторжника-пассионария.
Вот в один из таких вечеров к нам во дворцовую комнату, пахнувшую скипидаром и табаком, заглянула девушка, корреспондентка заводской многотиражки «Вагоностроитель». Девушка была тоненькая, высокая, большеносая и большеротая, с немного сонными зелеными глазами и руками незабываемой красоты. Она очень стеснялась, говорила ломающимся низким голосом и просила пустить ее на наши репетиции, потому как ей поручено сделать большой репортаж о нашем театре. Это и была Александра Тескова. К тому моменту она уже училась заочно на журфаке в Сверловске и для нас, школьников, была человеком вполне взрослым. Кстати, никакой репортаж она так и не сделала, а единственный материал в «Вагоностроитель» написал как раз Коля.
Может быть, из-за ее взрослости, но главное – оттого что мое сердце принадлежало Лене Кохановской, Санька не вызвала во мне романтического интереса. С первого дня знакомства я относился к ней с уважительной нежностью, если такое, конечно, возможно. Хотя уважительности было больше.
3
Да, так вот, «Ойкос», значит... Хорошее место. И время хорошее. Не нужно надевать школьную форму, можно прийти в растянутом свитере или оставаться с намотанным вокруг шеи шарфом. Можно сидеть на подоконнике или на полу. А единственный настоящий взрослый, Мила Михайловна, не имеет над нами беспрекословной власти, более того, время от времени дает понять, что мы товарищи, делаем общее дело и в этом деле равны.
При этом каждый знает про себя, что он выше всех. Тем, что умнее, увереннее, точнее, тем, что лучше двигается, правильнее понимает режиссера или имеет больше сторонников. Каким-то чудом Мила Михайловна умудрялась хоть на мгновение внушить каждому из актеров сознание собственной значимости и превосходства.
К середине репетиции запах скипидара в комнате становился незаметен. Иногда зажигались свечи, дребезжали слабо прижатые струны гитары. При свечах лица у всех делались праздничными и таинственными, студия мерцала братской благодарностью и уютным родством.
Изредка к нам приходил Вялкин. Его приходы напоминали визиты главы могущественной державы или, по меньшей мере, крестной феи. Вялкин приносил эскизы костюмов, мастерски нарисованные гуашью, наброски декораций и фантазии на тему будущего спектакля. На рисунках сцена светилась зеленоватым мистическим холодом, в полумраке двигались фигурки в белых одеждах, напоминающих ночные рубахи с длинными рукавами. Мы зачарованно смотрели на картинки и представляли в фигурках уменьшенных себя.
Не прошло и месяца, как Санька из наблюдателя превратилась в актрису «Ойкоса». Теперь она приходила на репетиции в черной водолазке, спортивных брючках и чешках. Вместе с нами делала этюды, тараторила «Разнервничавшегося конституционалиста нашли акклиматизировавшимся в Константинополе», выхлопывала ладошами ритм «кукареллы».
Санька была самая высокая девушка в труппе и двигалась с той же угловатой грацией, с которой удерживает равновесие «Девочка на шаре». Казалось, равновесие это достигается не балансом притяжения, а незримыми колебаниями высоты.
В театре она дружила со всеми, я же, как обычно, держался особняком. Умница Санька не обращала на это никакого внимания. Эта единственно правильная линия поведения с загадочными буками была не обдуманной стратегией, а естественным проявлением ее открытости и добродушия.
Потом начались настоящие репетиции в зале. На сцене были натянуты шатры-горы из переплетенных серых веревок, рампа то вспыхивала таинственными огнями, то медленно гасла, по заднику гуляли пятна изумрудного, аквамаринового и янтарного огня. Из боковых колонок время от времени выскакивали, как веселые черти, пробные громы фонограммы.
По сцене бродили сквозняки, а мы двигались, как привидения, в своих холщовых балахонах и войлочных сандалиях на босу ногу. Раз в десять минут из глубин темного зала к нам бросалась, заламывая руки на бегу, Мила Михайловна, называя нас дуболомами. Она кричала:
– Чайка по имени Джонатан Ливингстон! Выйди на середину! НА СЕРЕДИНУ, а не на СРЕДИНУ! Андрей! Сколько можно повторять? Нет у нас в пьесе никакого Насреддина!
Много, много чего случилось за три месяца репетиций. Мы ссорились и мирились с Кохановской, Клепин с похмелья продал мне за двадцать пять рублей две картины Горнилова (как я добывал эти деньги – отдельная большая история) . Иногда я заходил к Вялкину, слушая его рассуждения об оргазме и исихазме. Выучив наизусть свою роль, я мог цитировать ее в любом разговоре, а иногда сочинял целые монологи в том же ключе. Отношения с Милой Михайловной становились все более дипломатическими, но делать было нечего: не менять же главного героя за месяц до премьеры.
В какой-то момент Мила Михайловна вообще перестала обращаться ко мне на репетициях. Оказавшись в излюбленной роли непризнанного бунтаря, я брал в ней энергию для роли чайки по имени Дж. Л. А может, роль Дж. Л. обострила во мне качества непризнанного бунтаря, кто теперь разберет.
Изредка после репетиций я провожал Саньку домой (когда был в ссоре с Кохановской, конечно). Зима махровая, улицы пусты, только пар из люков на перекрестке Машиностроителей и Карасева тянется к потрескивающим звездам. Ветки деревьев походят на розоватые рифы, в одноэтажных домах уютно теплятся обледеневшие окна. Окна в пятиэтажках по другую сторону улицы выглядят уныло.
Санька рассказывала про свою поездку к родственникам в Киргизию, про Иссык-Куль, про кроличий сарай, про университет и про то, как она начала писать стихи.
– Слушай, Сань... – как-то спросил я. – Ты себя не чувствуешь одинокой?
В те годы слово «одиночество» было синонимом избранности и автономности. Звучало не как жалобное «у меня никого нет» или «никому-то я не нужен», а как гордое «я такой один» или «мне не нужен никто».
– Я не одинокая, – Санька посмотрела на меня с удивлением, и я увидел, что ее длиннющие ресницы блестят инеем. – Вокруг меня только хорошие люди, самые лучшие.
– Хорошие, да... Но не все же тебя понимают?
– Ты ведь меня понимаешь? И потом... Не такая я сложная натура, как некоторые.
И она засмеялась. Хорошо так засмеялась и поглядела на меня игривыми глазами. Мы уже подошли к ее дому. Обычно в последнюю минуту перед расставанием что-нибудь происходит. Говорятся какие-нибудь особенные слова, лица сближаются, люди целуются... Но с Санькой этого быть не могло ни при каких обстоятельствах. Поэтому я сказал «ну пока» и поскакал домой, чувствуя, что один валенок тщится слететь с моей ноги и начать сольную карьеру.
4
Премьера – вот моя эмоциональная родина. Напряжение, которое раскаляет тебя до настоящей жизни, как лампочку, которая во все остальное время горела вполсилы. По телу гуляет дрожь, тело выбирает между болезнью и божеством, страх – просто турбулентность на огромной высоте. В этот день все были мне друзьями, я всех любил, даже старичка-пожарного Никишкина и красноносого рабочего сцены Мокеича, которые осуждающе косились на нас из-за кулис. Стая актеров-чаек казалась семьей, церковью, братством, мы строили действие, как наш общий дом, как храм... Сцена то погружалась во мрак, то вспыхивала загадочными цветами, музыка бежала по жилам, слова летели в лица зрителей. Важные, веские слова о вере, полете, преображении.
Вот если бы всегда жить так, как на премьере... Все впервые, но ты знаешь свою роль и что будет дальше...
После спектакля мы долго не переодевались, жали друг другу руки, смотрели сияющими глазами на людей в обычной одежде, которые заходили за кулисы и в гримерки. Сразу после закрытия занавеса я подошел к Ленке Кохановской, с которой мы накануне поссорились, и протянул мизинец. Она обняла меня, и посмотрела снизу вверх – сколько же нежности и радости было в этом взгляде. Я мог бы стоять так вечно, но тут к нам подошла Мила Михайловна, и мне пришлось разжать руки.
Когда долго на кого-нибудь сердишься, много и пристрастно думаешь, а потом вдруг миришься, радость гораздо больше и полнее, чем если бы у вас всегда были ровные хорошие отношения. Из этого можно сделать самые разные выводы. Я делаю такой: ради таких редких прекрасных вспышек не следует отравлять свою и чужую жизнь враждой.
О премьере написали в «Тайгульском рабочем», на спектакль явилась вся тайгульская элита: сотрудники краеведческого музея, начинающие модные травматологи, заведующий библиотекой и даже один молодой сорокалетний член Союза художников. Спектакль принес «Ойкосу» репутацию коллектива смелого, нон-конформистского, оригинального. Мы сыграли «Джонатана» раз пять, свозили его в Сверловск, а потом...
Потом я ушел из театра. Мила Михайловна предложила ставить «Милого Эпа», молодежную пьеску на тему школьной любви, классных собраний и трудностей роста. После Ричарда Баха, после главной роли участвовать в «Милом Эпе» значило спуститься на грешную землю, даже не приземлиться, а навернуться. Через месяц после моего ухода я впервые услышал о Коле Сычикове.
5
– Пгедставляешь, – говорит Ленка Кохановская, теребя меня за пуговицу, – нашли пагня на главную голь в «Милом Эпе».
Она очень мило картавит, это один из ее бесспорных плюсов. И чем больше я ее передразниваю, тем больше умиляюсь.
– Не помню, чтобы там был такой персонаж, – съязвил я.
– Какой пегсонаж?
– Главная голь. Да еще, поди, перекатная.
– Че ты дгазнишься? – огорчается Кохановская.
Хотя «Ойкос» уже отошел в прошлое, у меня возникает неприятное чувство, что кто-то занял мое место. «Да мне-то что, – повторяю я ревниво. – В этом дурацком Эпе мне неинтересна никакая роль – ни режиссера, ни автора, ни художника-постановщика».
Мы стоим у окна, держась за руки, и смотрим на Дворец. Рука у Ленки горячая, обветренная.
– Его зовут Николай. Коля. Он уже взгослый. Журналист в «Вагоностгоителе». Стихи пишет, на гитаге иггает. Песню нам пел про Квазимодо.
– Автобиографическую? – почему-то меня задевает, что этот Коля тоже играет на гитаре.
– Михаил! – когда Кохановская сердится, она всегда обращается ко мне полным именем. – Это нечестно. Ты его совсем не знаешь, он ничего плохого тебе не сделал.
– Ты права, Ленк, совершенно права. Просто, наверное, я бы хотел быть на месте любого человека, про которого ты говоришь что-нибудь хорошее.
6
Добрая слава о Коле неслась совсем недолго. Вскоре поползли слухи, что этот проходимец начал встречаться с Санькой. Впервые я услышал об этом в мастерской у Вялкина. Пол в мастерской только что помыли, и мы сидели на диване, приподняв ботинки над землей. Когда Витя насмешливо сообщил мне о том, что у Коли и Саньки роман, я подумал: какое тебе, философу и богослову, до этого дело? Особенно в свете приближающегося конца света, предсказанного тобой же. Как будто расслышав мои мысли, Вялкин сменил тему разговора. Стараясь не ступать на пол всей подошвой, он на пятках подошел к шкафу и достал книгу «Платон и ведийская философия». Раскрыв наугад страницу, я вцепился глазами в цитату из «Упанишад» и понял, что больше всего на свете хочу читать эту книгу.
– Дашь почитать?
– А ты мне что дашь? – быстро отозвался мой друг и учитель с большой буквы.
– А я тебе дам «Искусство быть собой».
– Насовсем?
– Нет, почитать.
– Я ее читал, – сказал Вялкин, отнял книгу и пошел к шкафу, ступая всей стопой: пол уже почти высох.
Встречаясь изредка с Аллой Акуловой, Олей Нитченко, другими «ойкосянами», я слушал новости о скандальной лав-стори. Связь Коли и Саньки описывали с осуждением и сожалением. Жалели всеобщую любимицу Саньку, осуждали Колю. Говорили, что Коля намного старше Сани, что он меньше ростом. Рост и возраст по-прежнему незнакомого Коли меня не касался, но я все-таки не одобрял этого романа. И вот что занятно: осуждавшие Колю не пользовались в моих глазах никаким авторитетом, во всех остальных вопросах их мнение ничего для меня не значило. Ухаживать за Санькой я не собирался, играть милого Эпа не хотел. Вообще никакого Эпа не хотел играть, если на то дело пошло, – ни милого, ни плешивого, ни гугнивого. Дался мне этот Коля! Но вот для чего этот престарелый коротыш лезет к нашей Саньке?
К Уралу подкатывала весна. Просыпаясь утром, чтобы идти в школу, я видел яркое солнце, которое жарко дышало на шторы. За окном внизу постукивал скребок, разбивавший толстый лед. Выходя из дому, я с тревогой и радостью чувствовал, что в размороженном воздухе оживают все запахи. Ужасно хотелось раскрутить портфель и забросить его за ограду парка, чтобы он летел высоко, долго, красиво и проделал берлогу в крупчатом сером сугробе.
В апреле Николай Сычиков со скандалом ушел из театра. Точнее, он ушел, а скандал остался. На роль милого Эпа быстро нашлась замена – Саша Забалуев, живчик-спортсмен из техникума. Саша Забалуев запомнился какой-то неоправданной бодростью: он разговаривал, точно конферансье на восьмомартовском концерте, и сиял рекламной улыбкой Эдуарда Хиля.
Коля стал врагом «Ойкоса». Раньше участие в спектакле как-то сдерживало оценки его донжуанства, теперь оправданий больше не осталось. Впрочем, Ленка Кохановская продолжала отстаивать справедливость. Однажды я провожал ее из школы, и разговор переключился на Колю с Саней.
– Согласно вейсманистам-морганистам, у них должны родиться дети высокие и пожилые.
– Перестань, – рассердилась Ленка. – Может, она его любит.
Санькина любовь могла оправдать Колю. Колины чувства, выходит, ничего не весили.
– Если серьезно, – сказал я, – Саньке положено быть счастливой. Даже про себя этого сказать не могу. А ей нужно.
– Да, она чудо, – голос Кохановской потеплел. – И ты тоже, сын мой.
Любила она такие словечки.
Все желали Сане счастья. Но каким мог быть ее возлюбленный? Кто был ее достоин? Интеллектуал и атлет, простой сердечный парень, настоящий мужчина, боевой офицер-пограничник, аристократ и звезда, Аристотель с фигурой Гойко Митича или Шопенгауэр с лицом Алена Делона? Единственное, в чем сходились все: ни умом, ни фигурой, ни лицом, ни ростом и возрастом он не должен походить на Колю Сычикова.
7
Боги Олимпа! Как же мне не хотелось идти на премьеру «Милого Эпа»! С какой радостью я бы вытряхнул из своих мыслей упоминание о театре «Ойкос»! И все же меня тянуло туда, хотелось видеть все происходящее и воочию убедиться в правильности своих шагов. Придя во Дворец, я тайком пробрался в ложу. Не хотел, чтобы кто-то меня видел, заговаривал со мной, спрашивал мое мнение. Зал был наполнен школьниками, учащимися техникума. Взрослых почти не было. Вместе со мной в ложе сидели незнакомые девчонки, которые всякий раз оживлялись и начинали бурно шептаться и игриво подталкивать друг друга, когда на сцене появлялся Саша Забалуев. Видимо, он был их знакомый.
На протяжении всего действия я присматривал за Ленкой Кохановской и мысленно выкрикивал гнусные оскорбления в адрес тех, кто приближался к ней со своими репликами, жестами и позами. Но главное было не это...
Странно было смотреть на сцену из зала. Видеть там знакомые лица и понимать, как они далеко от меня. Словно стоять на перепутье и наблюдать, как скрываются из виду мои товарищи, избравшие дорогу, по которой я уже точно не пойду. И все же интересно, куда они направляются, что с ними случится по дороге, встретимся ли мы когда-нибудь и узнаем ли друг друга.
Я хотел убедить себя, что «Милый Эп» был если не падением «Ойкоса», то шагом вниз, и мне это удалось. Лицо поводило от иронии. Глядя на главного героя, я думал, что есть еще один человек, который думает про «Милого Эпа» так же. Этот человек был все еще не знакомый мне Коля Сычиков.
То, что Коля ушел из театра за месяц до премьеры, говорило не в его пользу, но меня с ним это как-то примиряло. Я тоже ушел из «Ойкоса», меня тоже недолюбливали Мила Михайловна и часть актеров. Конечно, он их подвел. Но должен ли он был делать то, что ему противно? Наверное, нет, однако можно было понять это раньше и отказаться от роли в самом начале. Неужели он сразу не видел, что такое этот Эп?
Впрочем, так бывает довольно часто. Люди согласны делать за компанию много такого, что при другом раскладе их совершенно не заинтересовало бы. Думаю, Коля пришел в «Ойкос» и согласился играть в этом спектакле, чтобы быть вместе с этими восторженными мальчиками и девочками, среди которых была и Санька. А потом... Не знаю, что случилось потом. Но Санька простила ему уход из театра, хотя все ожидали, что хотя бы после этого она все поймет и бросит его. Вместо этого примерно через полгода Санька вышла за Колю замуж. Говорят, на свадьбу из всего «Ойкоса» пришла только Алла Акулова. Остальных то ли не пригласили, то ли они сами не явились – не знаю. Но у молодых было множество друзей и знакомых, которые не имели к театру ни малейшего отношения, так что свадьба вышла шумная, веселая, без пустующих мест и неловких пауз.
А в следующем ноябре я наконец познакомился с Колей.
Бывает дружба, о которой долго не догадываешься.
Проходят годы, и, оглядываясь на историю встреч, разговоров, всевозможных превратностей и переделок, понимаешь: рядом был настоящий друг. Это знание может поразить горчайшим раскаянием: понять бы раньше – встречались бы чаще, разговаривали дольше, не теряли столько времени на других знакомцев. Хотя не в чем раскаиваться, не о чем сожалеть – все было так, как только и могло быть. Лишь бы друг был жив, чтобы наслаждаться даром дружбы уже в полном сознании.
Но бывает и дружба, которую нельзя не узнавать с первого взгляда, такая же внезапная и молниеносная, как любовь. Так было с Колей. Хватило двух коротких вечерних часов, чтобы открыть новую, потрясающе счастливую эпоху моей жизни. Впервые появился человек, которому я готов был с радостью раскрыть душу. Жадный интерес, охота узнать друг о друге все, откровение откровенности, когда во время разговора то и дело поражаешься, какой полной жизнью может жить душа. Когда удивляешься самому себе – ты никогда не сказал бы этих слов никому другому, потому что ни при ком другом они не пришли бы в голову.
Мы гуляли по плохо освещенным улицам, сидели до глубокой ночи в гостях друг у друга и без конца разговаривали. О музыке, о Саньке, об «Ойкосе», Миле Михайловне, о живописи, о Рильке и Заболоцком, о родителях, детстве, о женщинах и сексе. Коля был первым человеком, который рассказывал мне о сексе как о высокой материи, вдохновенно и уважительно. В этом вопросе Коля был для меня высшим непререкаемым авторитетом, безоговорчочно признавая мое верховенство в живописи и философии. Это очень важно: чувствовать себя выше и соглашаться с тем, что выше он. Ни в каком другом измерении, кроме дружбы, это невозможно. И еще – нам никогда не хватало времени, чтобы наговориться.
8
Я уже упоминал, Коля с Саней были дороги мне именно как пара, вдвоем. Казалось, они всегда будут молодоженами.
К этому времени они перебрались от Колиной мамы в крохотную двухкомнатную квартиру на улице Энтузиастов. Теперь я прибавил к своим излюбленным маршрутам прогулок и этот – мимо Дома Пионеров в сторону магазина «Мелодия».
Я проходил мимо ограды детского сада и уже издали загадывал, горят ли у них окна. Можно было даже не заходить, а просто увидеть горящее окно, нелепую оранжевую занавеску – и сразу возникало настроение. Квартира Коли-Саньки казалась приютом молодых кочевников.
В ней не было спокойного, надежного уклада, не было защиты обдуманным комфортом. Стены и потолок побелены известкой, дверцы шкафа связаны оранжевым, в тон шторам, бантиком (ключ потерялся во время переезда), раковина в ванной желтела плавными разводами ржавчины. Редкие предметы еле живой мебели жались вдоль стен, как бедные родственники. Но на стуле висела нарядная Санькина кофточка, в углу теплилась гитара, а на полочке в ванной поблескивало множество баночек, флаконов, тюбиков, плойка, расчески, бигуди, фен. На веревке беззастенчиво сохли розовые, черные, изумрудные трусики и иные легкие загадочные вещи из мира фей и запретных видений.
Короче, комфорта не было, а настроение было. Щемяще-любовное настроение, какое бывает в минорных гитарных переборах сквозь жемчужный дым табака, в согласном молчании морозных звезд и в узорах на январском стекле.
9