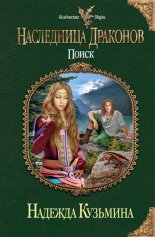Операция «Транзит» Акунин Борис
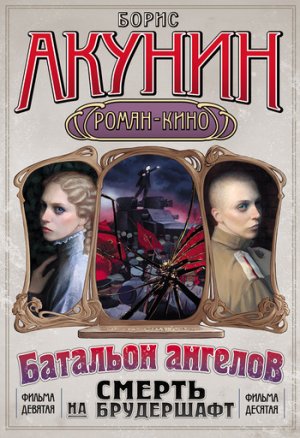
— Хорошо. Я пойду погуляю.
По-солдатски, не тратя лишних движений, переобулся, взял курточку и шапку.
— До свидания, товарищ Кожухов. Нина, я вернусь через два часа — мне нужно приготовить уроки.
И вышел.
— «Нина»? — озадаченно переспросил Зепп.
— Карл знает, что так меня зовут только близкие друзья. И тоже стал. — Она засмеялась тихим, счастливым смехом. — Говорит, что «мама» — это для малышни… У нас целых два часа.
Положила руки Зеппу на плечи, ярко блестящие глаза глядели сверху вниз.
Придется нелегко, подумал Теофельс, но солдат перед трудностями не пасует.
Эх. За родину, за кайзера вперед!
Он свирепо притянул женщину к себе.
ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ
О странностях любви
На непривычную для себя тему, о странностях любви, размышлял Йозеф фон Теофельс, лежа на жесткой аскетической кровати и затягиваясь дешевым табаком. Товарищ Волжанка лежала рядом, тесно прижавшись, нежно водила пальцем по рубцу от пули и думала о чем-то своем. Обычно после постельных удовольствий на женщин нападает болтливость, им хочется говорить и слушать ласковые слова, но эта не приставала, молчала.
Загадочная штука — соитие (мысленно Зепп употребил другое слово, привычное и грубое). Никогда, даже при изрядном опыте, не угадаешь, какой окажется в этом деле баба. Роковая фам-фаталь может разочаровать, а скромница, серая мышка, проявит недюжинный талант. Вот ведь был уверен, что неуклюжая, мужеподобная большевичка будет не чувственней дубового комода. Чтоб войти в форму, активизировал обычный прием возбуждения — представил, что обнимает не малопривлекательную женщину, а сияющую Богиню Победы, на алтарь которой возлагает священную жертву. В трудных случаях вроде нынешнего действовало безотказно.
Но скинув свои безобразные одежды, товарищ Волжанка будто сбросила лягушачью кожу и обернулась — ну, принцессой не принцессой, однако весьма соблазнительной, смелой и одаренной партнершей. В какой-то момент даже пришлось себя осадить, напомнить, что это работа, а не удовольствие.
Может быть, и не стоит так уж опасаться грядущей победы феминизма?
Он искоса посмотрел на женщину, которая еще недавно казалась ему насквозь понятной — и удивила. Значит, не тоскливая марксистская начетчица? Не фанатичка?
Почувствовав его взгляд, Волжанка подняла голову. Ее зрачки были расширены, губы влажны. Кажется, без бабьего сюсю все-таки не обойдется. Ну-ка, что это будет? «Мне так хорошо». Или: «Тебе хорошо со мной?» Или: «Ты такой милый». Еще вариант: «У тебя стучит сердце». Ассортимент фраз заранее известен.
— Когда Старик попадет в Россию, всё встанет на свои места, — убежденно и страстно сказала Волжанка. — Бессмысленное брожение прекратится. Он направит энергию масс в правильное русло. Старик — это мощный ум и стальная воля. Он сразу видит, в чем слабость врага, и наносит концентрированный удар именно в эту точку. Любая болтовня, мелкая вражда самолюбий прекращается, когда он возглавляет организацию. Это настоящий природный вождь. Вы увидите, Россия станет социалистической уже в нынешнем году. Мы заключим мир с Германией, даже капитулируем — это еще лучше. Тогда немецкие солдаты окажутся среди нас, не опасаясь выстрелов. Они такие же рабочие и крестьяне. Они увидят, где правда! Германия и Австрия сбросят своих монархов, а потом пожар революции перекинется на остальную Европу! Старику тесно в России. Ему нужен весь мир. И ради этой великой цели, ради обновления человечества можно пойти на любые жертвы!
Должно быть, он не вполне совладал с лицом — Волжанка запнулась и сдвинула брови.
— Вы напряжены. Что-то не так? А, я знаю, что вас беспокоит. Вы боитесь, не помешает ли работе то, что между нами произошло? Не помешает. Видите, я даже не перешла на «ты».
Она отодвинулась, нахмурилась еще больше.
— Или дело в другом? Вам… не понравилось? Скажите прямо, я за честность в отношениях. Это тоже не помешает работе. Если я вам неприятна, то, что случилось, больше не повторится.
Все-таки без «Тебе хорошо со мной?» не обошлось. Но это черт с ним. Встревожило иное: второй раз за день прозвучало зловещее предсказание о том, что большевистская революция перекинется из России в Германию. Они все в этом абсолютно уверены! Возможно ли, что дисциплинированная, лучшая в мире армия нарушит присягу и под воздействием иностранной пропаганды обратит штыки против своих командиров?
Чушь. Как и бредни о социалистическом рае.
Почему ж тогда на душе кошки скребут?
— Вы мне очень приятны, — сказал он. — Так приятны, что я хотел бы продемонстрировать вам это еще раз, прямо сейчас…
Товарищ Волжанка издала несолидный звук — хихикнула. В это самое мгновение дверь спальни с грохотом распахнулась.
Сюрприз!
Зепп оттолкнул женщину, перекатился по кровати, упал на пол возле стула, на котором лежала одежда, выхватил свой «бульдог» и лишь потом развернулся. Всё это заняло максимум полсекунды, но это было слишком долго.
Тот, кто ворвался в комнату, уже держал Теофельса на мушке.
Товарищ Грач, собственной персоной. Всё в том же бушлате и картузе, но не рассеянно-небрежный, а пышащий гневом.
— Без нервов! — сказал он Зеппу. — Пока спустите предохранитель, я выстрелю… Ну, так-то лучше.
Это он сказал, когда майор отшвырнул револьвер в сторону. Грач был прав. Не имело смысла попусту нарываться на пулю.
Морща нос, большевик оглядел голого Зеппа и Волжанку, не торопившуюся прикрыться.
— Я гляжу, у вас праздник весны и любви, — зло произнес он. — Ну встречайте: грачи прилетели.
— Что ты делаешь?! — крикнула Волжанка. — Зачем ты угрожаешь оружием?
Не сводя глаз с Зеппа, Грач приказал:
— Нина, забери свое тряпье и выйди. Оденешься за дверью. Нам с ним надо поговорить. По важному и секретному делу.
Оружие, однако, убрал. Игрушка у товарища большевика была серьезная, «четырнадцатый» маузер.
Волжанка встала с кровати, совершенно не стесняясь наготы.
— Мы собирались тебя искать. Ты не представляешь, что произошло…
— Я вижу, как вы собирались, — перебил он. — Всё, Нина. За дверь!
Она вспыхнула, но больше не сказала ни слова. Вышла, прихватив юбку с блузкой.
Зепп, не теряя времени, одевался. Не из застенчивости. В кармане брюк у него имелась полезная вещица: портсигар с двумя стволами 30-го калибра. Мог пригодиться.
— Баба есть баба, даже если стриженая и с папиросой, — сказал Грач, когда за хозяйкой с грохотом захлопнулась дверь. — Все они передним местом думают… — Он недобро смотрел на Зеппа. — Ну, и на кой бес вы это сделали?
— Не ваше дело!
Майор как бы расправлял смявшийся карман, а на самом деле нащупывал спусковую кнопку на портсигаре. Сразу стало спокойнее.
— Да я не про это! — Грач мотнул головой на мятую постель. — Зачем вы, сарделька немецкая, Железнова шлепнули?
Руку из кармана Теофельс вынул, потер ею подбородок.
— Вопрос первый: откуда узнали про Железнова? Вопрос второй: вам сообщили про меня из Берлина?
Грач передразнил:
— Ответ первый. Приставил к вам человечка, а как же.
— Почему? — спросил Зепп, мысленно чертыхнувшись. Совсем он тут, в Цюрихе, развинтился. Слежка-то, выходит, была двойная: Волжанка и еще какой-то «человечек».
— …Ответ второй, — не дал себя сбить Грач. — Из Берлина про вас никто не сообщал. Да мне и незачем. Связался с екатеринбургским Советом по телеграфу. Был, говорят, у нас Кожухов, боевой товарищ. В феврале, когда жандармское управление штурмовали, погиб смертью храбрых. Я сначала решил: еще одного подослали. Господин Люпус активничает. Но когда вы Железнова профессионально убрали, понял: фальшивый Кожухов пожаловал из Берлина. Так чем вам, герой-любовник, наш Железнов помешал?
Проклятые халтурщики из оперативного отдела! Сляпали дырявую «легенду»! Конечно, из-за революции обычные каналы информации начали давать сбои, но для сверхважного стратегического задания можно ведь было обойтись без такого грубого ляпа!
— Железнов оказался платным агентом Люпуса, — буркнул раздосадованный майор.
Добро б еще асы контрразведки выявили, а то какой-то революционный клоун с птичьей кличкой. Стыд и срам!
— Знаю. Давно знаю. — Грач присовокупил матерное слово. — Сегодня нарочно при Железнове про отъезд рассказал. Всё правда — и про вокзал, и про послезавтра. Только не в полночь мы отбываем, а в восемь ноль ноль. Потому всем и приказано в кафе к семи собраться. Люпус с его люпусятами разработали бы операцию, рассчитывая на двенадцать ночи. И поцеловали бы наш поезд в задницу. А теперь из-за вас весь план насмарку. Переполошатся, что агент разоблачен. Забегают. Им Старика из Швейцарии выпускать никак нельзя.
Зепп слушал нотацию, как жалкий двоечник. Нечего было даже сказать в оправдание.
А Грач еще и подбавил:
— Идиоты проклятые! Почему было со мной не связаться? Зачем эта дурацкая игра в прятки? Или вы не знаете, что у семи нянек дитя без глазу? Я жизнью Старика рисковать не дам. Отменю к черту весь ваш транзит, будете знать. Вам же первому начальство башку оторвет. И правильно сделает!
ПАТРИОТЫ
В авто
Техническая новинка, затемненные окна, — вещь отличная, но когда сидишь в кабине и ведешь наблюдение в бинокль, хорошего фокуса добиться трудно, изображение в окуляре расплывается.
Из подъезда номера 19, где квартировала Антонина Краевская («Волжанка», а по-агентурному «Вобла»), вышли двое. Один известен. То есть имя настоящее не установлено, но фигура знакомая: «Джинн», он же «Грач», начальник охраны «Лысого». Второй (рост выше среднего, телосложение худощавое, небольшие усы, одет бедно) по сводкам, кажется, не проходил — новенький. Лицо как следует не разглядишь — воротник поднят, да и мутновато.
Молодой голос сказал:
— Иван Варламович, не прижимайтесь вы. У вас щека плохо выбрита, царапается.
— Извиняюсь, Николай Константинович, — ответил второй голос, сипловатый, низкий. — У вас, между прочим, воротничок крахмальный углом мне в шею, но я же терплю, кошки-матрешки… О чем это они толкуют? Послушать бы. Встали. Вроде прощаются?
— Повернись, голуба, дай тебя рассмотреть, — жалобно попросил первый незнакомца, с которым беседовал Джинн. — Вот та-ак, умничка.
И вдруг присвистнул.
Второй удивился:
— Чего это вы?
— Дайте, Иван Варламович!
Молодой отпихнул пожилого, с которым до этой секунды они смотрели в соседствующие окуляры большого артиллерийского бинокля. Взял «цейс» обеими руками, покрутил колесико.
— Он! Точно!
— Да кто?
— Фон Теофельс! По портрету узнал! В конце прошлого года проходил по всем ориентировкам! Это немец, который пытался убить государя!
За темным стеклом
Ивана Варламовича чем-либо удивить было трудно. Он лишь вздохнул и по привычке к педантизму поправил:
— Не государя, кошки-матрешки, а гражданина Николая Романова. По нынешним рэволюцьонным временам немцу впору медаль давать.
Оба сидели на заднем сиденье «паккарда», поставленного так ловко, что из-за угла высовывался лишь край кузова. Прохожие шли себе мимо, через хитрые американские стекла парочку с биноклем им было не видно.
— Пойду-ка я прогуляюсь, — молвил Иван Варламович. — Может, услышу что полезное.
Из автомобиля он вылез с другой стороны, чтоб из переулка не увидели. Прогулочной походочкой, этаким ленивым бюргером, двинулся по переулку, мимо беседующих мужчин. Только те уже прощались.
Джинн, не подав Теофельсу руки и даже не кивнув, зашагал в сторону дальнего перекрестка. Немец же скрылся в подъезде.
Вернувшись к автомобилю, Иван Варламович доложил:
— Услышать ничего не услышал, зато кое-что увидел. Немец-то, похоже, у Воблы в любовниках. Одевался наскоро, из штиблет голые щиколотки торчат. А еще я, Николай Константинович, пока гулял, пришел к рассуждению, что это Теофельс ваш беднягу Пискуна кокнул. Больше некому. Джинн у нас на поводке был, а других ловкачей, кто так красиво самоубийство изобразит, у товарищей большевиков нету.
— Очень возможно.
Николай Константинович Леонтович — совсем молодой брюнет с острым, несколько лисьим лицом и очень быстрыми движениями — сосредоточенно что-то строчил в блокнотике. У него имелась привычка: мелкие детали записывать по горячим следам. Так его научили на курсах, где он постигал премудрости разведочного дела.
Иван Варламович Шишко, сотрудник швейцарской резидентуры еще со времен предпоследнего царствования, вначале относился к методам молокососа-начальника иронически, однако впоследствии отношение переменил. Мальчишка-прапорщик, присланный в январе из Петрограда, был молодчага и орел, невзирая на зеленый возраст и смешной чин. Иван Варламович при нем, можно сказать, переживал вторую молодость.
Когда-то он тоже слыл птицей клювастой и когтистой, выслеживал боевиков, рисковал жизнью. Но лет десять тому беготня эта кончилась, опасные террористы в Швейцарии повывелись. После начала войны стало поживей и работы прибавилось, но все равно: нейтральная страна, нарушать местные законы ни-ни, даже оружие при себе носить инструкция запрещала. Только вести наблюдение за кем прикажут, передавать эстафеты. Кругом война, конец света, а в Цюрихе тишь, благодать. Отъел Иван Варламович брюшко, начал готовиться к недальней пенсии. Кровь у него в жилах текла азартная, филерская, но разогнать ее особенно было негде. От скуки, нервы пощекотать, пристрастился он к глупой забаве — лазить по ледникам с альпенштоком.
Но пару месяцев назад прежнего начальника, статского советника Кукушкина, отозвали в Россию. Прислали выскочку военного времени, вчерашнего студента с дурацкой кличкой «Люпус» (у господина Кукушкина никакого агентурного прозвания не было, и донесения он подписывал инициалами). Появилась перед самой революцией такая мода: назначать людей на видные должности не по выслуге, а по заслуге. Эх, кабы раньше так было! Люпус, даром что сопляк, успел и пороху понюхать, и в тысяче переделок побывать, а главное — не было в нем страха ни перед врагом, ни перед начальством.
Пошла у Шишко совсем другая жизнь. Вспомнил конь боевой: не для пашни, а для скачки на свет он рожден.
Перво-наперво прапорщик Леонтович велел наплевать на дипломатические инструкции. На войне без оружия только полковые попы ходят. Во-вторых, решил проблему Воячека, помощника австрийского резидента. В мирные времена, бывало, пивко вместе пили, а теперь не стало от шустрого австрияка никакой жизни. Совсем обнаглел, зная, что опасаться ему нечего. Пожаловался на него Иван Варламович новому начальнику, а тот говорит: «В чем загвоздка? Дайте мне на него ориентировку: адрес, явки, привычки. Я этот гнилой зуб в два счета выдерну». И стало Ивану Варламовичу стыдно, что он так обабился. От помощи отказался, обошелся своими средствами.
Лег герр Воячек в сырую землю, с двумя пулями в груди, а у самого Ивана Варламовича на память осталась отметина повыше коленки, от касательного ранения. Успел старый знакомец в него разок-другой пальнуть, да промазал. А могло и наоборот выйти, очень запросто. С этого момента встряхнулся Шишко, взбодрился, помолодел лет на пятнадцать. При Люпусе скучать и сидеть без работы не приходилось. Альпеншток с шипастыми бутсами валялись в кладовке — азарту теперь хватало и без них.
Насчет Леонтовича было еще вот что интересно. Раньше в агентуру шли дворняжки беспородные, у кого ни гроша за душой. Шишко и сам был из таких. Копил швейцарскую копеечку, экономил на суточных-разъездных. Статский советник Кукушкин тоже себя не обижал: напишет в отчете, что заплатил за информацию тысячу франков, а сам даст пятьсот, остальные — в карман. Если б Кукушкин в Цюрихе оставался, когда грянула революция и финансирование закончилось, тут бы и конец всей резидентуре. Не стал бы его высокородие всухую работать.
Люпус — другого поля ягода. Не ради жалованья и наградных в разведку пошел. Родитель у него солидный человек, заводчик, денег для сына не жалеет. Когда в марте месяце Петроград замолчал, а господин военный агент из Берна сообщил, что служба закончена, платы больше не будет, Люпус велел на это наплевать. «Не военному агенту служим и не Петрограду, — сказал. — Пока война не закончена, будем воевать. Монархия у нас или республика, все равно. Россия есть Россия, никуда не денется. А насчет жалованья, Иван Варламович, не переживайте. Буду пока из своего кармана давать. А через месяц-другой у них там дурная кровь от мозгов отхлынет, поймут, что и республике без загранрезидентуры обойтись невозможно». И платил, как положено: в прежнем размере, в срок. А хоть бы и не платил. Шишко своего молодого начальника к тому времени так крепко зауважал, что исполнял бы должное и за спасибо.
Главную цель деятельности Люпус определил сам, по своему разумению. А разумение у мальчика было получше, чем у прежних начальников.
Люпус сказал: «Главная опасность для России — что революционная бацилла дальнейшее воспаление произведет. Самый смертоносный микроб у нас в Цюрихе пребывает. Господин Картавый, которого большевики зовут „Стариком“, а немцы „Лысым“. Счастье, что он застрял в швейцарском карантине. Мы при этом карантине вроде санитарного кордона. Если дадим Лысому проползти в Петроград — убить нас мало. Ну и болваны же руководили вашей Охранкой, Иван Варламович! Гонялись за эсэрами и анархистами, большевики у них, видите ли, считались безобидными говорунами. А их отстреливать надо было, как бешеных собак. И, клянусь, мы это сделаем, как только Лысый всерьез засобирается домой».
Вот он, сердешный, и засобирался. Да только поди-ка к нему, подступись. Носу со своей квартиры не высовывает. Вокруг дежурят людишки Джинна, берегут своего вождя. А со вчерашнего дня Лысый вообще куда-то пропал. Не иначе перевезли в безопасное место — и не выяснить, куда именно.
Проще всего будет его перед посадкой в поезд достать. Но для этого нужно узнать, откуда и во сколько он отбывает.
— Без Пискуна мы как слепые щенки, — сказал Люпус, когда они перебрались с заднего сиденья на переднее. Завел мотор. Он любил водить машину сам. — Что делать будем, Иван Варламович?
Шишко погладил седоватые усы.
— Поехали ко мне. Чайку попьем. В шахматишки посражаемся. Авось что и придумаем. Опять же Марья Васильевна моя, поди, соскучилась.
За шахматишками
Марья Васильевна была кошка почтенного тринадцатилетнего возраста, когда-то вывезенная Иваном Варламовичем из родного города Калуги после очередного отпуска. Попивши теплого молока с хлебными крохами, она дремала на столе под горячим боком самовара. Хозяин Марью Васильевну баловал, разрешал ей любые вольности и часто вел с нею беседы. Другой семьи у Ивана Варламовича не было.
Он допивал уже третий стакан, а Люпус едва пригубил первый, и к медовым пряникам, которые Шишко покупал в еврейской лавке, не притронулся. У прапорщика шел мыслительный процесс. В такие моменты ни пить, ни есть Николай Константинович не мог.
Партия в шахматы тоже была одно название. Черного короля Люпус назначил Лысым, поставил в центр пустой доски и обставлял разными фигурами. Одна из них, пешка, лежала сбоку, обозначая убитого Пискуна. Белый ферзь, то есть Теофельс, и черный ферзь, то есть Джинн, вопреки всякой шахматной логике охраняли короля с обеих сторон. Им помогали слоны и кони — большевистские охранники.
Сидели по-русски, на кухне. Квартирка у Ивана Варламовича была уютная, достался ему от бога такой талант — повсюду устраиваться вкусно и обстоятельно. Думать начальнику он не мешал, с аппетитом кушал пряники, макая их в варенье. Уличный пиджак, чтоб не запачкать, сменил на удобную домашнюю кофту.
— Как же до черта этого добраться? — в десятый раз спрашивал Люпус. — Попасть бы только к отправлению поезда. Даже близко подходить необязательно. Я бы его, гадину, и с двадцати шагов положил. Пускай потом хоть на месте убивают, хоть в полицию сдают. С чистой совестью умру или в тюрьму сяду.
— Оно конечно. С чистой совестью, кошки-матрешки, ничего не страшно, — поддакивал Шишко, чтоб морально поддержать юношу.
Сам-то он думал, что, ежели б узнать время отъезда, то совсем необязательно на рожон лезть. Найдутся способы побезопасней. Однако до поры до времени не возражал. Прапорщик был остер умом, что-нибудь да придумает. А уж в проработке деталей можно будет и поучаствовать.
Николай Константинович засопел острым носом. Стал вертеть в руках одну из пешек, внимательно ее разглядывая. И умолк. Это был хороший признак.
Молчание длилось долго, и Шишко пока стал думать о приятном. Как после войны всё устаканится, перемелется, и выйдет он на пенсию, снимет со счета нетронутые инфляцией надежные швейцарские франки и купит в чудесном городе Калуге дом с палисадником. Чтоб нижний этаж был каменный, а верхний бревенчатый. В Швейцарии тоже такие есть, «шале» называются, но только где им до калужских.
— Расскажу я вам одну историю, — сказал Люпус. — Из недавнего прошлого.
И рассказал. Слушать его Шишко любил, потому что истории у Николая Константиновича были всегда интересные и говорил он, будто кино показывал. Так всё прямо и видишь.
Рассказ Люпуса
Вы, Иван Варламович, знаете: перед тем как в загранрезидентуру перейти, я в контрразведке работал. Последнее время в группе поручика Романова. Не слыхали про такого? Услышите еще. Восходящая звезда контршпионажа. Талант. Тоже, как я, из студентов Петербургского университета. У него крест георгиевский. Сами знаете, какая это в нашем ведомстве редкость, а у Романова солдатский и офицерский. Не в крестах, собственно, дело. Романов — человек железный. У него было чему поучиться. Раз, прошлой осенью, преподал он мне урок, на всю жизнь.
Взяли мы поляка одного, из агентуры Пилсудского. Вы тут в Швейцарии с «Польской организацией войсковой» не сталкиваетесь, а в России она нам много крови попортила. Ведь поляков в империи мильоны. Поди знай, кто из них ради независимой Польши на врага шпионит. Понять-то поляков можно, я бы давно их отпустил из державы к чертовой бабушке, коли они с нами жить не желают. Насильно мил не будешь. Но во время войны не до сантиментов.
В общем, следили мы за их сетью, но брать никого не решались. Перышко ухватим, а птица улетит. Романов всё повторял: не торопимся, не торопимся, наверняка нужно — чтоб непременно на «крысу» из штаба выйти.
Дело в том, что из штаба Петроградского округа через польскую агентуру шла утечка секретных сведений. Работал там на них кто-то, а кто — вычислить никак не получалось.
И вот говорит однажды поручик: «Работаем! У Рыжего жена двойню родила. Счастливый папаша нам всё расскажет. Не он, так мамаша — она Стацинскому единомышленница и боевая подруга». Был у поляков в сети ключевой человек один, по фамилии Стацинский, агентурная кличка «Рыжий». Инженер, в конце Литейного жил. Мы давно за ним следили и что жена беременная, знали. Родила она, стало быть — двойню.
Взяли мы супругов Стацинских ночью, прямо в кровати. Они на последнем, четвертом этаже жили, так мы с крыши через окно проникли.
Но хоть сработали аккуратно, а только вижу: дело дрянь. Во-первых, не понравилось мне, что Рыжий, когда револьвер из-под подушки выхватил, его не на нас, а себе в висок направил. Еле Романов успел ему запястье вывернуть. Во-вторых, жена неприятно удивила. Ни писку, ни крику. У нее в люльке два грудных младенца орут, на ночной рубашке пятна от молока расплываются, а Стацинская зубы стиснула и в глазах одна только ненависть. Гордая полячка.
Я шепотом Романову говорю: «Пустое, Алексей Парисович, ничего они нам не скажут».
Он, однако, работает с арестованными по всей науке, психологически давит. Мол, детей придется в Воспитательный дом отдать, грудные там редко выживают, жалко бедняжек и всё такое.
— Жалко, — кивает Рыжий и улыбается. Жена не улыбается, кусает губы, но тоже — стена каменная.
Тогда Романов мягче берет:
— Скажите, кто вам из штаба округа сведения дает, и я распоряжусь оставить детей при матери. Больше, честное офицерское, ни одного вопроса не задам. Товарищей своих можете не выдавать. Что вам этот «Оракул», продажная тварь? Он ведь не поляк даже.
Ловко подъезжает, думаю. Товарищей Рыжего мы и так почти всех знали, а что «Оракул» — не поляк, это предположение было. Всех офицеров польской крови, кто мог иметь доступ к секретным данным, мы под микроскопом проверили.
Но Рыжий и на это не купился, замолчал вглухую. Еще и глаза прикрыл: не желаю ни разговаривать, ни рож ваших видеть. Зато жена его вдруг улыбаться начала, этак психовато, экзальтированно. Взгляд к потолку обратила и всё крестик золотой на шее теребит.
Полный крах, думаю. Ушла сеть под воду вместе с добычей, одни обрывки у нас в руках останутся.
Романов белый, весь затрясся. На Рыжего перестал обращать внимание, на панночку переключился.
— А-а, — рычит, — это вы, верно, думаете, что детей ваших Бог католический спасет? Не спасет! Если вы сами их не спасете, никто не поможет!
Махнул ребятам, чтоб взяли супругов покрепче. А сам — я глазам не поверил — берет из колыбельки одного малыша. Мальчик. Рыженький, как папаша. Вопит, надрывается, рожица от натуги багровая.
Мать забилась, но ее два бугая здоровых держат. Стацинского — четверо. Тот, правда, не шелохнулся, только глаза широко открыл.
А окно, через которое мы давеча влезли, открытое осталось. Романов перегнулся через подоконник, ребенка наружу высунул. Обернулся.
— Считаю до пяти — и выброшу. А потом второго!
И такое лицо бешеное, такой голос, что никаких сомнений. Выбросит!
Он до трех досчитал, потом полячка назвала фамилию. Мы гада этого, штабс-капитана из мобилизационного отдела, чистого русака, даже не подозревали.
Потом, когда арестованных увезли (мамашу вместе с детьми, как обещано), я Романова спрашиваю: «Неужели правда младенцев в окно бы выкинули?»
У него зубы клацают, глаза — черные дырки.
И говорит он мне:
— Я, Николай Константинович (он с сотрудниками-офицерами всегда на «вы», не признает фамильярности), я, говорит, думал, что первого выкину, а когда так же возьму второго — она обязательно расколется. Если устоит, второго верну в колыбель. Зачем зря убивать? А потом в любом случае — расколется она или не расколется — застрелюсь. Потому что как на свете жить, если ребенка убил?
Он вообще-то немногословный, Романов, а здесь, от нервов, разговорился:
— Я с Достоевским про слезу ребенка категорически не согласен. Поганое интеллигентское чистоплюйство. Ручек своих белых даже ради спасения отчизны не замараю — вот что эти слова значат. А я замараю. И жизнь положу, и самое душу на кон поставлю. Бог, если Он есть, после решит, есть мне прощение или нету. А долг свой я исполню.
Вот какой урок преподал мне поручик Романов.
Иван Варламович покачал круглой, очень коротко стриженной головой.
— Да-а, кошки-матрешки, серьезный человек…
И поперхнулся, глядя на собеседника. Крякнул. Ну, племя молодое, незнакомое!
НЕБОНТОННАЯ ИДЕЙКА
8 апреля
— Нина, я погуляю? — спросил он. — Русский я сделал, задачи по арифметике решил. Абрам Львович сказал, что я молодец.
Карл в швейцарскую школу не ходил, потому что там буржуазное образование и хорошему не научат. Русскому, арифметике, истории, географии и природоведению его учил Абрам Львович, немецкому — товарищ Людвиг, французскому — Клементина Сергеевна.
Мать согласилась очень быстро:
— Хорошо, но не уходи, будь в сквере. Я тебя позову. И начнем собирать вещи.
На самом деле гулять не хотелось. Скверик напротив дома Карлу до смерти надоел. Ни поговорить, ни поиграть с кем-нибудь вменяемым. Одни бонны с колясками, а сейчас, например, вообще ни души, только молодой человек читает книжку. Наверное, студент с медицинского факультета — университетская клиника в пяти минутах.
Но к Нине скоро придет товарищ Кожухов. Им нужно побыть вдвоем. Потому что у них физические отношения.
Мужчины и женщины должны вступать в физические отношения. Это естественно и здорово, Нина всё объяснила. Попросила только о подробностях не расспрашивать, потому что Карлу про это знать еще рано. Он и не расспрашивал, просто прочитал статью в энциклопедии. В принципе всё понял. Когда-нибудь, наверное, тоже придется всем этим заниматься, раз положено по природе. Но в статусе ребенка есть свои плюсы. Можно не работать, не ходить на войну, не тратить время на отношения с женским полом.
Хотя на войну Карл бы с удовольствием пошел. Если она, конечно, справедливая — за освобождение пролетариата. Но товарищ Людвиг говорит, что революция только начинается. Сначала она должна окончательно победить в России, и без больших сражений здесь не обойдется. А потом начнется мировая революция, и по всей планете рабочий класс станет драться с капиталистами. Дело это долгое. Не меньше, чем лет на десять. К тому времени Карлу будет уже девятнадцать. Так что повоевать успеем. Пока же надо учиться.
Вот Отец — он был герой и отдал жизнь за товарищей, но учился недостаточно и потому угодил к социалистам-революционерам. Ужасно обидно! Как можно было в девятьсот седьмом году, через целых четыре года после Второго съезда РСДРП, не понимать: крестьянство не может быть революционным классом, потому что всякий сельскохозяйственный труженик в душе мелкий собственник и индивидуалист.
От мыслей об отцовских заблуждениях Карла отвлекло слабое жужжание, доносившееся сверху.
Он задрал голову, жадно вглядываясь в небо.
Так и есть — аэроплан! «Фарман», четвертый.
Когда наступит коммунизм, все города перестроят. Крыши у домов будут плоские, и на каждой — посадочная площадка для летательных аппаратов. Сел и полетел куда надо. А улицы будут, как газоны, сплошь в траве. По ним можно будет только пешком гулять или на велосипедах ездить. Ни извозчиков, ни авто. Здорово!
Самолет скрылся за горой Ютлиберг.
Карл медленно пошел через улицу к скверу. У края тротуара лежала жестянка из-под компота. Разбежавшись, мальчик влепил по ней пыром — и она взлетела, а потом загрохотала по брусчатке.
И еще при коммунизме все будут играть в футбол.
Отворяйте ворота!
Дзынь-дзынь, трата-та, отворяйте ворота! Иван Варламович не только позвонил, но и пылко постучал, как это сделал бы нетерпеливый кобелек.
После этого, как и предполагалось, хозяйка открыла не спрашивая. Вообразила, что это любовник пришел раньше условленного времени. Нетерпеливой страстию пылая.
Вобла с фон Теофельсом договорились на пять (Люпус, гений техники, подключился к телефонной линии и подслушал), а сейчас было без двадцати.
Удивилась она, конечно, увидев незнакомого человека. А когда незнакомый человек сунул ей под нос пистолет, то и ойкнула.
Начало обнадеживало.
Иван Варламович слегка толкнул большевичку в плоскую грудь, шагнул в прихожую, дверь за собою прикрыл.
— Что вы так напугались, сударыня? Ишь, побелела-то. Это не смерть ваша, товарищ Волжанка. Это всего только испытание.
— Какое испытание? — ошалело пролепетала она.
— Материнского сердца.
Оглядел Иван Васильевич невеликую квартирку, сориентировался. Вобла за эти секунды несколько опомнилась.
— Что вам нужно? Вы из Охранки?
— Прежде, так точно, состоял по линии Охранного отделения. — Он снова подтолкнул ее в направлении спальни. Времени лясы точить не было. — Ныне же гражданин свободной России. И, заметьте, патриот.
Спаленка монашеская. Кроватка железная. На такой не с мил-другом куролесить, а постные сны смотреть. Но окно выходило куда следовало, не ошибся Иван Варламович, когда с улицы смотрел.
Он перешел сразу к делу.
— Один вопросик, мадам. Маленький. Когда отбывает Старик? То есть, мне известно, что завтра. Но откуда именно? И, главное, во сколько?
А она вместо ответа:
— Что вы такое про материнское сердце сказали?
— Про сердце после. Это, может, вовсе и не понадобится. Так я вопросец задал.
Она руки на груди сложила, подбородок вверх.
— Или стреляйте, или убирайтесь. Вон отсюда!
Значит, понадобится. Охо-хо, грехи наши тяжкие…
Тем временем в сквере
С гулянием сегодня повезло. Карл думал, опять придется сучком на земле баррикадный бой рисовать, а потом затирать, чтоб герр Ланге, садовник, не ругался. Но студент, что читал книжку, вступил в разговор.
— Ты что это рисуешь?
По-немецки он говорил с акцентом. Оказался поляк, из Кракова. Почти земляк.
Много интересных штук показал. Например, надвинул кепи себе на самые глаза, раскрыл перочинный ножик и вслепую стал кидать в дерево. Что ни бросит — торчком. Здорово!
Карл ему сначала просто ножик подносил, потом попросил научить.
Ян (так студента звали) положил ему руку на плечо, занес ножик и стал показывать правильный замах.
В мансарде
Теперь бабенка вскрикнула погромче, чем возле двери.
— Карл!
Иван Варламович ей ладонью рот прикрыл.
— Тссс! Потише, милая. Что орать-то, соседей тревожить? Подумаешь — Карлуша товарища сыскал. Пускай в ножики поиграют. Про Дмитрия-царевича помнишь? Вот и он так же забавлялся.
Любил Иван Варламович в спокойный вечерок из русской истории что-нибудь почитать. Про царевича Дмитрия, отрока невинно убиенного, очень к месту вспомнилось. Культурно. А на «ты» Иван Варламович с Воблой нарочно перешел. Дожимать ее пора было. Без четверти пять уже.
— Не трясись ты, дура. Это мой приятель, очень хороший человек. Не станет он твоего сынулю резать. У Люпуса (звать его так) руки исключительной силы. Вот так положит на затылочек. — Он взял Воблу пальцами сзади за шею и сжал. — Этак вот повернет, и позвонки — хрясть. Много ли ребенку надо? Шейка-то цыплячья. А резать — нет, резать не станет.
— Мерзавцы! — захрипела она. — Подлецы!
— Э-э нет, товарищ Волжанка. — Иван Варламович посуровел. — Ты нас в подлецы не записывай. Деточек Столыпина, Петра Аркадьича, ваши взорвали — не пожалели?
— Это сделали анархисты!
— Брось. Вы, большевики, пострашней анархистов… — Теперь следовало мягкости подпустить и снова на «вы» перейти. — Так я насчет материнского сердца интересуюсь. Ежели вы несгибаемость проявите и собственное дитя погубите, знаете кто вы после этого? Чудовище и гадина последняя. Ехидна, что собственных детенышей пожирает.
Кто такое «ехидна» и питается ли она своим потомством, Иван Варламович доподлинно не ведал, но его несло вдохновение.
— Мне ведь, кошки-матрешки, довольно платочком махнуть. — Он достал стираный-перестиранный платок. — И отлетит душонка к ангелам. Как решать будем?