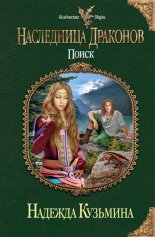Операция «Транзит» Акунин Борис
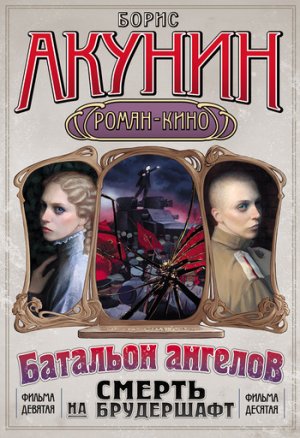
И стало вдруг Романову среди всеобщего веселья невыразимо грустно. Он поднял взор со смеющихся женских лиц на черное знамя — нашитый на полотнище череп пялился на штабс-капитана пустыми глазницами.
Бочка подняла руку, смех утих.
— Кончено с вопросами. Батальо-он, смиррно! — Шеренги выровнялись. — У господина военного министра к нам большая просьба. Нынче на Марсовом поле манифестация в защиту отечества. Известно, что германские наймиты — большевики попробуют ее сорвать! Приведут с окраин горлопанов, станут требовать мира любой ценой! Революционное правительство России просит нас, женщин-патриотов, о помощи! Покажем Петрограду, что такое любовь к Родине! Пойдут первые взводы от каждой роты. Строем, при оружии! Остальным взводам продолжать обычные занятия!
С боевой песней
Под лихую песню «Взвейтесь, соколы, орлами, полно горе горевать» — высокую, чтоб не слишком дико звучали тонкие женские голоса — сводный отряд из четырех взводов шел маршем по Английской набережной. Впереди командирша и ее помощник, потом чеканная Голицына с развернутым знаменем, за нею две ассистентки, четыре бравых унтер-офицера и потом уже стройная колонна. Солнце прыгало огоньками по лезвиям уставленных в небо самурайских штыков.
Первые взводы Бочка взяла неслучайно — в них подбирали ударниц, которые лучше показали себя в учении.
Романов поминутно оглядывался. В прежние времена этакое равнение, вероятно, считалось бы паршивым, но по нынешним революционным временам, когда обычные солдаты разучились попросту ходить в ногу, строй Ударного батальона смотрелся образцово. Среди зевак, глазевших на диво-дивное чудо-чудное — военных баб, рёгота и свиста почти не слышалось, преобладали возгласы поощрительные, даже восторженные. Кто-то, впрочем, и вытирал слезы, но таких было немного.
Бочарова ни разу не обернулась — желала продемонстрировать, что полностью уверена в своем войске. Но Алексей знал, что начальница ужасно волнуется.
Не исключались провокации и даже столкновения. От большевиков не приходилось ожидать джентльменского отношения к женщинам. Их газетенки и листовки писали про ударниц чудовищные гадости, печатали похабные карикатуры. Можно было не сомневаться, что пораженцы накинутся на доброволок с грязной бранью, а может быть, и с кулаками. Бочка очень боялась, что «девочки» не выдержат натиска и разбегутся. Случись такое — и женскому ударническому движению конец, оно станет всероссийским посмешищем. Поэтому место на Марсовом поле сводному отряду было отведено защищенное: с одной стороны юнкера, с другой — герои-инвалиды.
Только туда еще нужно было добраться, а с Васильевского острова по Благовещенскому мосту валил плотный поток — понизу темный, поверху кумачовый. На флагах серпы и молоты, на транспарантах надписи: «Долой империалистическую войну!», «Хватит проливать братскую кровь!», «Смерть мировой буржуазии!».
— Беда! — краем рта сказала Бочка. — Не поспели! Пропустить их, что ли? Скомандовать «Стой»?
Авангард большевистской колонны миновал мост и замедлил ход — там тоже заколебались, не пропустить ли вперед небольшую, но организованную и вооруженную воинскую часть. Путь к месту манифестации отсюда был один, вдоль Невы.
Песня про соколов-орлов ослабела и стихла. Рабочие, нестройно горланившие про проклятьем заклейменного, тоже умолкли.
— Солдаты! С винтовками! — загалдели на мосту. — Нет, юнкера!
Кто-то там начальственно крикнул:
— Спокойно, товарищи! Без паники! Манифестация для всех! Ничего они нам не сделают!
Солнце светило в глаза большевистскому скопищу. Но вот кто-то глазастый заорал:
— Ребя! Это не юнкера! Бабское войско Сашки Керенского!
— Точно! — подхватил кто-то. — Вона у командира сиськи торчат!
И грянул хохот, покатился от головы серо-бурого удава вдоль длинного, вытянувшегося по мосту туловища. Толстенная змеища задергалась, закорчилась, поперла вперед, заслоняя путь.
— Нельзя останавливаться, — сказал начальнице Романов. — Нужно ускоренным мимо, пока они всю набережную не запрудили.
Он обернулся, кивком подозвал унтеров, и все четверо встали рядом, плечо к плечу, готовые, если понадобится, защитить командиршу.
А из толпы противников войны вперед выскочили несколько самых бойких и быстро пошли навстречу батальону.
— Сто-ой! Раз-два! — трубным голосом скомандовала Бочарова.
Совет помощника запоздал: даже ускоренным шагом мимо моста было уже не пройти, и с каждой секундой на набережной все шире разливалась свистящая, орущая, улюлюкающая орда.
Усатый в кепке, шагавший впереди всех, перекрывая шум, крикнул:
— Эй, подстилки буржуйские, брысь отсюда!
Его обогнал весельчак в малиновой косоворотке.
Он махал согнутыми в локтях руками, изображая петушиные крылья, притоптывал.
— Ку-ка-ре-ку! Ух, курочки, потопчу!
Бочарова первый раз обернулась. Увидела стоящих вплотную мужчин.
— Уйдите назад!
— Ни за что на свете, — отрезал Романов.
— Кто обещал подчиняться?! — сверкнула глазами начальница. — Это приказ!
Алексей не тронулся с места. Унтера тоже.
Тогда Бочка перешла с командного тона на просящий:
— Мы сами должны. Сами! Без мужчин. Неужто вы не понимаете?
Шепотом выругавшись, штабс-капитан махнул гвардейцам:
— За мной! Шагом марш…
И все пятеро побрели в хвост колонны.
— Офицерье драпает! — орали сзади. — Навали, ребята!
Бочарова осталась впереди одна. Встала, широко расставив ноги, уперлась руками в бока.
— Граждане свободной России! — завопила она тем же голосом, каким на плацу обращалась к батальону. — Родина воюет, истекает кровью! А вы втыкаете ей нож в спину!
Парень в косоворотке, приплясывая и кривляясь, перебил ее:
— Щас я тебе воткну!
И сделал похабный жест, который вызвал восторг у валивших следом.
Но вышел из орущей толпы неприметный человек в пиджаке и галстуке, властно махнул рукой, и толпа замедлила ход, остановилась. Оказывается, у буйной орды имелся вожак, и она отлично его слушалась.
Теперь рабочих с ударницами разделяло не больше двадцати шагов.
— Граждане женщины! — пронзительным, привычным к митингованию дискантом воззвал предводитель. — Я обращаюсь к вам от имени Совета рабочих и солдатских депутатов! Болтуны и истерички заморочили вам голову! Зачем вы надели военную форму? Зачем взялись за винтовки? Мало в России безутешных матерей? Будет, повоевали за царя Николашку да Керенского Сашку! Не давайте себя дурачить! Вставайте под красный флаг! Пойдем вместе с нами! Штыки в землю! Мир народам!
— Это большевик! Не слушайте его! — крикнула Бочка. — Они за германские деньги стараются!
К ней, поперек батьки, сунулся малиновый озорник. Видать, не по нраву ему были трезвые речи большевистского агитатора.
— Добром не пойдете, силой поволокем! — Он схватил Бочарову за портупею. — Сымай амуницию, толстуха!
Коротко размахнувшись, командирша двинула его кулаком в скулу — вроде и несильно, но парень отлетел, упал и чуть не перекувырнулся.
В толпе зашумели:
— Ого! Здоровенная, зараза!
— …Ах ты драться, сука!
— Бей их, товарищи!
Полетели камни. Подобрать их на Английской набережной было негде — значит, демонстранты запаслись заранее.
Бочарова начала расстегивать кобуру, но булыжник угодил ей в лоб, сбил фуражку. Командирша покачнулась.
— Батальон, винтовки к бою! — страшным, хриплым голосом приказал Романов, помня, что вперед ему соваться нельзя. — В атаку! Вперед! Ура!
Махнул унтерам, они взялись за руки и вытянулись в цепочку, готовясь остановить и повернуть малодушных.
— Уррааа! — не закричал — запищал строй.
Рассыпался, но двинулся не назад — вперед.
Демонстранты такого быстрого и дружного натиска никак не ждали. От наставленных штыков те, кто был уже на набережной, бросились врассыпную. Стоявшие на мосту попятились, там образовалась давка. Теперь колонна напоминала удава с разможженной головой: длинное тело бессмысленно дергалось и корчилось, с двух сторон стиснутое перилами.
Закачавшись, рухнул транспарант, суливший смерть буржуазии. Агитатор в галстуке как сквозь землю провалился. Все толкались, метались. Кто-то упал и не мог подняться, орал благим матом.
Алексей тоже бежал, зорко поглядывая по сторонам. Едва увернулся от штыка — это Лаевская из второй роты неслась с зажмуренными глазами, не разбирая дороги. Проворная и сильная Асоян, правофланговая третьей, грамотно двинула прикладом по хребту улепетывающему пролетарию. Голицына влезла на тумбу и высоко держала флаг батальона.
А вот худосочную Шацкую пришлось выручать. В ее карабин вцепился обеими руками здоровяк в солдатской гимнастерке — того гляди отнимет оружие. Романов, не останавливаясь, припечатал детину рукояткой револьвера в висок.
— Спасибо! — пискнула адмиральская дочка.
— Про штык забыли, — укорил ее штабс-капитан. Взял под локоть сидящую на мостовой Бочарову.
Она вытирала с лица кровь.
— Мутит? — спросил Алексей. — Дай перевяжу, у меня бинт в кармане. Обопрись на меня.
Но Бочка оттолкнула его, поднялась.
— Ничего, у меня башка крепкая… — И как заорет: — Коли их девочки, коли! В жопу, в жопу!
Он не дал ей побежать вперед.
— Стой ты! У тебя, может, сотрясение мозга.
Начальница блаженно улыбалась, вид у нее был совершенно счастливый.
— Мозгов у меня нету. Одно упрямство. — Подмигнула помощнику. — Что, капитан, не подвели мои девоньки? Теперь и на фронт можно.
НА ПОДСТУПАХ К ФРОНТУ
Рокочет
— Госпожа начальница, мало нам дождя, еще и гроза будет, — жалобно сказал кто-то вслед командирше и ее помощнику, быстро шагавшим вдоль походной колонны. — Ишь, рокочет.
Вдали, где над хмурым горизонтом набрякли тучи, заполыхали бледные зарницы и перекатился глухой рык — будто откашлялось сонное, брюзгливое чудовище.
Бочарова и Романов переглянулись, поняли друг друга без слов.
— Верст десять, — негромко сказал Алексей. — Даже меньше. Почти пришли.
— Тяжелые, — так же тихо ответила начальница. — Меня раз такой дурой накрыло. Неделю глухая проходила.
Она приподнялась на цыпочках, оглядывая унылые вымокшие шеренги.
— Подтянись! Веселей шагай! Еще полчасика, и на месте! Обсушимся! Эй, Блажевич!
— Я! — откликнулась ударница из первой роты, бывшая консерваторка.
— Запевай!
— Есть запевать, госпожа начальница!
Чистый, сильный голос затянул романс, который в Батальоне Смерти очень любили и обычно исполняли в темпе марша:
- На заре ты ее не буди (раз-два),
- На заре она сладко так спит (раз-два),
- Утро дышит на юной груди (раз-два),
- Ярко пышет на ямках ланит…
На второй строчке подхватил весь взвод, на третьей — рота, а затем и все триста пятьдесят ударниц, одна седьмая часть от первоначального состава, но зато самые лучшие, проверенные, допущенные к присяге и переправленные экстренным эшелоном на самое острие грядущего наступления.
Про косы лентой с обеих сторон гудели басом унтера-гвардейцы, командиры взводов; лихо выводили поручики и подпоручики, командовавшие ротами; во всем безупречная Голицына сильным, уверенным сопрано одна вытягивала второй голос; фальшиво и самозабвенно орала командирша. Один лишь старший инструктор шел по обочине молча.
— Господин капитан, а вы что не поете? — весело крикнули ему.
— Не умею.
Небо впереди осветилось вспышкой, но не такой, как прежде. Потом снова и снова. Там, за горизонтом, чудище окончательно проснулось и оглушительно залаяло.
Романов сбился с шага, прислушиваясь. Замолчала и остановилась Бочарова.
Песня начала комкаться.
— Ну и гроза! Никогда такой не видала! — услышал Алексей чей-то напуганный голос. — Я ужас как грома боюсь. Один раз, в детстве…
Последний куплет допевали, кажется, уже только Блажевич и Голицына. Вдвоем у них получалось гораздо красивей, чем с нестройным хором.
«И чем ярче светила луна, и чем громче свистал соловей, все бледней становилась она…».
Тут в поле, не далее чем в двухстах шагах от шоссе, лопнула и вскинулась комьями земля. Воздух сжался и ударил по перепонкам.
Батальон в секунду превратился из маршевой колонны в охваченное паникой стадо.
Второй разрыв лег с другой стороны.
— Ложись! Ложись, мать вашу!
Бочка металась на дороге, кого-то толкала, кого-то била по щекам. Вокруг стоял истошный визг. Алексей молча повторял одно и то же движение: брал ближайшую женщину за плечи, делал подсечку, швырял наземь. Еще, еще, еще.
Но скольких он сможет так уберечь от осколков и летящих камней? Ведь взяли в вилку, сейчас накроют…
Третий фугас угодил почти в самое полотно. Вокруг кричали уже не от страха — от боли.
— Убило! Убило!
— Мама, нога!
Теперь легли все — побросав карабины, закрыв головы руками.
Нет, одна все-таки стояла. Кто?
А, Шацкая.
Она вся дрожала, но губы были плотно сжаты, глаза неотрывно смотрели на Алексея.
— Шацкая, почему не легли?
— А вы?
Вот дура упрямая!
— Чем стоять, бегите за санитарами. Живо!
Понеслась, по-девчоночьи неловко отбрасывая ноги.
Но на санитарную команду Романов поставил опытного фельдшера из гвардейских саперов. Тот приказаний дожидаться не стал, от обоза уже бежали с носилками.
— В третьей роте двое раненых, — сказал Алексей. — Быстро уложить и унести подальше. Перевяжете в поле. Ясно?
— Так точно, ясно.
Фельдшер угрюмо поглядел вокруг, сплюнул.
— Это он для острастки шумнул. Всего три снаряда. А если б всерьез? Наша рать до Питера бы удрапала.
— Ничего, привыкнут. Вы свой первый артобстрел помните?
По лужам, разбрызгивая грязь, топала Бочка.
— Поднимайсь! Стройся! Поднимайсь! Стройся! По местам! А вы как думали? Тут вам не бламанже кушать. Это фронт!
Кое-как построились, пошли дальше. Но уже молча, без песни.
— Вроде бы здесь, — показал Романов, сверившись по трехверстке. — Ко львам.
Идеально ровная аллея, обсаженная вековыми липами, вела от шоссе к парковой ограде, ворота которой сторожили два белых каменных льва. Над верхушками деревьев блеснула тусклой позолотой башенка, должно быть, венчавшая крышу помещичьего дома — сам он с дороги был не виден.
На наблюдательном пункте
Башенка торчала над пробитым снарядами полукруглым куполом и уцелела лишь по прихоти случая. Немцам было отлично известно, что эта точка используется русскими в качестве пункта по корректировке артиллерийского огня, поэтому за минувшие месяцы (а фронт на этом участке не двигался больше года) по графскому дому было сделано несколько тысяч выстрелов, сброшены сотни авиабомб. От чудесного здания в стиле ампир почти ничего не осталось, однако наверх по-прежнему можно было вскарабкаться по железной лесенке, неуязвимая башенка парила над расстрелянной усадьбой, словно верхушка мачты, высящаяся над израненным, но не сдавшимся кораблем.
На чугунном полу, скрестив ноги по-турецки, сидели двое солдат из артдивизиона. Один жевал колбасу, откусывая прямо от круга, и попивал из фляги «спотыкаловку», мутную брагу кустарного производства. Второй лениво глядел в оптическую трубу, однако не в сторону германских позиций (чего на них пялиться, и так обрыдли), а на недальнее шоссе, по которому двигалась батальонная колонна пехоты.
— Сюды повернули, — сообщил он, немного оживившись. — Может, сменят нас, а, Митяй? Пора бы.
— Кто тя сменит? — пробурчал Митяй с набитым ртом. — Это ж пехота, а мы антилерия. Разве пехота антилерию сменяет, дура?
— Я чего решил, Митяй. Если до Успенья не сменят, сам уйду. Будя над людями измываться.
— Успенье когда еще будет. По мне — давай хоть нынче деру дадим. Ты чего сопишь-то?
Наблюдатель, повернув фуражку козырьком к затылку, подкрутил фокус.
— Вот это да…
— Чё там, Стёп?
По лицу Степы бродила недоверчивая, отчасти мечтательная улыбка.
— Бабы! Ей-богу — бабы! То-то я гляжу, пехтура шибко бокастая. А это бабы!
— Чего-о? Какие бабы?
Митяй отпихнул товарища, сам приложился к трубе.
А Степа, плюнув на дежурство, уже спускался, оттопырив зад, по скрипучей лесенке.
— Бабский батальон! Комитетчики про их гутарили! Пойти ребятам сказать! Ну, Митьша, покобелимся!
ЖЕРЕБЦЫ И КОБЫЛЫ
Штаб Ударного батальона
На столе, составленном из пустых ящиков, горела керосиновая лампа. Командир батальона, поминутно протирая слипающиеся глаза, пыталась разобраться в карте, которая была вся покрыта красными карандашными обозначениями. Помощник перед уходом всё подробно объяснил: где враг, где тыл, где какие соседи, но читать карту прапорщик Бочарова толком так и не научилась. Зеленые и коричневые квадраты, синие загогулины, черные кружки никак не желали превращаться в местность. Зевнув, женщина решила: на рассвете залезу на крышу господского дома, погляжу вокруг, и разберусь, где тут что.
Главное дело она исполнила, девочек на ночлег устроила. Ударному батальону была выделена часть территории бывшего конного завода, некогда знаменитого на всю Россию. От графского дворца мало что осталось, но конюшенные корпуса стояли почти нетронутые. В одном из них, самом длинном, выстроенном для маток-кобыл, отлично и даже с комфортом расположился личный состав: девочки шутили, что отдельные стойла похожи на купе первого класса, а сено мягче любых диванов. Романов с усмешкой предложил разместить командный состав, кроме самой Бочаровой сплошь мужской, в небольшом квадратном здании, где прежде содержали племенных жеребцов, но начальница этой игривой идеи не одобрила. Не до шуток. Поэтому «племенник» был отведен под штаб, а мужчин командирша отселила в бывший питомник для жеребят, подальше от «кобыльника». Не из недоверия, а так, на всякий случай. Да и девочкам вдали от мужского пола вольготней.
Покончив с хлопотами по обустройству батальона, Бочарова привела себя в порядок. Помылась — холодной водой, но с песочком, впродирку. Постирала белье и походную форму. Надраила сапоги, разложила на полу запасное обмундирование — это чтоб завтра явиться к генералу в несмятом.
И лишь после, накинув шинель на голое тело, села пялиться в карту и ждать помощника, очень уж долго не возвращавшегося. Ужасно тянуло в сон, однако спать было никак невозможно, и Бочарова всё яростней терла глаза.
Наконец со двора донесся звонкий окрик часового, заржала лошадь Ласточка, по уставу положенная командиру батальона, но отданная в полное распоряжение помощника — ездить верхом начальница не умела.
Стук в дверь.
— Можно?
— Пожди чуток…
Ровно в полминуты, как на побудке, Бочарова оделась в мокрое (завтрашнюю одёжу трогать не стала), притопнула каблуками — готово. Ремни по ночному времени, да при своем человеке, можно было не нацеплять.
— Входи.
Штабс-капитан был по пояс заляпан грязью, но все равно умудрялся выглядеть подтянутым и молодцеватым — Бочарова этой способности своего помощника сильно завидовала.
— Что генерал?
— Удивился, что ты заместителя прислала. Я тебя предупреждал.
Романов ездил докладывать о прибытии отдельного Ударного батальона в штаб дивизии, которой предстояло возглавить наступление.
Никогда еще русская армия не планировала стратегическую операцию таким удивительным образом. Неделю назад, перед отправкой на фронт, Бочарова присутствовала на совещании у военного министра, где составлялась общая диспозиция. Видела, как разводят руками и чуть не плачут опытные, закаленные в сражениях генералы.
Ни о какой координации действий между фронтами, армиями и даже корпусами речь не шла. В условиях «революционной дисциплины» это было бы чистой маниловщиной (что за слово такое, Бочарова не знала, но догадалась: это когда приманят, наобещают, а после не исполнят). Министр предложил руководствоваться «психологической готовностью», то есть предоставить инициативу командирам соединений. Пускай сами решают, готова ли дивизия или бригада к активным боевым действиям. Керенский увлеченно доказывал, что в этой вынужденной, неслыханной методике есть свои плюсы. Противник не будет знать, на каком участке русские нанесут следующий удар, и потому не сможет группировать свои силы. В любом случае наступление затевается не с расчетом на военный успех, а в политико-пропагандистских целях. Нужно продемонстрировать союзникам и собственному народу, что мы способны не только обороняться, но и наступать. Потом министр предоставил слово первой женщине-офицеру, и Бочарова говорила, как умела: обещала не подвести, лечь костьми за Родину, а еще попросила, чтоб батальон бросили не против австрияков, где дела не так уж плохи, а против германцев, в самое пекло.
Потому батальон и оказался на выступе Западного фронта, под проклятой Сморгонью, где наши топтались уже очень долго, положили многие тыщи народу и не добились ни единого, даже самого маленького успеха.
— Как бы я к генералу поперлась чумазая, будто чушка? — ответила на укор Бочарова. — Что бы он про женский батальон подумал? Ты вон, хоть и в грязюке, а всё одно — сокол.
— Не подлизывайся, у тебя плохо получается, — буркнул хмурый Романов. — Испугалась, что не поймешь оперативного задания?
Бочарова строгих и серьезных мужчин всегда уважала, легче себя с такими чувствовала.
— Ладно, — сказала она. — Ты шибко-то не гордись. Объясняй, а я послушаю.
За что еще она ценила помощника — умел он просто и ясно растолковывать. Без лишних слов, от которых в башке один туман.
— Если коротко, план у генерала такой. — Оба склонились над картой. — Ключевой участок, куда мы выдвинемся перед атакой, вот здесь. По флангам расположатся самые боеспособные части, которые хоть как-то еще могут воевать. Слева — 16-й сибирский, справа гренадеры. Наша задача — бросок через поле. Это пока всё. Генерал сказал, что подробно объяснит на завтрашнем совещании. И не мне, а командиру батальона.
— М-м-м, — промычала начальница, положила голову на сложенные руки и в ту же секунду засопела.
Алексей тронул ее за плечо.
— Эй, ляг как следует.
— Мммм, — ответила командирша и задышала еще глубже.
Романов уже знал, что, если она заснула, разбудить ее можно только сигналом «тревога» или звуками выстрелов. Прикинул, хватит ли сил дотащить грузную, плотно сбитую тетку до койки — и не решился. Просто накрыл шинелью. Настоящий солдат в любой позе выспится.
Тихая минута
Ночью небо расчистилось, от края до края высыпали звезды, особенно яркие и чистые после затяжного дождя.
Алексей смотрел вверх, чувствуя себя полноправным участником вселенской астрономии, ведь в руке у него тоже алел огонек — маленький, но яркий. Затянувшись папиросой, штабс-капитан с удовольствием вдохнул сырой свежий воздух. Спать не хотелось.
Командир дивизии сказал на прощанье, безнадежно и тускло: «Меня не оставляет мысль, что я соучастник злодейства. По моему приказу несколько сотен женщин пойдут на пулеметы. Как после такого прикажете жить дальше?»
Мне легче, подумал Романов. Я-то дальше, скорее всего, жить не буду. Поэтому сейчас могу спокойно смотреть в звездное небо и наслаждаться покоем.
Через двор, стуча сапогами, кто-то бежал.
— Господин штабс-капитан! Я за госпожой начальницей! У нас там…
Кажется, Никифорова из четвертой роты. Недавно назначена помощником взводного.
Папироса, прочертив огненный пунктир, полетела в лужу.
— Что еще? Командира будить не дам. Она только что уснула.
Задыхаясь, Никифорова показывала в сторону «кобыльника».
— Там… там… — И не могла закончить.
Теперь Романов и сам услышал, как от казармы (до нее было метров триста) доносится невнятный гул.
В осаде
Длинное приземистое строение было заперто. Толпа попробовала вышибить двери, но они стояли крепко.
Дружить с бабами пришли солдаты из нескольких соседних частей: артиллеристы, стрелки, саперы, спешенные драгуны. Вся эта взбудораженная масса бродила вокруг «кобыльника», пытаясь отыскать хоть какую-то лазейку.
Один ловкий паренек в сдвинутой набекрень фуражке вскарабкался на плечи товарищей и заглядывал внутрь через маленькое бойницеобразное оконце.
— Квохчут, цыпочки! — докладывал он товарищам. — Ух ты, ух ты, сколько их! И фигуристые есть!
Несколько самых напористых и упрямых продолжали колотить в дверь.
— Отворяй! — орал сильно нетрезвый фейерверкер. — Не обижай людей! К им со всей душой, а они… Щас гранатой подорву!
— Девки, чего попрятались? Вылазь, у нас самогонка есть! — кричали другие.
Солдат первого взвода первой роты Шацкая (она была в карауле) стояла по ту сторону двери в одиночестве. Гранаты она очень боялась, но покинуть пост не могла. Дрожала, прижимая к груди карабин.
— Прекратите! — жалобно просила она. — Как вам не совестно! Мы такие же солдаты, как вы!
— Солдатки — сладки! — страстно прогудел кто-то прямо в щель, совсем близко — Шацкая от неожиданности отпрыгнула.
В одной из ячеек сбились в кучку несколько девушек.
— Господи, неужели никто не придет на помощь? — трагически воскликнула гимназическая учительница Лонге. — Где же Бочка? Нас всех здесь изнасилуют и убьют!
Бойкая Салазкина, в мирной жизни посудомойка, сказала:
— Девочки, я наружу выгляну. Помогите-ка.
Поставили одна на одну три скамьи. Салазкину подсадили, она высунула в бойницу круглое личико — и обмерла.
В эту самую секунду с внешней стороны к окошку прижался кто-то черноглазый, пахнущий табаком.
— И-и-и-и! — зашлась визгом Салазкина. Остальные, крича еще громче, выбежали из стойла, бросив подругу. Хотела та спрыгнуть, да забоялась — высоконько.