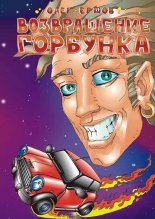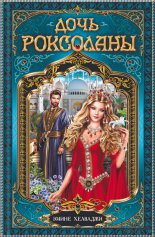Одна французская зима, которая ничего не изменила Тимошина Ольга

Поразмыслив, Алена уговорила себя, что сказывается долгое отсутствие жизни в европейском обществе, и все станет на свой места, потому что любовь это сила, и весь мир крутится ради любви, и так далее и тому подобное. В общем, найдя для себя десяток оправданий тому, что произошло, она отправилась в лагерь собирать вещи.
Приглашение было на пути в Джакарту, связь с островом восстановилась, и Алена опять стала проводить время в кафе. Теперь и она выглядела на экране не лучшим образом. Она сильно скучала и к тому же до нее дошли слухи, что родители Тома, с которыми по его словам он был в отличных дружеских отношениях, попросту сочли его желание жениться на какой-то русской, беспросветной глупостью и всеми силами были против. Том хорохорился и не подавал виду, но то ли эта его проклятая простуда, продолжающаяся уже целый месяц, то ли и вправду все было так плохо, но вид у них обоих был ужасный.
– Хочешь, я брошу университет, я найду работу на Бали и мы опять будем счастливы, – в отчаянии кричал он с экрана.
Алена перепугалась: – Что ты такое говоришь? Я скоро приеду, и все будет хорошо.
– Я нашел нам квартиру в Ницце, недалеко от университета, там нет вида на море, но сад очень уютный, ты можешь там заниматься французским, – мечтал Том.
От одной только мысли об изучении этого языка, Алене стало противно, но сказать этого Тому она не решилась. Впрочем, как и то, что за месяц она не продвинулась в обучение ни на строчку. Она уже почти заговорила на местном балийском диалекте, но французский не поднимал в ее душе ничего, кроме раздражения.
– Да-да, как ты здорово все придумал, – заулыбалась она и осознала что врет, не только ему, но и себе. Врет как делала это раньше. Когда же придет эта чертова бумага?
Она подыскивала какую-нибудь красивую, обнадеживающую фразу чтобы приободриться, но вид ее говорил совсем о противоположенном. Алена очень сильно сомневалась в том, что ей стоит выходить замуж.
– Как давно я тебя не видела…
– Шесть недель, – ответил Том.
Алена подумала, что если бы он, к примеру, ответил: «Мы не виделись два года», то она бы ощутила то же самое, она так отвыкла от этого человека. Она знала мужчину, чье тело было покрыто золотым загаром, волосы выгорели на солнце, глаза горели страстью и любовью, От постоянных занятий серфингом, под кожей читалась каждая мышца, он походил на породистого скакуна, он был веселый и сильный… и страстный. А теперь Том напоминал скорее промокшую под дождем собаку с немытыми волосами, облаченную в черную куртку, с вечным насморком и печальными глазами. Она не представляла себе ночь любви с ним, и скорее могла бы вообразить голливудскую звезду у себя в постели, чем то, что видела сейчас на экране монитора. Она отвернулась, но отвернулась не от него, а от отвращения к себе, ощущая себя предателем. Предателем любви. Он ради нее поссорился с родителями, переехал жить в другой город, организовывает ей квартиру, документы, а она… что она? Предательница.
– Ты хоть развлекаешься немножко, у тебя усталый вид, выйди куда-нибудь отдохни, – попросила Алена.
Том обреченно пожал плечами, Алена не поняла его ответ.
– Том, что я буду делать во Франции? – спросила она.
– О, мы будем путешествовать, три часа до Швейцарии, час и мы в Италии, мы поедем на Корсику, на выходные в Испанию. Ты будешь учить язык, я учиться и защищать диплом, все будет хорошо, поверь мне.
– Я иногда думаю, что слишком стара, чтобы все начать опять сначала. Я боюсь Том, – призналась Алена. – Я очень боюсь, что все пойдет не так.
– Я сделаю все, чтобы ты была счастлива, просто приезжай. У меня такое чувство, что ты готова передумать… Ты так далеко от меня, не бросай меня. Я знаю, что такое жизнь на острове, я готов бросить все, и лететь к тебе, прямо сейчас, ты только захоти, через 20 часов я буду у тебя…
– Нет, нет, – испугалась Алена, – все правда хорошо, я очень скучаю, очень, – прошептала она, зная что это не правда. На самом деле она уже скучала по Бали.
Ночью лежа в кровати, она вслушивалась в обрушивающиеся на берег волны. Она решила признаться Тому, что не поедет к нему, что останется здесь и будет действовать по изначально намеченному плану. Она займется йогой, устроится на работу, денег от сдачи квартиры в Москве было предостаточно. Она даже может снять себе дом, но жизнь в братстве ее вполне устраивала, тут была ее настоящая семья, таких же как она сумасшедших людей, упорно не хотящих признать, что они стареют, и в один день может оказаться слишком поздно вернуться в привычный мир. В мир, где есть слово работа, долг, обязательство, брак, образование и другие цивилизованные слова. Она все отчетливее начинала осознавать, что любила не Тома, а просто мужчину. Мужчину с потрясающим телом, красивого, здорового, страстного и влюбленного в нее до безумия. В сущности, она просто любила его тело. Было тяжело и больно осознавать это, но она не могла обманывать себя вечно и когда-нибудь эта страшная правда выплывет наружу, и может быть будет уже слишком поздно что-то менять тогда. Но еще труднее было то, что Алена не верила до конца в свои размышления… Может просто она отвыкла от Тома, может ей страшно уезжать из рая, может…
Согласно разуму, она должна дать себе шанс пожить в Европе. В стране с высоким уровнем жизни, образования и медицины. Она вдруг осознала, что думает о Франции, так будто читает строчки из политинформации, а на самом деле она ее совсем не знает. И судьба дает ей шанс познакомиться с Европой, пожить всего лишь в нескольких км от Монако, от таких мест как Антиб, Сан Тропе, Канны. Разве это не царский подарок за все то, через что она прошла в Москве. Эта унизительная система образования, вонючие грязные офисы в начале карьеры, и снобские, но мертвые в последние дни ее карьеры. Эти пробки, лживые друзья и любовники, убогие московские квартиры, взяточничество чиновников, подлость ментов, кругом обман, вранье, нестабильность, двуличие… Алена не на шутку взбесилась, вспоминая, о столице.
Она вспомнила себя выкинутой с дороги милицейской машиной в кювет, по тому, что нужно было дать дорогу чиновнику. В 30 градусов мороза, она рыдала в перевернутой на бок машине, пытаясь дозвониться до страховой компании, которой было заплачено за помощь на дороге. Никто не остановился, чтобы помочь ей. В ответ она слышала, только автоответчик, и многообещающую рекламу. Потом она шла по ночному шоссе и пыталась поймать машину, но останавливались только дальнобойщики, принимающие ее за проститутку. В окончании истории ее подобрал милицейский уазик и увез в отделение, засунув на заднее сидение с вонючими таджиками. У нее отобрали новый телефон, стоивший ей половину зарплаты, в файлах которого был отчет о проделанной работе. Алена вернулась домой под утро, подхватив воспаление легких, закончившееся увольнением с работы, за сорванную встречу. И подобных историй в ее жизни было предостаточно, и что же она еще тут себе думает? Выбирает.? Конечно, надо ехать, надо начинать новую жизнь там, где ее ждет любимый человек, они увидятся и все станет по-прежнему. Глотая слезы радости от принятого решения, она, наконец, заснула. Утром пришла бумага из Джакарты о полученном приглашении, ожидание которого растянулось почти на два месяца, вместо пары недель…
Провожать Алену вышел весь лагерь. Светка рыдала как сумасшедшая, причитая и всхлипывая так, что у Алены создалось впечатление, будто ее провожают навсегда. Или даже провожают в последний путь. Да и вообще все были какие-то грустные. Как выяснила она потом, из долгой переписки, которую вела холодными зимними ночами с некоторыми обитателями братства, все грустили по тому, что просто уезжал «еще один человек». Это означало, что когда-нибудь наступит день, и каждый должен будет уехать, улететь, уплыть, одним словом покинуть Бали, то единственное место на всей планете, где все до единого обитатели лагеря были счастливы. Все понимали, что когда-нибудь наступит конец, у каждого он будет свой: конец сбережениям, мечтам, отношениям. Но этот день неминуемо придет, потому… потому что все кончается. Потому что мы конечны. Вот кажется и Аленина молодая любовь, похоже тоже начала подходить к концу. Так плохо в жизни, как в тот момент ей еще никогда не было. Ее душа, тело, каждая клеточка ее мозга кричали ей: «Останься!». Но то, что люди называют разум, логика, рациональность подталкивали: «Конечно уезжай, такой шанс!»
Она обняв каждого, ощущая теплоту и искреннюю привязанность, удалилась на берег океана. В груди сильно болело. Стая собак легла у нее ног, бросая на нее тоскливые взгляды. За горизонт упала звезда: «Я хочу вернуться сюда»: прошептала Алена и смыв горькие слезы теплой океанской водой, поплелась к ожидавшей ее машине.
В зале ожидания, перед посадкой в самолет, она вдруг потеряла сознание. Очнувшись Алена увидела встревоженные лица балийских врачей, заботливо уложивших ее на свои колени.
– Мадам, мадам, что случилось? – заглядывая ей в глаза, ласково спрашивал молодой доктор, – Что мы можем для вас сделать?
– Ничего, ничего, – шептала она, – уже ничего нельзя. Спасибо.
На дрожащих ногах она зашла в самолет.
Формальности с визой были легко улажены. Уже через два дня она летела во Францию. В Джакарте Алена немного успокоилась, часами болтала по интернету с Томом. Она побродила по городу, привыкая к огромному количеству людей на улицах, к пробкам, к одетым в костюмы людям. На Бали она провела счастливые месяцы, не замечая как неслись дни, в которых растворилась вся ее печаль и боль, привезенная из Москвы. И вот чем ближе к отъезду, тем больше заполнялось ее сердце все той же старой тоской и неопределенностью. «Все будет хорошо, все будет хорошо», – шептала она как заклинание, когда в иллюминаторе показалось Лазурное море южного берега Франции.
Под крылом потянулась длинная полоска земли. Море и вправду было лазурного цвета, туда сюда скользили яхты и несмотря на глубокую осень, повсюду чувствовалась жизнь: ветки дорог переплетались с многочисленными развязками, повсюду мигали сигналы светофоров, разноцветные машины спешили по всем направлениям и хвост тонкого красного поезда исчез в одном из туннелей.
– Не Бали, – оценила Алена, с интересом разглядывая приближающуюся землю. Там на посадке можно было разглядеть только гребни волн и макушки пальм. Самолет коснулся взлетной полосы и покатился по европейски вылизанному, чистому аэропорту. Через 10 мин она прошла паспортный контроль и через стекло вдруг увидела Тома, который с нетерпением бросал взгляды в толпу. Алена бросила сумки, и не думая ни о чем понеслась навстречу. Она прижалась ладонями к холодной витрине и плакала. Том гладил ее руки и что-то кричал. Как же она соскучилась, как она могла думать, что не любит его, такого родного и близкого ей человека.
– Иди, иди, – кричал он, указывая ей на дверь.
Там на Бали, она почти уже решилась, почти уже представила себе жизнь без него, и вдруг сейчас в одну секунду поняла как ошибалась, как на самом деле любила. Ведь только благодаря этой разлуке, она поняла то, чего так давно боялась и избегала: любить.
Прорвавшись сквозь неторопливых людей медленно выходящих из зала прилета, она рухнула в объятия Тома и долго плакала у него на плече. Том был ошарашен такой неожиданной истерикой, но списал все на долгий перелет и разлуку. Он тоже очень соскучился по этой «чудной» русской.
«Наконец то», – вздыхала Алена, сидя в такси, – «весь этот кошмар кончится. Наконец-то глупые мысли оставят мою бедную голову, я выучу этот язык ради Тома, я буду хорошей женой, я больше никогда не расстанусь с ним», – думала она вцепившись в его куртку.
И она вдруг опять разрыдалась, но на этот раз от счастья.
Спустя час она лежала в объятиях Тома и сладостно улыбалась, она даже не заметила, куда они приехали. Прямо с порога он зацеловал ее так сладко…, так страстно, что она почти потеряв сознание, рухнула на пол, очнувшись только что. Она любовалась его обнаженным торосом, бедрами, шеей со вздутыми венами. Алена уткнулась носом в него, и дышала, словно это была ее последняя возможность глотнуть кислород. За окном опустилась ночь, но свет зажигать не стали. Они пролежали в объятиях друг друга до самого рассвета, то проваливаясь в глубокий сон, то как сумасшедшие, впиваясь в друг друга вновь и вновь. Взгляды их растворялись друг в друге полные нежности и радости.
– Ну где же ты был, где же ты был, – в сотый раз спрашивала Алена, и эти слова песней звучали у нее в голове. Никак не укладывалось, как можно было жить без него два бесконечных месяца и перемалывать в голове всю эту чушь? Нет, лучше пусть в палатке, в городе, в пустыне, под водой, но только с ним.
– Расскажи мне, как ты жила без меня? – спросил Том.
– Я не жила без тебя, прошептала Алена, – я сходила с ума, я практически рехнулась, и если бы это чертово приглашение пришло днем позже, мы могли бы уже не встретиться.
– Если я не ошибаюсь, – спросил Том, – ты хотела меня бросить?
Алена промолчала.
– У тебя бы ничего не вышло… я дал себе слово, если ты не получишь конверт, я вылетаю к тебе. Но ты его получила, и я страшно расстроился. Я уже даже забронировал билет и собрал вещи, когда ты позвонила. Я так хотел вернуться туда.
– Правда? – не веря своим ушам, прошептала Алена. А как же тут, твой диплом, работа, планы?
– Ты еще не знаешь, что такое Франция, – усмехнулся Том, – она убивает личность, превращая людей в стада, делая из них шаблоны и стереотипы. Ты никогда не сможешь быть тут самой собой, делать то, что ты хочешь и говорить то, что ты думаешь, ты…
– О Господи, Том, зачем ты мне все это говоришь сейчас, почему мы тут, ведь не ты ли мне описывал Прованс, не ты ли с восторгом рассказывал про Альпы и Корсику? Что ты мне прикажешь сейчас думать, – взмолилась Алена, – Том я сойду с ума!
Том обнял ее и прижал так сильно, что что-то хрустнуло в ее плече.
– Прости меня, я весь на эмоциях, этот переезд из Парижа, все административные формальности, поиск квартиры, ссора с родителями.
Он замолчал.
– Все будет хорошо, все наладится, мы попробуем, – он повернулся к Алене с натянутой улыбкой, – Мы попробуем… да?
– Да, – ответила она, в конце концов, у нас всегда есть Бали.
С первыми лучами солнца, они наконец заснули.
Ноябрь был ужасно холодный. Впрочем, как и октябрь, и все последующие месяцы вплоть до следующего июля. Самое смешное было то, что все французы пытались убедить Алену в обратном. В тот день, когда набережная Ниццы была завалена снегом, а ночная температура едва поднималась до 2 градусов, все как один убеждали ее, что на улице тепло. Она носила зимние сапоги на овчине, настоящую шубу из тосканской козы, шапку, и сходила с ума, от мысли, что на Бали прямо сейчас, сию секунду +30.
Было не просто холодно, а отвратительно холодно: с моря дул ледяной ветер, а с неба, аж до середины мая шел мерзкий мелкий дождик. Все мечты о жизни в Кот д'Азуре, на южном побережье Франции, рухнули как песочный замок. Теперь, она уже с уверенностью могла сказать, что из-за близости Альп, юг Франции пригоден для жилья только 3 месяца в году, начиная с середины июня. Все остальное время погода меняется каждую четверть дня, и выходя из дома, не лишнее прихватить с собой все варианты одежды начиная с купальника и заканчивая зимним пальто.
Тем не менее, жизнь продолжалась, и большую часть дня она проводила в школе французского языка, по вечерам изнывая от головной боли, не понимая как может быть в одном языке столько исключений, нелогичности, лишних слов и времен, а главное зачем ей все это надо учить?
Том с утра до вечера пропадал в институте, он уходил в 7 утра, прибегал перекусить на обед в то время, когда она была на курсах, так что встречались они поздно вечером. Она с тупой болью в голове от склонения глаголов, а он уставший и опустошенный после 10 часов сидения за партой.
В период каникул он подрабатывал на разных работах, а она высыпалась. И опять не было гармонии, свободного времени, не было радости и смысла в том, что она делала тут. Алена познавала новую страну, и все с чем бы она ни сталкивалась, ей совершенно не нравилось.
Безусловно, ландшафты, лазурное море, Альпы всего в нескольких минутах езды от их дома, все это было прекрасно, но жизнь не заканчивается на созерцании гор и морей, и нужно было как-то существовать в этом мире ограниченном рамками и условностями существования развитой цивилизации.
По мнению Алены люди были тут странные, они говорили много размахивая руками как крыльями, выплескивали много лишних слов, используя французский язык полный излишеством выражений, но их слова ничего не значили. Слова вырывались из французов легко и быстро, но за ними стояла пустота: пустые обещания, улыбки, ничего не значащие комплименты или чаще всего жалобы. Слово которое у французов было в крови, это: Fatigue. Это выражение: «Я устал», она слышала десятки раз в день, и даже маленькие дети без устали повторяли его во всех местах от школ до пляжей.
Уж что-что, а жаловаться они умели: по подсчетам Алены в день она слышала слова – «Я устал, мне плохо, я больна, истощена, измотана» – как минимум раз 20. Все, начиная с садовника во дворе и заканчивая ее преподавателем в школе, были с самого утра уставшими до изнеможения. Позже, она поняла, что этому учат в яслях, так как через каждые 15 минут тут полагалось, чем бы ты не занимался, делать перерыв для отдыха. Таким образом, к совершеннолетию у молодых людей, уже четко сформировывался инстинкт быть уставшими непременно вслух вещать об этом всем окружающим, сопровождая это утомленными жестами и вздохами.
Французы много говорили, без остановки сплетничали, давали обещания и едва ли их выполняли. Сначала Алена просто хотела, чтобы все замолчали, и перестали что-то обещать. Потом она научилась не рассчитывать на сказанные слова, а позже вообще пропускала их мимо ушей. Потому, что если кто-то клятвенно пообещал перезвонить тебе, это значило, что он не сделает этого никогда, уж будьте уверены. Потому она научилась приспосабливаться к этому врожденному чувству вранья, ни на кого не рассчитывала и все делала сама. После жизни на Бали все это было дико и не понято – зачем все врут.
Когда было холодно – они говорили жарко, когда дешево – они кричали как это дорого, на долго они говорили быстро, а на грязь – они в один голос кричали – какая чистота. Первое время она думала, что она сумасшедшая, ведь не может быть так, что все говорят день, но она то четко видит, что ночь. Потом правда, привыкла и осознала, что спорить бесполезно. Все без исключения французы видели и слышали только то, что они хотели сами и переубедить их в этом было совершенно невозможно, так начинать это делать нужно было с конца 17-го века.
Алена и вправду сходила сума от таких отношений, на Бали она привыкла доверять людям и их обещаниям, улыбки там были искренние, а рукопожатия сердечными, по сравнению с поцелуями французов. Целовались тут все без исключения, и для нее было совершенно ненормально то, что она должна делать это с уборщицей, булочником, соседями, с людьми, представленными ей впервые, к тому же неприятными и неопрятными. Целовались повсюду по сто раз в день, и по этой же причине все постоянно болели, перенося заразу друг на друга.
На Бали же здоровались на почтительном расстоянии друг от друга, протягивая одну руку, а другую прижимая к сердцу, тем самым подчеркивая уважение и искренность слова «Здравствуйте».
Приближаться к человеку близко было неприемлемо, и считалось нарушением личного пространства, лишь только близкий друг мог коснуться тебя рукой, не говоря уже о поцелуе.
Тут, во Франции, целовались на каждом шагу с одними и теми же людьми утром и вечером, и если даже выходили на пару часов, то по возвращении опять лезли целоваться. Алене приходилось притворяться вечно больной, чтобы избежать этого сумасшествия.
– Так принято, так повелось много лет назад, – объяснял ей Том.
– Но я не знаю их, – кричала она, – я понятия не имею кого они касались до меня, кто знает?
Том старался помочь, объяснял их нравы, но это едва ли помогало Алене. Она чувствовала себя совершенно чужой, и никто даже не пытался ее в этом переубедить, а только лишь подчеркивал ее различия с местными. Иностранцев тут не любили вообще, а богатых иностранцев откровенно ненавидели, туристов терпели и сваливали на них все грехи: повышение цен, пробки и даже загрязнение атмосферы.
– Нам повезло, мы не богачи, – шутил Том, так что у тебя есть шанс тут прижиться.
Но было не смешно. Деньги Алены исчезали со скоростью света. За сдачу своей московской квартиры в центре, Алена позволяла себе на Бали буквально купаться в роскоши. Обеды в ресторанах с крабами, австралийское Шардоне, ежедневные часовые массажи, такси, уроки живописи, развлечения… Тут же за каждый шаг нужно было платить по полной. Продукты в магазинах были дорогие, походы в ресторан буквально разоряли, и потому были редки, из-за постоянно меняющейся погоды одежды пришлось купить много, но самое ужасное было то, что за коммунальное содержание своей крохотной убогой квартирки в Ницце, они платили в два раза больше, чем получали за московскую. Свет, вода и газ, то, без чего нельзя было жить, уничтожили почти все Аленины сбережения. Однажды ей пришла в голову дикая идея, что Том просто позвал ее сюда, чтобы оплачивать содержание квартиры, в то время, пока он учился в университете. Его заработка, полученного на каникулах, едва хватало на покупку еды до следующих отпускных. Каждый день она получала конверты со счетами, и каждый день она ходила на почту и в банк, стоя в длиннющих очередях из стариков, чувствуя себя пожилой дамой живущей на нищенскую пенсию.
На эти деньги на Бали они могли иметь большую виллу с видом на океан, а милая балийская девушка помогала бы с уборкой и готовкой, и было бы все время тепло и счастливо. Тут Алена и стирала и готовила. и мыла, и выполняла всевозможные поручения. То Тома сходить в химчистку, то на рынок, то в банк, и опять убирала, гладила и готовила. Никуда они не ездили: ни на обещанную Корсику, ни даже в соседнюю Италию. Не было времени, сил и просто нормальной погоды для путешествий.
Она занималась любовью машинально. Она вспоминая то, как это было на Бали, и лишь отголоски той страсти и желания, давали ей силы все еще находиться во Франции, надеясь, что весь этот кошмар называется адаптационный период, и он непременно должен кончиться. Она много и подолгу болела, чувствуя себя постоянно уставшей. По ночам, смотря на спящего Тома она плакала, гладя его волосы, а утром не могла проснуться из за бессонницы, мучившей ее по ночам. Повсюду она была чужая: ее французский не продвинулся ни на шаг, несмотря на ее усилия и желание угодить любимому человеку. Ее упорно не понимали или скорее отказывались понимать, нарочно, как ей казалось, говорили быстро и не желали повторять, а то и вовсе поняв, что она иностранка просто разворачивались в другую сторону. Практически никто не говорил по английский, а если и утверждали, что говорят, то в реальности едва ли могли сосчитать да 10. Знать английский во Франции считалось неприлично, так объяснила ей пожилая дама собачкой, к которым у Алены было особое отношение.
Собаки во Франции были у всех, их таскали за собой повсюду в кино и в рестораны, потому улицы были завалены их какашками, и это на самом деле являлось национальной гордостью Франции, неким вызовом нормальным людям, вот типа смотрите как мы любим животных, что даже их экскременты нам не противны. Человека, у которого нет собаки французское общество попросту отвергало. Иногда Алена казалось, что даже собаки имеют тут больше прав проживания, чем она. Они были маленькие, мерзкие, грязные и совершенно невоспитанные. Или огромные, нечесаные, вонючие до одури, и тупые. Алена ненавидела собак всей душой, она твердо считала этих созданий предателями, лицемерами и подлизами, что соответствовало мнению Алены и о самих французах. Собак возили в колясках как малышей, одевали в дурацкие костюмы, водили к собачим психотерапевтам, ради них отказывались от отпуска, уходили с работы, чтобы за ними ухаживать, им читали, показывали собачьи фильмы, нанимали сиделок, создавали дома престарелых, кормили из тарелок прямо на столе ресторанов, и постоянно с ними целовались. А потом целовали друг друга.
– Я схожу с ума, мне все это кажется, – шептала себе под нос Алена, с отвращением разглядывая очередную мадам, буквально облизывающую крохотную грязную тварь, похожую на крысу.
– Это же собака, она ходит по земле, гадит, грызет…, – пыталась она спорить с французами. Но в ответ только наживала себе врагов.
На Бали, местные рассказали ей легенду: почти все балийцы верили в реинкарнацию, и с давних пор считалось, что хорошие люди в новой жизни остаются людьми, а плохие превращаются в змей и собак. Бездомные и безродные шавки бегали стаями по острову, и пугали туристов своим диким плешивым видом. Со слов самих Балицев все они в прошлом были злобными и гадкими людьми, рыскающими в новой жизни по помойками, гонимые отовсюду и приносящие одну только грязь. Одним словом собак на Бали не жаловали, но и не пинали, и это отношение очень нравилось Алене. Во Франции же, в рамочке на стене скорее можно было увидеть картину мерзкой собачонки, чем любимого мужа, детей или внуков.
Но самое главное было конечно же не мерзкий характер французов, и не те правила, которыми они поставили себя и всех окружающих в жесткие рамки существования, а то, что Алене просто тут не нравилось. Не нравилось и все. Не лежала у нее душа к этому месту, не радовало редкое солнце, не сжималась от счастья сердце даже в объятиях Тома. Отношения совсем разладились. День и ночь она была поглощена мыслями, борющимися в ее голове. Уехать-остаться. Ее жизнь теперь мало чем отличалась от ее прежней московской, разве, что бытовых проблем было побольше, да и язык, этот воспетый миром французский язык, ставший ей ненавистным до тошноты, никак не давался. Квартирка, которую снял Том, была прямо говоря убогой. Через крохотные окошки доносились звуки дороги, старые, не отмывающиеся ничем полы скрипели ужасающе, трубы в стенах урчали, шумно заявляя о том, что соседи посетили уборную. Батареи отопления отсутствовали, так как считалось, что на юге Франции вечное лето, а то что, что климат на планете уже давно изменился, и теперь даже в Ницце и Каннах зимой лежит снег, французы признавать не хотели. И дело было вовсе не в том, что они не могли поменять эту квартиру на какую-то другую, а в том, что за такую цену было совершенно невозможно найти что-то лучше, а только намного убогее и омерзительнее. Это был удел большинства квартир и домов лазурного побережья Франции, так как их владельцы, живущие старыми привычками, стереотипами и стандартами, не хотели признавать, что жизнь давно изменилась, и что всего в 100 км от них на границе с Швейцарией, уже успешно закончены испытания атомного колайдера, а посмотрев в ночное небо можно увидеть там сотни спутников. Наступал 22 век, а состояние недвижимости во Франции все еще оставалась где-то на пороге начала 18.
У Алены разрывалось сердце от жалости к себе, она похудела, глаза потухли, голос стал тихий и ноющий как у жалкой шавки. К тому же она постоянно болела, уже несколько месяцев она носила в себе ничем не вылечиваемый насморк, а по ночам ее душил такой сильный кашель, что слезы брызгали из глаз от боли. Но Том держал ее так крепко, что стоил ей лишь заговорить о возвращении, он превращался в мужчину мечты и читал ей стихи, приносил завтрак в постель, часами делал массаж и покупал маленькие подарочки. Он все говорил, говорил о том как он закончит университет, и он получит хорошую работу, о том как они снимут дом на берегу. Три раза он делал ей предложение, и все три раза она решительно говорила – нет. Но потом наступала ночь, полная ласок, слов, обещаний, и она оставалась опять.
Порой Алене невыносимо хотелось утроить скандал, хлопнуть дверью и уже никогда не вернуться, но он тщательно предвидел такие ситуации и умудрялся успокоить и приласкать ее, и она опять оставалась, ненавидя эту любовь. Зима казалась ей проклятым, нескончаемым сном. Наказанием, расплатой, адом. Впервые в жизни она молила время идти быстрее. И оно на само деле неслось, текло с бешеной скоростью оставляя позади страшные разочарования, досаду и боль. Оставляя позади ее жизнь.
Живя якобы в правовом государстве, Алена ясно осознавала на сколько хрупок этот миф о наличии прав и свобод французов. Не смотря на то, что на каждом шагу провозглашалось равенство и братство, в реальности люди были втиснуты в жесткие рамки и окружены несчетным количеством правил и законов. Свобода французов являлась абсолютно вымышленной, на самом же деле все они жили руководствуясь рамками определенного поведения, были ужасно закомплексованными и обидчивыми, следовали каким-то ими же самими выдуманными расписаниями и шаблонам, и даже в школах отклонение от программы считалось каким-то преступлением.
Стадное чувство было развито до такой силы, что любой человек, пытавшийся показать свою индивидуальность, или быть оригинальным в своем мнение или действии, автоматически считался ненормальным. Вся их свобода ограничивалась исключительно возможностью безвизового передвижения между странами, разрешением кричать лозунги посередине улицы, и устраивать бесконечные забастовки и протесты.
И при этом, несмотря на разведенную ими бюрократию во всех отраслях жизни, включая личные отношения, была возможность договориться, наладить связи, что-то придумать и найти контакты, что еще раз подчеркивало, отсутствие настоящего равенства и свободы. На каждый закон имелся родственник, работающий в мерии или полиции, а на каждого родственника там работающего был закон. Таким образом в общем повсюду царил бардак и невозможно было разобраться где правда, где закон, где связи, а где вообще неконтролируемый беспредел.
Алена сходила с ума от всего этого и искренне пыталась понять, расспрашивая мнение людей, задавая резонные вопросы, что тут же немедленно, причисляло ее в ранг ненормальных и клеймило ее не иначе, как «сумасшедшая русская».
«Безумие…» – думала она. – Все так стремятся сюда, так воспевают это Лазурный Берег, который на самом деле лазурным бывает всего несколько недель в году, при определенном освещении солнца и неба. А я только хочу уехать отсюда и забыть, навсегда забыть этот опыт. Я определенно не могу жить с этими людьми. И если уж говорить откровенно, то даже Шарль Де Голль, президент Франции, вообще-то не слишком любил французов, полагая, что они не достойны своей великой страны…».
Алену буквально убивали их стереотипы поведения, повадки и нравы. Больше всего она ненавидела их обеды. Не существовало для этой нации ничего важнее обеда. Питались они обильно, долго, заливая обед внушительной порцией вина и пива, и ликера напоследок.
Торопиться за едой, думать о своих обязанностях перед другими, а уж тем более о работе – слыло дурным тоном. Опоздание на обед, впрочем, как и окончание обеда раньше времени, приравнивалось к преступлению против самого себя. Мужчины и женщины, старики и дети, политики и балерины, левые, правые, анархисты, иммигранты и богачи – все они превращались в единое, поглощённые только одной мыслью: Поесть!
Операционные закрывались, соревнования отменялись, полицейские останавливали погони, и даже французские преступники прекращали безобразничать и воровать в период с 12 до 2. Француз никогда не остановит свой обед, случись наводнение или пожар, ничего не выведет его из равновесия и не отвлечет от поедания утиной печени или свиной ноги. Никто из них не двинется с места во время ритуала поглощения еды, ибо нет ничего на свете священнее этой церемонии. И то, что было свято для них, казалось Алене таким ничтожным и примитивным культом еды.
Самое ужасное виделось Алене, что это был не культ еды в виде рекламы здоровой пищи и образа жизни. А на самом деле было проявлением эгоизма, возможностью законно и нагло крикнуть в лицо всему миру: «Я ем и мне наплевать на всех вас!»
Жизнь на французской Ривьере полностью парализовалась в период обеда, и никакие мольбы о помощи, или нужды других, не могли переиначить этот обряд чревоугодия. Однажды, в отделении скорой помощи Ниццы, Алена просидела около часа с наполовину отрезанным пальцем, в ожидании пока дежурный врач прикончит свою трапезу, состоящую из нескольких разложенных по столу пластмассовых мисок с разной едой и шоколадного суфле, в серебряной бумаге. Капли крови медленно падали на больничный пыльный пол. Доктор равнодушно рассматривал ее через стекло, болтая по телефону со своей подружкой, так как есть в одиночестве во Франции, был еще больший позор, чем не есть вообще.
Никто на Бали не посмел бы даже думать таким же схожим образом, как думают французы. Там наоборот высмеивалось стандартное, предсказуемое и шаблонное поведение европейской нации, и всячески приветствовались люди с причудами, которых назывались яркой индивидуальной личностью, но никак не чокнутыми. Потом Алена вообще перестала даже пытаться общаться с французами, так как они слышали только то, что они хотели слышать и все общение напоминало игру в одни ворота, которая всегда заканчивалась проигрышем Алены, и последующим разочарованием. Она бросила изучать французский, но Тому не сказала, тем самым уже заранее настроив себя на то, что рано или поздно покинет эту страну. Его не было дома по целым дням, и она пропадала в интернете, читала книги, но в большинстве времени просто спала, прячась от дикого холода, идущего от стен и полов под толстенной периной, по ее настоянию и через жуткий скандал купленной в дорогом магазине на рождественской распродаже.
О поиске работы не было даже и речи. Без разрешений и документов не брали вообще никуда. Это был абсолютно противозаконно и жестко контролировалось. А так как в статусе невесты добыть такие бумаги не предоставлялось никакой возможности, то приходилось тупо выполнять обязанности по дому, устраивать быть и ухаживать за Томом. Это убивало Алену. Никогда в жизни она не чувствовала себя такой бесполезной и ненужной.
Ночь на рождество она напилась как сапожник и уткнувшись в подушку волком рыдала, проклиная день встречи с Томом. Он страдал рядом с ней, но упорно не хотел отпускать ее. Том умолял, просил, обещал, а она не верила, что все это когда-нибудь забудется, и то время, которое он называет каким-то административным противным словом «иммиграционный период», кончится. Тогда почему, спрашивала она его в сотый раз, этого периода не было на Бали? Почему время там остановилось, и каждую секунду она испытывала счастье и благодарность?
– Почему, – кричала она пьяная, выйдя на балкон, – почему вы все тут такие злые и лживые собаки?
Но пустой город молчал, и в рождество, и на новый год, на улицах стояла гробовая тишина. Французы сидели по своим домам и жевали одинаковых уток из супермаркета под разными соусами… А в час ночи, все окна в квартирах гасли, и только пьяные гуляки, марокканские иммигранты, изредка выкрикивая что-то невнятное, проходили под спящими балконами, выписывая похабные слова на фасадах старинных зданий и царапая гвоздями покраску нерадиво припаркованных новых машин.
Дождь который зарядил еще в ноябре, и шел не переставая. Он испортил все праздники. Наряженные повсюду елки, размякли и развалились, унесенные ветром игрушки и поделки из бумаги, валялись как мусор по улицам городов и взгляд на них вызывал слезы. «Как будто кто-то долго готовился к празднику, а потом пришел злодей, пришел и все разрушил» – думала Алена.
В рождество задул страшный ветер, волны заливали на проезжую часть и блокировали движение, все шествия были отменены, концерты и гуляния под дождем были жалким зрелищем. Убожеством. Пиром во время чумы. Чистым лицемерием. Король был голый.
В такой же атмосфере прошел и карнавал Ниццы, и праздник фиалок, день мимозы, и парад цветов. Дождь залил все приготовления… Все, что бы ни организовывали французы, было обречено на провал. Все охали и вздыхали, что такое случается «в первый раз и никогда еще не было так плохо», но на самом деле все врали сами себе, так как все это повторялось из года в год, и в следующем году не обещало быть лучше.
Алену тошнило от вранья и лицемерия. «Ну признайте же, что тут ужасная холодная и слякотная зима. Перенесите елки и концерты в закрытые залы, делайте игрушки из пластика, а не из бумаги, и купите, наконец, теплые зимние сапоги и установите отопление в домах!» – говорила она серой толпе. Но над ней только смеялись и на следующий год опять мокрые от проливного дождя елочные шары катились, погоняемые ветром по заснеженным пустынным улицам.
На новый год Алена спала в свитере и шерстяных носках, присланных ей из Москвы. В ванну она заходить боялась. создавалось ощущение, что там произошел взрыв и с тех пор все так и осталось: местами отсутствовала плитка, краны развалились, трубы текли. Мыться она ездила в бани английского гольф клуба в 40 км от Ниццы, благо что не в сезон вход туда стоил очень дешево и кроме нее там не было ни одного человека. Мыться во Франции было не принято… На рождество ее посетили родители. Мама долго плакала и причитала: «Поехали домой, ты поспишь в своей комнатке, я тебя вылечу, согрею, накормлю». Алена плакала и молчала.
Проснувшись наутро после нового года, она дала себе слово подождать до лета, и если ничего не изменится, то она уедет, просто исчезнет и все. Тихонечко соберет чемодан и просто сбежит. Не нужна ей больше никакая любовь, если от нее одни неприятности, если все, чем она живет это смирение. Лучше уж не жить. Лучше быть не влюбленной и свободной, чем спать на чьем то, пусть и дорогом тебе плече, и при этом быть совершенно несчастной.
По ночам ей снилось Бали, желтые песчаные пляжи, шум волн. В своих снах она гуляла под теплым тропическим дождем, рассматривала ярких красочных попугаев, собирала огромные душистые цветы, ракушки. Как она любила ракушки. В ее комнате на Бали эти чудеса океана валялись по всюду, а она проходя мимо всегда останавливалась и трогала пальчиком их шершавую поверхность пальчиком, мечтательно закрывая глаза. Откуда такие мечты о ракушках? – думала Алена. Может и правда, что все мы вышли из моря… По ее щекам текли теплые соленые слезы, она глотала их представляла себе соленый океан. Проснувшись, она находила себя лежащей в свитере, в старой промозглой квартире, где за окном в 5 утра разгружали мусорные баки арабы, и горькие душащие ее слезы боли вновь подступали к горлу.
– И зачем я тебя только встретила? – шептала она глядя на Тома. А он словно почувствовав ее настроение, тут же расщедривался на такие слова и ласки, что любая женщина на ее месте сошла бы с ума от счастья. Но только не Алена. Ей уже было все равно.
В начале весны она получила длинное письмо от Светки с открыткой Эйфелевой башни. Дрожащими руками она вскрыла конверт прямо на лестничной клетке и слезы хлынули из ее воспаленных от простуды глаз.
Светка собиралась замуж за какого-то француза, а скорее даже не за француза, а за Париж, и взахлеб расписывала свои планы на будущее, мечтая о бутиках и завтраках с горячими круасанами.
Алена читала и с уст ее, каждую минуту срывалось: «Вот дура, ну какая дура!»
Она узнавала себя в каждой строчке письма и плакала от осознания, что все ее мечты не просто треснули, а разрушились и рухнули, а потом еще и сгорели.
Она вернулась в квартиру и написала ей всего несколько строк.
«Если ты живешь свободой, если хочешь делать то, что тебе нравится, если ты веришь в искренние улыбки и рукопожатия, если любишь когда тебя окружают добрые и открытые люди, если солнце и тепло значит для тебя все, если каждую минуту своей жизни ты благодарна и счастлив а – оставайся на Бали».
Это все. Потом она поразмыслила еще и написала длинное письмо, в котором пронеслась вся ее жизнь с момента приезда, вся ее боль, мысли, сомнения и страхи, она не заметила, что наступила ночь, и в дверях зашуршал ключами Том. Алена быстро спрятала конверт и рванула ему на встречу, вцепилась в него всем телом, захватила сзади руками и уткнулась в мокрую от дождя куртку.
– Том, отпусти меня, – прошептала Алена, медленно сползая на колени, – если ты меня любишь, отпусти…
Он ошарашенно молчал. Он давно уже знал, что она бросила учить язык, что часами сидит в интернете, подыскивая себе билет на Бали, что тайно переписывается с друзьями из лагеря. Он знал как она ненавидит Францию и конечно готовил себя к тому, что в один день она исчезнет. Но он уже не представлял себе жизни без нее, да и какой в ней вообще был смысл, если не Алена. Там на Бали все случилось так быстро, и никто не думал, что курортный роман с его стороны перерастет во что-то огромное, настоящее, но увы не светлое. С тех пор как он покинул остров, и его, и ее жизнь больше походили на ад.
Когда он вернулся в Париж, чтобы оформить свой перевод на юг Франции и поговорить с родителями, ему и в голову не могло прийти, что все так закончится. В своих мечтах он планировал закончить факультет, устроиться на работу, взять кредит и купить достойное жилье. Они должны были пожениться и быть счастливыми, так как это положено во всех сказках. Но родители наотрез отказались помогать, они даже не захотели познакомиться с Аленой, приняв ее за какую-то аферистку, пожелавшую получить французский паспорт.
– Да кому он нужен, этот чертов паспорт, кричал на них Том, – чтобы всю жизнь платить бешеные налоги, чтобы жить как серая мышь, по тому что иначе во Франции нельзя, или чтобы, что? Что он дает?
Но родители не хотели ни слушать, ни понимать, и потеряв людей, на которых он так сильно надеялся, он продал свой мопед, установку и компьютер, и переехал в Ниццу, где на оставшиеся деньги удалось снять крошечную квартирку, после жизни на Бали, скорее напоминающую собачью конуру без отопления с окошками, но только для крупной собаки.
Том знал, что это ошарашит Алену, и что он дал ей совсем не то, что обещал на Бали, но искренне надеялся, что ситуация временная, и все образуется и вскоре они переедут. Но дни шли, из-за кризиса работы не было, да и к тому же работать было невозможно, так как учеба в университете занимала целые дни, а за прогулами следовали жесткие наказания и в конечном итоге отчисление. Все что ему подвернулось, это работа в арабском ресторане, где он наравне с нелегальными иммигрантами, таскал ящики с мусором, мыл полы и перебирал гнилые продукты. Работа была не очень прибыльная, но давала наличные деньги, которые не облагались зверским налогом и давали возможность покупать продукты и платить за аренду. Ему было невыносимо стыдно, что Алена начала тратить свои деньги, выплачивая за квартиру, но делать было нечего, выбора не было никакого, и его окутала ужасная депрессия. Он чувствовал себя бессильным, заурядным и слабым, но самое главное было то, что и Алена была о нем того же мнения.
К тому же одного взгляда на Алену было достаточно для того, чтобы понять, как она несчастлива тут. Он чуть не провалился под землю, когда мать Алены кинула на него взгляд полный ненависти. Том ничего не понял из короткой речи обращенной в его сторону, но было очевидно, что приятного ему ничего не сказали и сказать не могли, по той причине, что по сравнению с жизнью в России, Алена, предоставленная на его попечение, жила тут в нищенских и убогих условиях. Эту фразу он уловил из ее переписки с подружкой из лагеря, но к сожалению не успел прочитать до конца, так как вошедшая в комнату Алена, резко захлопнула компьютер. Позже он пытался взломать ее почту, но коды открыть не удалось и оставалось только гадать о том, что было в ее голове. Одно было ясно совершенно очевидно – скоро она уйдёт. И вот сейчас глядя на стоящую на коленях любимую женщину, которая умоляла его о свободе, он в сотый раз приготовился просить ее подождать еще немного.
– Нет, – закричала она, предвидя его слова, – я больше не хочу слушать про это, все о чем я хочу тебя спросить: скажи ты меня любишь или себя?
– Родная моя, сели бы ты знала, что ты значишь для меня, – Том сел рядом на пол, – когда я хотя бы на миг представляю себе жизнь без тебя, я не могу дышать. Что значит жизнь, если тебя в ней нет?
– Вот, – прошептала Алена, я именно про это и говорю, ты думаешь о себе, ты думаешь как плохо будет тебе, как ты будешь дышать, как ты будешь страдать и искать смысл в существовании. Но ты не думал каково мне, я не верю, что ты не видишь, то что происходит. Я несчастлива Том… Я тоже люблю тебя, ты стал мне дорог… и ты дал мне много счастья и тепла. Но все это, эта твоя страна, люди, язык, ваши повадки – все это не мое! Не мое, не мое, не мое. Вы мне все чужие!
– Но ты живешь не с ними, а со мной, – закричал Том.
– Я живу с тобой, но тебя нет, у тебя учеба, работа, твои французские друзья, которые мне противны до рвоты. И я понимаю, что никогда, слышишь никогда не стану частью всего этого! это не мое, – шептала она в бреду.
– Ты даже не делала попытки полюбить все это, – сказал Том.
– Нельзя сделать попытку кого-то любить, это любовь Том, она либо есть, либо нет!
– Так значит ты меня не любишь, – чуть не рыдая пролепетал он… Ведь ты хочешь сбежать от меня всего лишь из-за какой-то страны, да наплевать на нее. А как же живут люди на севере, в вашей как ее там Сибири? Или еще в какой-нибудь жопе, типа Техаса. Там что нет любви, они же не бегают по свету в поисках тепла. А возьми какое-нибудь Никарагуа, там…
– Том, – перебила его Алена, – они там родились. Ты бы тоже ни единой секунды не смог прожить в России. Там все против человека и человеческой логики. Но я там жила, и влюблялась и дружила, потому., что я там родилась. И даже я тем не менее сбежала оттуда. Но тут все чужое, не мое, мне все тут не нравится. Я ушла от того что ненавижу и переехала на Бали, но вернулась опять к тому же. Зачем мне тогда надо было менять свою жизнь я тебя спрашиваю? У меня была престижная работа, машина, дом, родители, какие никакие друзья и любовники, отношения, и все она говорили по русски! Но тут у меня пустота и непонимание. И самое страшное, что я не вижу никакого будущего. На Бали живешь без этого самого пресловутого будущего, но живешь одним днем, не думая о завтра. Потому что завтра нет. Есть сейчас где ты счастлив, и каждая секунда приносит радость, радость ОТ ТЕПЛА, СОЛНЦА, ЗАПАХОВ, ОТ ПУСТЫХ РАЗГОВОРОВ, ОТ УЛЫБОК ЧУЖИХ ЛЮДЕЙ. Я хочу наслаждаться своим временем на этой земле, а не быть подчиненной законом ни вашей, ни свой цивилизации, ни вообще никакой цивилизации. Я жить хочу здесь и сейчас! ты понимаешь? – почти кричала она. Я хочу свободы. Свободы от законов и правил! Я хочу по совести, по человечески жить! И если все мои доводы о любви и свободе не кажутся убедительными, то я скажу тебе тогда, что в конце концов, я замерзла тут! Черт побери, батареи стоят даже на Аляске! А у вас в такой модной и престижной Франции их нет!
И Том уже не слышал в ее голосе ни капли любви, а только слепую ненависть и ярость.
– Я вижу, что ты все равно уйдешь. Я только прошу тебя остаться до лета. Я почему-то веру, что все наладится, – он говорил нервно бросая короткие четкие фразы не глядя в ее сторону и почти не дыша. – Дай мне время до лета. В июле мы переедем на море. Ты увидишь, наконец, красоту и тепло. Я буду стараться. Только останься… до лета.
Алена сидела не шелохнувшись. Она почти уже выиграла этот нескончаемый спор и получила разрешение на отъезд. Но Том, ее родной Том пустил в ход запрещенный прием. Он просто по человечески просил ее, и отказать не было сил. Она наверное еще любила его, или жила воспоминаниями о той далекой любви, случившейся на Бали, или жалела его, но как бы там не было, она уважала его чувства и тихо прошептала:
– Да, до лета и точка.
Потом они наконец поднялись с ледяного пола и поплелись на кухню, чтобы согреться чаем.
Письмо Светке, Алена отправлять не стала, в конце концов жизнь каждого из нас в наших руках, и кто знает как сложится она у Ленки, ведь может все то, что противно и ненавистно Алене, в самый раз для кого-то другого.
Тут, на юге Франции она встречала много русских, переехавших сюда и оставшихся тут разными путями: через замужество, работу или вообще нелегально. Примечательно было то, что все они были, или по крайней мере, выглядели совершенно несчастными людьми, но никто из них, ни один не признавал этого и не хотел вернуться в Россию. Их лица были всегда печально задумчивы, выражали недовольство и иногда демонстрировали плохо натянутую, слабую улыбку, полную какой-то грусти. Никто не смеялся, не хохотал, как это было на Бали, не заходился задорным здоровым смехом, от которого тряслась грудная клетка, и текли слезы радости.
Алена помнила, как по вечерам они собирались вокруг гигантского костра, и просто без остановки «ржали». От смеха болели животы и в уголках глаз скапливались морщинки радости. Тут все ее лицо покрылось сеткой печали и грусти, впрочем, как и у других повстречавшихся ей людей.
Месяц за месяцем она жила надеждой на лето, когда она наконец с чистой совестью, сможет попрощаться с Томом, и вернуться на Бали. Она уже определилась в своем выборе, но не хотела больше говорить об этом, и только лишь держала слово данное ему и мечтала, мечтала.
Мечтала о том как вернется в лагерь, как скинет с себя килограммы дурацкой одежды и облачится в невесомое сари, как встанет на доску и взлетит на гребне волны, и даже мечтала о том, как как радостно встретит ее стая бродячих собак на океане, и о том как увидит гигантский огненный шар солнца, падающий за линю горизонта, перекрашивая мир в оранжевый цвет.
Она жила мечтой, иллюзией и в какой-то момент перестала замечать и недовольные лица французов, и серое небо, и убогою квартиру, и даже Тома. Она с таким рвением погрузилась в изучение индонезийского языка, что через пару месяцев уже начала писать письма своим знакомы серферам из Куты!
Каждое утро она медитировала. Будильник звонил в 6 утра, и она превозмогая отвращение к жизни и дикий холод, тащилась в гостиную. Полы в доме были ледяные, и требовалось время, чтобы нагреть их электрическим одеялом, тем временем попивая имбирный чаи и пытаться не думать ни чем. Она зажигала благовония, привезенные с Бали, и погружалась в свой виртуальный мир медитации, где было счастливо и спокойно. Всем телом ощущая зверский холод от стен полов, она доводила себя до такого состояния, пока от жара не начинало пылать все тело, пока не терялась связь с реальностью, и она не понимала где находится в настоящую минуту, ощущая лишь только то, что она есть, что существует где-то в этой вселенной, паря над собой с блаженной улыбкой на лице.
Этому научил ее индонезийский йог, с которым ни случайно познакомились на Бали, и с тех пор жизнь ее уже не была такой как прежде. Из за всех переживаний она совсем позабыла о медитации, но пришло время и Алена вспомнила все, каждую минуту поведенную в предрассветных часах на берегу океана с своим гуру, каждое слово сказанное ей, и вдруг начала ощущать смысл всего сказанного и обращенного к ее сознанию. Спустя час она открывала глаза и не сразу понимая реальность своего положения, медленно приступала к новому дню. Лишь это помогало ей держать слово данное Тому. В такие минуты она вдруг начинала находить что-то хорошее в этой стране и начала записывать это хорошее в маленькую книжечку, которую повсюду таскала с собой.
Горячий шоколад, булка с корицей, выпитые весенним утром на набережной, радуга над морем, концерт великого тенора в Каннах, и вдруг понимание отрывков французской речи на улице. Она записывала каждую мелочь, приносившую ей счастье, и осознавала, как постепенно меняется ее жизнь, то ли от приближения лета, то ли, то ли в правду все было не так уж и плохо. Алена поддалась на уговоры Тома и вернулась на курсы языков.
С каждым днем становилось все теплее и теплее. Сырость и промозглость отступали. Дожди, наконец, стали короткие и теплые. На рассвете в верхушках деревьев пели птицы, и однажды Алена поняла, что уже не замечает звуков улицы, а чувствует лишь запах цветущих яблонь и щебетание птах. В марте Том отвез ее в Альпы, в дом своих друзей. От чистого воздуха кружилась голова, солнце слепило золотом, освещая верхушки скал, согревая маленькие голубые подснежники, выглядывающие из глубоких сугробов. Алена спала дни напролет в тепло натопленном альпийском домике и улыбалась. Потом они катались на лыжах и ели сырное фондю, запивая пьяным вином. Наверное, тогда впервые она и засмеялась громким задорным смехом… впервые после возвращения с Бали.
Вместо бездумного торчания в интернете, она упорно учила индонезийский, к тому же вернулась к французскому, и превозмогая отвращение к языку, она монотонно зубрила формальные нелогичные фразы. Позже она поймала себя на мысли, что понимает разговоры в булочной и радостно присвоила себе маленькую победу. Она хвалила себя за любое достижение, как учили ее йоги, и двигалась вперед, пытаясь жить каждой секундой без видов на будущее. С Бали ей прислали книги, которые поглотили все ее время. Она впивалась в страницы и растворялась в словах, осознание которых приносило мир в ее душу. Эти книги прислал ее гуру. Нельзя сказать, что они были религиозными, но и утверждать обратное тоже было невозможно.
По мнению Алены, отрицание религии, тоже являлось фанатизмом. Эти книги были странные. Начиная читать их, не можешь остановиться. Потом, прочтя, долго думаешь и перечитываешь еще раз автоматически. И только потом смысл сказанного начинает достигать твое сознание. В общем-то, ничего нового в них не было: все о том же: о любви, вере, смысле жизни, истине, силе мысли и тайнах вселенной. Но определенно было то, что Алена изменилась. Ее больше не интересовало ни мнение других людей, ни их взгляды на нее, ни даже собаки перестали влиять на ее настроение. Конечно иногда она срывалась, например, когда в кино, на кресле рядом с ней оказалась вонючая рыжая псина со слюнявым языком. И ничего поделать с этим было нельзя. У собаки был билет. Алена ушла из кино, и взяв боксерские перчатки, долго лупила по бетонной стене в ванне, отколотив последнюю плитку.
Алена поняла, что чем меньше она общается с французами, теп пропорционально счастливее она становится. Все отношения сократились до формальных приветствий, и с поцелуями, раздаваемыми налево и на право, было решительно покончено. Ее считали дикой и необразованной. Но, по крайней мере, она перестала болеть и цеплять эти бесконечные инфекции, от поцелуев незнакомых и несвежих людей.
Ей было спокойно и хорошо с собой и от осознания того, что она просто живет. И что скоро лето. Она вдруг опять поняла, что жизнь, ее жизнь – находится в ее руках. И нет ничего и никого, кто мог бы изменить это. Ее нахождение во Франции случилось лишь по тому, что это она так решила приехать сюда за Томом, а не наоборот. А значит и все остальное она тоже может решить и изменить сама. На самом деле она до конца не знала, то ли это солнечные дни, наконец-то посетившие лазурный берег, то ли долгожданное тепло, то ли новая прибыльная работа Тома, давшая ей наконец финансовую свободу. Это ли изменило ее отношение к жизни и не начнется ли все заново с приходом холодов и мрачных зимних вечеров?
Ей стали нравиться маленькие уютные кафе в старых районах города, часами она смотрела на море, забравшись на вершину горы и рассматривала причудливые узоры, остающиеся от лодок, на рассвете, когда город еще спал, она бегала по пустынной набережной и дышала морским бризом. Постепенно к ней вернулось здоровье, а вместе с ним и силы. С приходом весны она, наконец, перестала оплачивать все эти безумные счета за газ, количество которых резко сократилось и на сэкономленные деньги в их квартире завелась уборщица. В голову Алены пришла безумная идея купить маленькую лодку. На майские праздники они арендовали у знакомых небольшой катер и впервые после ее приезда с Бали провели вместе настоящий романтически уикенд. Том наготовил вкусных закусок, загрузил на борт розовое вино, молодые свежие овощи, провансальские сладости и мед. Они медленно шли вдоль берега от Кап д, Ай до Сан Тропе, останавливаясь в тихих бухтах на ночлег. По ночам Алена действительно занималась любовью и утром смеялась, едва приоткрыв глаза. Не верилось, что зима была, что этот кошмар был правдой, и не верилось, что через месяц наступит лето и можно будет уехать… на Бали. Нет она не оставила своей мечты, но теперь в ее душе появилось сомнение. А что если все не так уж и плохо, что если пресловутый адаптационный период и вправду существует и подходит к концу?
Лето наступило в один день, как будто кто-то просто включил его. Жара стояла невыносимая и прекрасная. Они, как и обещал Том переехали на море. Им посчастливилось снять маленькую квартирку, на самом берегу, о балкон которой бились волны. Квартира была крошечной, почти кукольной, но очень уютной. Малюсенькая, как игрушечная кухня соединялась с гостиной, размером в диван, которая в свою очередь была и спальней и прихожей, и шкафом. В общей сложности размер квартиры был примерно такой же как Аленин балкон в Москве. Но все это пространство сияло белизной и только что выкрашены стены, радовали уставшие от серости глаза Алены, ослепительным блеском свежести.
Самое главное в этой квартире было, конечно море, которое можно было наблюдать со всех точек их апартаментов, и от того создавалось ощущение бесконечности их жилища, объединения с природой, чувство морской воды и бриза, и убаюкивающий шум волн. В маленькой кухне ютилась барная стойка, с другой стороны которой находилась плита. Том готовил, а она сидела со стаканом вина, смотрела на море и болтала. Порой шум от волн стоял такой, что приходилось кричать друг другу. Кожа Алены немедленно пропиталась запахами морской воды, волосы выгорели, а глаза заблестели. Том сдал экзамены, и наступили каникулы. Они часами лежали на каменном пляже и плавились на жаре. Алена отогревалась за холодную мозглую зиму и впитывала в себя энергию солнца и воды.
Купаться, было невозможно из-за нашествия медуз, и она тосковала при взгляде на манящую лазурную поверхность. Это как персик: такой вкусный, спелый, сочный… а съесть нельзя. Однако, в голове ее не было ни одной мысли, словно кто-то выключил всю ее систему воображения и приостановил поток бесконечных размышлений. Она просто отогревалась как возможно греются медведи после зимней спячки или прозябшие на морозе люди на печи, или просто те кто был кто-то бесконечно одинок, а потом вдруг встретил родственную, понимающую тебя душу и оттаял, подобрел, посмотрел на мир другими глазами. Так и она отогревалась после ужасной холодной и серой зимы, проведенной в чужой стране с людьми не только говорящими на чужом ей языке, но и не желающими ни помочь, ни понять состояние человека, покинувшего свою страну в поисках нового счастья.
Она перестала видеть плохое в окружающих ее людях, а если быть точнее, она просто перестала их замечать. И ей было уже все равно где бы она не находилась во Франции или в Бразилии, но она не видела ни людей, ни их привычек, ни нравов, а просто жила довольная самой собой, созерцанием моря и гор. Это было, по мнению Алены, немного эгоистично, но это был ее способ выживания тут. Ничто и никогда по ее мнению не могло сравниться с атмосферой всеобщей доброжелательности и приветливости на Бали. И ничто и никто по ее мнению не мог заменить тот уникальный мир, тот микроклимат, по непонятной причине притягивающий миллионы людей на этот малюсенький остров посреди Индийского океана, заселённый вопиющей беднотой и стаями бродячих собак.
Они наконец добрались до Корсики, и сняв маленькую деревянную лодку, обследовали бухты, поразившие Алену своей красотой и дикостью. Корсиканцы не только не любили иностранцев, но они с такой же неприязнью, если не больше, относились к французам. Они не признавали законов Франции, ее культуры и политики, потому назвать это путешествие радушным и приятным было нельзя. Однако красота острова и вообще природы, была очевидна, потому ни Том, ни Алена не придали большого значения неприятным моментам.
Потом на машине они добрались до Италии и Швейцарии останавливаясь на ночевку в полях, где запахи летних трав пьянили и кружили голову, где они тонули в страсти в кузове маленького Пежо, и засыпали в объятиях друг друга мокрые и усталые от наслаждения, пьяные от вновь обретенной любви и счастья.
В их маленькой квартирке на берегу моря, потерявшейся между Монако и Ницей, так что всякий ступивший в их дом, терялся от восхищения этим тайным, скрытым от всех местом, они были по настоящему счастливы. И в ее дневник с июня по август было написано всего одно лишь слово – счастье. Алена наслаждалась тишиной дикой природы по которой так тосковала с радостью, хлопотала по дому все время что-то готовя и прибирая, словно заботливая матрона, украшала стены фотографиями и раскладывала на полках сувениры, привезенные из разных путешествий. Она практически перестала носить одежду, кутаясь лишь в разноцветные шарфы, привезенные с Бали, но в большинство времени просто слонялась голышом по маленькой террасе, залитой солнцем и завитой виноградной лозой. Том с восхищением наблюдал за ее вновь обретенной кошачьей походкой и каждый день был полон страстных поцелуев и объятий, словно не было той зимы и мрака. «Неужели так важно было для нее просто видеть солнце?» – спрашивала она себя, «неужели все то сумасшествие случившееся с ней только из за холода и серости?»
Алена пыталась разобраться в терзающих ее мыслях и не понимала, не знала как быть и что следовало думать, что говорить Тому на его очередное предложение о замужестве, так и оставленное без ответа.
По ночам они тесно прижавшись к друг другу телами, как в старые времена на Бали, рассматривали в открытое окно звездное небо и молчали.
Разговор об отъезде на Бали все время откладывался. Никто не хотел поднимать эту тему и не спрашивал первым. Нельзя сказать, что она передумала, но ничего ужасного во Франции на сегодняшний день для ее уже не было. Она полностью изолировала себя от общения с французами и была совершенно счастлива со своими книгами и Томом. Как он ни старался, она ни в какую не соглашалась ни на какие отношения, знакомства, выходы в свет, и всячески избегала любых контактов.
Однажды Тому все-таки удалось вытащить ее на какой праздник, где было много его знакомых. Первым делом ей пришлось, по французской традиции, перецеловаться с огромным количеством совершенно незнакомых ей людей, потом конечно же отвечать на одни и те же вопросы по сто раз, и как и следовало ожидать, ответы на которые не интересовали никого. Вечер был заурядным, лица жеманные, еда из размороженных продуктов, повсюду настойчиво курили в лицо, несся на себе запах вонючих духов, под ногами шныряли собаки, с которыми все целовались и лизались вперемешку с людьми, и в конце концов когда ей в сотый раз язвительно спросили: «Как прекрасна Франция вы согласны? Вы наверное ужасно рады вырваться сюда из своей страны?»
Алена не выдержала и сбежала, не предупредив Тома. Вернувшись их логово на море, она первым делом нырнула в ночную холодную воду постаралась смыть с себя воспоминания о тех лицемерных и равнодушных лицах, называвшихся друзьями Тома.
– Нет мне никогда не жить в вашем обществе, – позже говорила она ему потягивая розовое вино не террасе, залитой лунным светом, – пойми милый, я не умею и не хочу притворяться. И мне проще быть одной чем с кем попало, мне люди не нужны в принципе – пыталась она втолковать ему.
– Но на Бали нас было много, ты помнишь, ты помнишь все наши посиделки, свой смех? – возражал Том.
– Это были другие люди, – резко ответила она.
Ей вполне хватало моря, солнца и его. Конечно, Алена осознавала, то спрятавшись в ракушку, таким образом, ей не удастся прожить тут счастливо и придет день когда нужно будет выбираться, общаться, работать, наконец, но этот день она себе не видела, не представляла. Хотела представить, даже визуализировала, но у нее решительно ничего не получалось.
– Почему ты поехала за мной, – вдруг спросил Том, почему ты со мной?
– Потому что я влюбилась…
– А что происходит с нами сейчас?
Алена молчала. Если бы она могла дать ответ хотя-бы самой себе…
– Я полюбила тебя и это правда, ты был такой нежный…
– Ты понимаешь, что ты говоришь? Ты считаешь что это аргумент для настоящего чувства?
– Нет, это не правда, – закричала Алена. – ты разрываешь мне сердце. Я люблю тебя и сейчас, но к моему большому горю я еще люблю и себя. А все, что происходит вокруг меня мне определенно не нравится.
– Том ты мог бы вернуться на Бали? Со мной? – спросила она и вдруг ярко осознала, что на самом деле даже никогда об этом не думала. Это вариант никогда не всплывал у нее в голове. Она считала это в равной степени невозможным, как если бы она осталась жить во Франции. В душе поселилась слабая надежда, что Том поедет за ней, и все вернётся на свои места, они снова будут влюблены и счастливы, и…
– Я считаю, что это не выход, – прервал он ее мечты. – Я не думаю, что это изменит. Если бы я хотя-бы на долю верил в это, я бы не раздумывая покинул Францию вместе с тобой. Но я не верю.
Время неслось и подступал сентябр. Виза подходила к концу. Алена стояла на пороге принятия важнейшего решения в своей жизни: выйти замуж за Тома и остаться тут, или вернуться на Бали. Никакие другие варианты она не рассматривала, и груз от принятия решения стал настолько невыносим, что она вновь потеряла покой.
Алена любила Тома. И любила солнце. Она не могла сказать, кого из них больше. Однажды ночью он лежал в кровати, ярко освещённый луной и глядел в небо. Она тоже не спала. Вдруг до ее сознания донеслось, что Том единственное, что есть в ее жизни, плавно подкатывающейся к 40 рубежу. У нее нет ни дома, ни работы, ни детей и даже страны нет. А есть только он.
– Все еще хочешь уехать? – вдруг спросил он.
– Я люблю тебя, – сказала она, – я очень тебя люблю.
– Ты не ответила.
– Я тебя люблю, – опять повторила она.
– А что дальше? – настойчиво спросил он, – что за этим следует?
– Алена вздохнула. Вот и пришло время дать ответ. «Что же за этим следует?» – спросила она вслух.
– Том, я наверное поеду, – прошептала она, ты уж простит.
Он молчал с закрытыми глазами. Алене вдруг показалось. что он не дышит.
Потом Том заговорил:
– У меня больше нет сил тебя удерживать, думаю я сделал все что мог, поверь, если бы я был способен изменить что то, я бы сделал это. Но я не могу дать тебе жизнь в роскошном теплом доме, с прислугой, не могу обеспечить тебя так как ты того достойна.
– О чем ты говоришь! – прервала она его речь. – Не ужели ты думаешь, что я ухожу из за денег, – чуть не плача спросила она?
Она сердилась на себя за то, что этот разговор походил на сценарий мелодрамы, и заранее предвидела все сказанные им и ей слова, но избежать его с другой стороны было уже невозможно.
– Разве на Бали мы были богаты, разве можно упрекнуть меня в корысти, когда мы жили в домике похожим на коробку, питаясь бананами и курицей?
Том молчал, его план затронуть совесть Алены не срабатывал, и она конечно права, по тому как упрекнуть ее в корысти было совершенно не возможно. Кто как не она оплачивала их счета, ухаживала за убогой квартирой, и терпела с ним рядом, пожалуй, самый тяжелый год в его жизни. Но он уже на самом деле не знал, как удержать ее подле себя и был готов на самые отчаянные глупости.
– Так странно, – сказала Алена, – раньше когда у меня были другие мужчины, в минуты расставания я всегда утешала себя мыслью, то когда-нибудь, пройдет время и все что между нами было уже ничего не будет значить. Через год я уже смеялась над этим и это всегда работало. Но сейчас я не вижу себя без тебя. и при этом совсем не вижу себя с тобой тут. Тогда где же я? Меня, что уже нет? – размышляла она вслух.
– И тем не менее, ты есть и есть я. Сейчас и ничего кроме сейчас не имеет значения, – сказал Том.
– Но завтра утром будет завтра! – вскрикнула Алена, – И я должна принять это завтра с каким-то решением. Я слишком долго жила сейчас… – и сердце ее защемило от боли.
– Боль и Бали, – как похоже, – засмеялся вдруг Том, – Ты не любишь меня! – сказал он.
Она привыкла жить с этой ноющей болью, ежедневно оправдывать свое бессмысленное существование на этой планете, с тоской от неопределенности, без цели и без планов на будущее. Она страдала. Страдала гораздо больше, чем до того как решилась на побег из Москвы, бросив тогда привычную жизнь и семью.
– Не оставляй меня, я больше не смогу жить без тебя.
– Том, но я… я больше не могу жить ДЛЯ тебя. Скоро наступит зима, и я правда боюсь, что весь этот кошмар опять повторится. Я больше не хочу прозябать в холоде и нищете, я вижу как ты стараешься изо всех сил, и я уважаю тебя. Я не хочу, чтобы ты стал моим рабом. Лучше останься моим героем, таким как я тебя впервые узнала там. Поверь, вспоминать о мужчине, который был прекрасен, гораздо романтичнее, чем думать об измученным бытом принце.
– Господи, бедная ты бедная, – произнес Том. – Как же тебе тяжело. Ведь ты и вправду не знаешь кого ты любишь: меня, себя, тепло, океан, свободу. На каком месте я в твоем списке любимых вещей? – горько спросил он.
– Не надо так, ты говоришь немыслимые вещи, – она заплакала, уткнувшись подушку, прости меня шептала она, но наверное будет лучше если я уеду. Время пройдет и покажет что правда. Я должна попробовать вернуться. Отпусти меня Том.
– Но если ты вернешься туда, я тебя потеряю. Я знаю что такое там. Там свобода, вечная молодость, там нет времени, есть только эти чертовы волны, от которых сносит голову. И молодость, любовь, там это пресловутое «жить сегодняшним днем». Ты забудешь меня и вылечишься, не подождав и месяца. Ты влюбишься, как это случилось со мной. И ты опять побежишь за ним, – сквозь зубы говорил он. – Но есть и реальная жизнь, где люди работают, учатся, женятся, рожают. И двигаются вперед в соответствии со своим возрастом и… и нельзя вечно бегать с серферской доской и смотреть на закаты… и…
– Том, ну почему нельзя? – прервала она его. – Очнись. Ну кто сказал тебе это? Твое правительство, сосед, мама? Да кто имеет право вообще говорить тебе, что это нельзя? И нельзя что? Жить в радость, жить на океане, жить в лете, мечтать? Стариться с доской в руках? Что конкретно нельзя и почему? И куда вперед ты собрался двигаться, Том? Вперед это где? Что там впереди? Тебе что никогда не говорили, что впереди конец? Так зачем мне нужна вся эта борьба и суета, если конец у всех до единого один? Зачем я буду тут барахтаться, расталкивая локтями людей что бы найти свое место под солнцем, если там оно светит для всех и никому не тесно? Возможно ты прав, и я встречу кого-то, но это совсем теперь уже не важно, по тому, что я знаю что такое любовь. Ты дал мне ее и ты измучил меня ей. Любовь это привязанность, кабала, если хочешь, невозможность выбора, это цепи. Я поехала за тобой хотя и не хотела этого, осталась с тобой вопреки своей воли по тому, что любила. И если ты последуешь теперь со мной на Бали, то в таком случае ты попадешь в эту ловушку, и ты пойдешь против своих желаний и планов.
– Но мне остался всего год до конца учебы, – запротестовал Том.
– Ты просишь у меня еще год? – прервала его Алена, – А потом что?
– Я не смею просить тебя, ты должна выбрать сама.