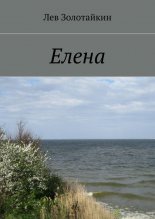Беги, ведьма Корсакова Татьяна

© Корсакова Т., 2015
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015
* * *
Лучше один день быть человеком, чем тысячу дней быть тенью.
Китайская поговорка
– …А потом они умерли. Все умирают, такова человеческая природа.
Тень склоняет голову, искорка-сердце сверкает чуть ярче, словно ставит точку в конце сказки. Сказки у тени разные, но всегда чем-то похожие. И забываются почти сразу, не нужно даже пытаться их запоминать. Может, потому иногда кажется, что на самом деле тень хитрит, рассказывает одну и ту же сказку?
А потом они умерли…
Это правда. Все умирают. И она тоже умерла. Кажется…
Все умирают, такова человеческая природа…
– А у теней какая природа?
Не то чтобы ей так уж интересно, скорее просто хочется столкнуть уже почти позабытую сказку с накатанных рельсов.
Тень отвечает не сразу, и у нее есть время, чтобы рассмотреть по-ученически прилежно сложенные на коленках руки. Они словно чужие: тонкие пальцы, узелки суставов, нити сосудов. Руки полупрозрачные, сквозь них просвечивает ткань джинсов. И черно-синие разветвления вен кажутся диковинным, но не очень красивым узором. Ей становится неинтересно. И вопрос больше не представляется важным, забывается, как и сказка. Тень может не отвечать. Зачем отвечать на вопрос, утративший важность сразу после рождения? Мертворожденный вопрос…
– Какая природа?
Голос тени похож на шум летнего дождя. Наверное. Что такое летний дождь, она тоже почти забыла. В теневом мире воспоминания умирали первыми. Сначала она пугалась, проводила регулярную ревизию памяти и всякий раз чего-то недосчитывалась. А потом привыкла и перестала пугаться. Наверное, потому, что вслед за воспоминаниями пришел черед эмоций. Так объяснила тень, и она согласилась.
– Тень – это тьма, но не черная, а проницаемая, у всякого человека своя. – Искорка-сердце снова мигает, подсвечивает тень золотистым и по самому краю багряным. Раньше багряного не было. Или она просто забыла?
Хочется спросить, так сильно хочется, что узор из вен вздувается и пульсирует в такт золотой искорке. Только бы успеть, пока и этот вопрос не утратил смысл.
– Ты меняешься, – добавила она.
Получился не вопрос, а утверждение, брат-близнец уверенности. И значение этих слов она еще помнит.
– Меняюсь. – Тень кивает, соглашаясь. – Только слишком медленно. Ты сильная.
Она не сильная. Она… почти забыла, какой была, какая есть.
– Не хочешь успокоиться. – В голосе тени – грусть. Или удивление?
– Я хочу.
Успокоение – это как смерть? Надо спросить.
– Тогда не сопротивляйся. – Тень накрывает ее ладони своими, тоже полупрозрачными, с черно-синими руслами пульсирующих вен. – Видишь?
Она видит, но пока не понимает. Она не уверена, что ей нужно понимать. Достаточно сказок, которые рассказывает тень. А еще картинок. Картинки даже лучше сказок. Картинки возвращают потерянные воспоминания.
– Покажи мне, пожалуйста.
– Показать?
Смутно знакомое лицо совсем близко. Когда у тени появилось лицо? Она не помнит, всматривается в черные провалы глаз и не видит там ничего, даже собственного отражения. А раньше видела?
– Мне придется оставить тебя одну. – Полупрозрачные пальцы касаются щеки, но она не чувствует прикосновений. А раньше чувствовала? – Ты меня слышишь?
Она слышит. Чтобы показать картинки, тень должна уйти. Ненадолго, надолго она никогда не уходит. Боится?
Страх – единственное чувство, которое не забывается. Страх – это иголочки по истончившейся шкуре и холод в голове. Страх приходит, когда уходит тень, свивается за спиной тугими кольцами, шуршит в тишине стальной чешуйчатой броней, смотрит так пристально, что холод в затылке переплавляется в олово и тяжелой шипящей каплей сползает по позвоночнику. Когда приходит страх, хочется обернуться.
– Не оборачивайся… – Глаза-провалы все ближе. – Никогда не оборачивайся, и все закончится хорошо.
– Сказка закончится хорошо?
– Сказка… закончится.
Раньше она бы расстроилась, сказки – единственное развлечение теневого мира, но сейчас ей все равно. Только немного страшно.
– Я скоро вернусь.
Это правда, тень никогда не врет и всегда возвращается до того, как она успевает наполниться страхом до самого края. Иногда ей становится интересно, что случится, если тень не вернется, но думать об этом не хочется. Последнее время думать хочется все меньше и меньше. Мысли уходят вслед за чувствами, просачиваются сквозь тонкую ткань теневого мира.
– Веди себя хорошо. – Волос касается легкий ветерок. В теневом мире нет ветра, это тень ласково погладила ее по голове. – И не оборачивайся. Просто любуйся картинкой.
Ей хочется спросить, что же там, в темноте за спиной, но тень исчезает, и потребность задавать вопросы вместе с ней. Остается только страх и… нетерпение.
…Эта картинка грустная. Небо серое, без просветов, расчерчено черным на одинаковые квадраты. Косой дождь стекает по квадратам мутными струями, мешает смотреть, раздражает. Узловатая ветка с мелкими листочками тянется к ней, пытается нарушить математическую выверенность квадратов. Не дотягивается, зависает близко-близко, почти у самого лица. На ветке какая-то мелкая птаха, отважная, как канатоходец, рискнувший испытать судьбу в самый разгар бури. Птаху не жалко, у нее есть отличная страховка – крылья. Незнакомые, почти забытые слова поднимаются со дна памяти, как всплывают мелкие щепки со дна лужи. Лужа неглубокая, серая, как и небо, в ней отражающееся. Хочется посмотреть, попытаться увидеть… Что? Она не может вспомнить, как ни старается. Просто смотрит, как косые струи дождя почти насквозь пронизывают серую лужу, перемешивая сорванные ветром листья и обломанные стебли шиповника.
Шиповник… слово шипит, шуршит сброшенной змеиной кожей где-то за спиной…
Не оборачиваться. Тень сказала, если не оборачиваться, все будет хорошо.
Первая игла из тысячи впивается в основание шеи. Не больно. Пока не больно. Холод в затылке загустевает, превращаясь в хрустальный шарик. Если качнуть головой, шарик зазвенит мелодично, как колокольчик. Динь-дон…
А птаха на картинке продолжает бороться с дождем, цепляется за ветку, косит черным, как бусина, глазом. У птахи внимательный взгляд и четкие намерения. Птаха открывает клюв, но перезвон в голове заглушает ее голос. Лучше бы он заглушал голоса тех, кто приходит из ниоткуда сразу, как только уходит тень. Эти невидимые визитеры страшны. От их алчных взглядов хрустальный шарик плавится, а боль от игл становится почти невыносимой. И это страшно, потому что в теневом мире боли нет, потому что теневой мир – это бесконечная сказка, которая сразу забывается, оставляя после себя тоску, почти такую же сильную, как страх. И только картинки спасают от этого непонятного, тянущего, как зубная боль, чувства неправильности происходящего. А еще разговоры с тенью. Но сейчас тени нет, а за спиной в темноте кто-то стоит, и тяжелый взгляд превращает иглы боли в стальные гвозди, заколачивает в тело по самые шляпки. Она шипит, сжимает виски руками, а птаха испуганно срывается с ветки. С исчезновением единственного живого существа и без того невеселая картинка совсем тускнеет, становится мертвой.
– Ты не справилась. – Этот голос она не слышит, а чувствует. Шляпками стальных гвоздей, впивающихся в плоть. – Слабая.
– А тень говорит, что я сильная. Врет? – Еще тень не велит оборачиваться, и она не станет. Этого нельзя делать ни за что!
– Тени никогда не врут, просто не говорят всю правду. Такова их суть.
Значит, вот какая у них суть – не говорить всю правду.
– А если спросить?
– А тебе очень хочется спрашивать? – В голосе слышится насмешка. – Тебе вообще много хочется?
Нет. Сказать по правде, ей вообще ничего не хочется, даже сказок. Если только картинок. Картинки позволяют вспоминать и чувствовать, позволяют хотеть…
– Она очень нетерпеливая. Такая же, как ты. – Голос проходится невидимым молотком по невидимым шляпкам невидимых гвоздей, вырывает из горла даже не крик, а сип.
– Больно?
– Больно!
– Это хорошо. Это означает, что шанс еще есть.
– У кого?
– У тебя. Глупая, но сильная. Твоя тень тебя не обманула, а моя кровь не подвела.
Кровь – это что-то густое и черное. У остальных – красное, а у нее – черное. Чужая кровь, непрошеный подарок, от которого только боль и слезы. Кто даритель? Тот, кто стоит за ее спиной…
– Не оборачивайся. – На плечи ложатся тяжелые ладони. Цепкие пальцы больно впиваются в плоть, не стряхнуть, не вывернуться.
– Кто нетерпелив?
– Тень, твоя тень. Ей не стоило оставлять тебя здесь одну, не стоило уходить. Страшно?
– Страшно.
А еще больно. Невидимые пальцы играют на жилах, как на струнах. Она кричит, но не слышит собственного крика.
– Что еще? Что ты чувствуешь?
Хватка слабеет, и ей кажется, вот сейчас она упадет.
Не падает, остается стоять, как подвешенная на ниточках кукла. Ниточки-нервы привязаны к шляпкам гвоздей, и невидимый кукловод решает за куклу, что она должна делать. Руки поднимаются, поворачиваются ладонями вверх. Черный рисунок вен похож на жилки на кленовом листе. Красиво, а с болью можно стерпеться.
– Что ты чувствуешь?
– Мне интересно.
– Что тебе интересно?
– Что там.
– Где?
– В картинках, которые показывает тень.
– В картинках…
Натяжение нитей слабеет, и руки безвольно падают вниз, словно она им больше не хозяйка. Становится обидно. Еще одно забытое чувство. Пальцы сжимаются в кулак.
– Злишься. – Голос не спрашивает, голос утверждает. Ударить бы со всей силы, до крови. Любой, хоть красной, хоть черной.
Черная кровь. Что в ней особенного? О чем она забыла и сейчас так мучительно пытается вспомнить?
– Это плохое место для всех. Даже для меня. А для такой, как ты, оно смертельно опасно. Странно, что ты до сих пор держишься.
– Какая я? Кто я?
– Правильный вопрос. Другой бы спросил, где он, но ты все еще чуешь суть вещей. Тебе здесь не место.
– А где мне место?
– Там.
Птаха вернулась, вцепилась коготками в ветку, посмотрела неодобрительно.
– Там красиво.
– Там красиво, потому что там настоящая жизнь.
Жизнь – это ветер в лицо и холодные капли на коже, и запах безвременников, и вишневые лепестки на ладони. Жизнь – это то, что она почти забыла, от чего добровольно отвлеклась ради чего-то очень важного.
– Она поспешила, твоя тень. Ты еще не все забыла, а она решила, что уже может уйти.
– Куда?
– В настоящий мир, чтобы когда-нибудь поменяться с тобой местами.
– Поменяться местами?..
– А ты не знала? Не слышала никогда этой сказки? – В голосе – насмешливое удивление. – Слишком поздно я тебя встретил, слишком мало сказок рассказал.
Сказок… Сказки ей рассказывала бабушка. Когда-то очень давно, уже и не вспомнить когда. Те сказки сладко пахли леденцами, от которых ладошки становились липкими. Те сказки перетекали в веселые и радостные сны. Были и другие, уже почти забытые, с запахом пыли, мокрой собачьей шерсти и грозы. Эти сказки оставляли на ладони черную лужицу крови и прорастали в жизнь кошмарами. Эти сказки рассказывал умирающий старик. Сказки шли довеском к чему-то страшному, но неизбежному, как майская гроза.
Картинку перечеркнула белая молния, на мгновение расколола на две совершенно одинаковые половинки. Птаха испуганно взмахнула крыльями, но осталась на ветке.
Страшные сказки ей рассказывал… Сказочник!
– Не оборачивайся! – Тяжесть чужих рук на плечах делается невыносимой. – Не вздумай на меня смотреть.
– Почему?
– Потому что соблазн убить тебя и без того слишком велик. Мне тяжко, девочка. Мир теней одинаково немилосерден как к живым, так и к мертвым. Это плохой мир.
– А я, я какая: живая или… мертвая?
– Живая. Пока. Тебе осталось недолго, если…
– Если что?
– Если откажешься от моей помощи.
– И что будет?
– Ты сама станешь тенью. Будешь жить тут. Или не жить. Не думаю, что у теней есть настоящая жизнь. А потом, может, через сотню, может, через тысячу лет в твой мир придет вот такая же сильная, но глупая, и вы заключите сделку, которую нельзя нарушить. Ты исполнишь желание, тени в этом мастера. И она, та, другая, останется с тобой, а потом и вместо тебя.
– А я?
– А ты вернешься в мир живых.
– Тенью?
– Не тенью, но и не человеком.
– Кем тогда?
– Сумраком в человеческой оболочке.
– Неприкаянной душой?
– У сумрака нет души. Сумрак – это сумрак.
– Я не хочу становиться сумраком.
Картинку снова раскололо на части, послышался гром.
– Значит, тебе стоит попытаться уйти, вернуть себе свою жизнь. Пока я здесь, пока твоя тень отсутствует.
– Я заключила сделку.
– Честная. Честная и глупая. У нас с тобой тоже была сделка, ты приняла мою силу.
– Я стала ведьмой.
Ведьма. Слово не кажется ей ни страшным, ни неприятным. Констатация сути, только и всего.
– Посредственной ведьмой, если уж начистоту.
Ей бы обидеться, да вот не получается. Что ж обижаться на правду!
– Но лучше посредственная, чем мертвая.
– Вы хотите мне помочь?
Желание обернуться, посмотреть Сказочнику в глаза невыносимое.
– Не смей! – Голос оглушает, почти сбивает с ног. – Не смей оборачиваться. Я не затем пришел, чтобы убить, я хочу спасти.
– Почему? – Ей и в самом деле интересно. Любопытство заглушает боль. – Зачем мне помогать?
– Я помогаю не только тебе, но и себе. Так будет правильно.
– Но договор…
– Я не подписывал никаких договоров, и я пришел к тебе, а не к твоей тени. Говори сейчас, пока еще есть время. Ты хочешь вернуться?
Может быть, теневой мир не так уж и плох, может быть, ей стоило подумать, прежде чем ответить? Она не стала думать.
– Да!
– Будет больно.
Словно когда-то выходило по-другому. За все нужно платить.
– Будет больно, и результат неизвестен. В мир живых мне ходу нет. Даже оказавшись здесь, я нарушаю правила.
Хочется спросить, какие тут правила, но она не станет, потому что понимает – Сказочник не ответит.
– Тебе придется справляться самой.
– Как и в прошлый раз. – Она не хочет его уязвить, просто так получается. – Извините.
– Не извиняйся. Мне это не нужно. Я просто предупреждаю, рассказываю о возможных последствиях. Они могут быть… непредсказуемыми. Ты можешь умереть, переступив границу миров.
– То есть гарантий никаких нет. – Ей кажется, что она улыбается. Или это просто гримаса?
– Гарантий нет, есть шанс. Ты сильная. Однажды ты справилась.
– Тогда все было по-другому.
Тогда она умирала, и опасный дар, принятый из рук ведьмака, называющего себя Сказочником, казался единственным шансом на спасение. Тогда ей тоже пришлось пересечь границу, переродиться в ведьму. Что принес ей тот дар? Наверняка ничего хорошего, коль уж она оказалась в теневом мире, коль уж снова встала перед выбором.
– И всякий раз будет по-другому. Радуйся, ты не бежишь по кругу, как загнанная цирковая лошадь. Ты отдаешь, но и получаешь тоже. Это честно.
– Да, это честно.
А картинка меняется. Дождь и птаха на мокрой ветке исчезают. Вместо них возникает комната. Светлые стены, высокая кровать, аккуратно застеленная клетчатым пледом, тумбочка, на ней, корешком вверх, раскрытая книга. Хочется увидеть название, и она смотрит. «Сказки Ганса Христиана Андерсена». Снова сказки… И кресло, придвинутое к самому окну. Черный дерматин, строгий хром, прорезиненные ручки, два больших колеса с прилипшим к ободу то ли листочком, то ли конфетным фантиком. В кресле – женщина. Тонкие руки на подлокотниках неподвижны, точно неживые. Русый завиток над ухом, шея, кажущаяся очень длинной из-за коротко остриженных на затылке волос. Легкий наклон головы, будто женщина прислушивается к грозе. А лица не рассмотреть. Никак не рассмотреть…
– Кто это?
– Ты знаешь.
Тяжесть чужих ладоней уже не кажется мучительной, она защищает, не дает потеряться окончательно, успокаивает.
Женщина в кресле на колесах выпрямляет спину, вздрагивает русый завиток, бледнеет тонкая полоска кожи на шее, пальцы впиваются в подлокотники, словно противясь невидимой силе, пытающейся их разжать. Женщина оборачивается медленно, словно нехотя. Может быть, ей тоже нельзя оглядываться?
Лицо похоже на кукольное: высокие скулы, глупо округлившийся рот, пустые незрячие глаза, в которых ничего не отражается.
– Это не я… – Хочется кричать, но не получается. Хочется умереть, но ее лишили даже такой малости. Она сама себя этого лишила.
– Это не ты, – соглашается Сказочник. – Это она.
– Она?
– Твоя тень.
Руки с тонким рисунком вен взмывают вверх, застывают над головой, скрюченные пальцы скребут воздух. Голова дергается влево-вправо, как у марионетки.
– Она учится управляться с твоим телом, примеряет его, как примеряют новое платье. Пока у нее не слишком хорошо получается, но тени быстро учатся.
В бессмысленных кукольных глазах зажигается огонек. Понимание?.. Изумление?.. Рот раскрывается еще шире, вены на шее вздуваются от неслышимого крика. И картинка идет трещинками, как разбитое зеркало.
– Зря она оглянулась. – На самом деле Сказочнику совсем не жаль. Наоборот, он рад. Если, конечно, Сказочник вообще способен радоваться. – Тебе не нужно ее бояться. В мире живых тень – это всего лишь тень, даже такая предприимчивая. Она будет слушаться, станет служить верой и правдой. Тени умеют проигрывать и принимать новые правила игры.
– Теперь правила изменились?
– Скоро изменятся. Я разрываю ваш договор, моих сил на это хватит.
Наверное, нужно попрощаться по-настоящему, поблагодарить за то, за что так и не успела поблагодарить, сказать что-нибудь правильное, соответствующее моменту.
– Ты изменишься. Снова. – Голос Сказочника слабеет, превращается в шепот. – И я не могу сказать наверняка, какие это будут перемены.
– Спасибо. – Все ее смятение, вся ее благодарность умещаются в одно-единственное слово.
– Живи!
Толчок в спину бросает ее вперед, грудью на потрескавшуюся, утратившую краски картинку. Острые осколки впиваются в кожу, проходят насквозь, заставляют кричать в голос, молить о пощаде. Она не хочет в мир живых! Там слишком больно, слишком остро. Невыносимо! Но давление все усиливается, проталкивает агонизирующее тело в ощетинившуюся осколками раму, вдавливает в мир, а мир в нее, заставляет умирать от боли миллионы и миллиарды раз, разрывает на мелкие клочки, распыляет на молекулы. Для чего? Чтобы собрать как конструктор уже по ту сторону? Если повезет, если хоть одна из смертей закончится воскрешением…
Не единожды мертвая, насквозь прошитая осколками неласкового мира, она оборачивается. Ей нечего терять!
Он стоит, раскинув в стороны длинные руки. Высокий старик, лицо которого она успела забыть. А позади, за его сутулой спиной, беснуется тьма, мечутся сумрачные тени, упустившие добычу.
– Иди же! – Лицо Сказочника искажено. Ему так же больно, как и ей самой. Если не больнее… – И прости меня. Я не думал, что кто-то посмеет…
– Мне страшно! – кричит она перед тем, как умереть в самый последний, самый мучительный раз…
* * *
…Тонкий визг, похожий на звук бормашины, до предела натягивал нервы, вгрызался в мозг стозубым зверем, заставлял метаться из стороны в сторону в жалких попытках спастись. Но тело не слушалось, глупое тело забыло, как нужно спасаться.
– Жорж, держи крепче! Руку держи!.. – Женский голос злой и немного растерянный. Незнакомый. – И голову…. Лидия, зафиксируй ей голову, пока она не покалечилась. За ее голову наши снимут, если что-нибудь случится.
В руку впивается что-то острое, становится сначала жарко, а потом сразу холодно.
– Орет-то как. – А этот голос густой, прокуренный, и пахнет от человека дешевыми сигаретами. – Все не заткнется никак.
– Жорж, ты бы сам заткнулся. И держи крепче. Крепче, я говорю, держи!
Острое ворочается в вене, одаривая попеременно то жаром, то холодом. А от визга закладывает уши.
– А силищи-то сколько у этих шизиков! – удивляется прокуренный голос. – В ней же весу, как в воробье, а как брыкается! Троим не совладать. Почти год сидела чуркой пластилиновой, а теперь брыкается.
– И окно разбито, – дребезжит прямо над ухом визгливый женский голос. – Хелена Генриховна, кто окно-то разбил?
– Разберемся, Лидия. Нам бы сейчас с пациенткой сладить. – Игла выскальзывает из вены, оставляя на коже прохладную дорожку из капель. – Что-то лекарство медленно действует.
– Да оно совсем не действует, – басит тот, кого зовут Жоржем, – никак не угомонится, убогая. А до того ж смирная была… Что это на нее нашло?
– Стекло как-то странно разбито, – продолжает жужжать голос той, кого зовут Лидией. – Посмотрите, оно все в трещинках.
– Думаешь, это она его? – Запах табака усиливается, а хватка на руке, наоборот, ослабевает, и позвоночник, до того выгнутый дугой, вдруг теряет жесткость, обмякают напряженные до судорог мышцы, а тело проваливается во что-то мягкое, пушистое. И визг исчезает. Как хорошо!
– Заткнулась. – В голосе Жоржа радостное облегчение, словно ему было так же больно, как и ей, а теперь вот отпустило.
– О чем вы говорите?! Сама она не смогла бы в таком состоянии. – Твердые пальцы ощупывают лицо, оттягивают веко.
Становится слишком ярко и больно, и не получается ничего разглядеть из-за вспыхнувшей в капле слезы радуги. Радуга – это семицветье яркого и живого, ничего общего с бесцветным теневым миром. Радуга – это вестница жизни.
От облегчения, от осознания свершившегося чуда хочется плакать, и она плачет. Слезы сбегают по щекам горячими солеными ручейками.
– А что у нее с лицом? – спрашивает та, которую зовут Лидией. – И с руками? И вообще… у нее вся кожа в порезах.
– Это не порезы. – Прохладный палец замирает на пути слез, останавливает ручеек. – Это какое-то… не знаю. Похоже на аллергию.
Это не порезы и не аллергия, это следы, оставшиеся после перехода границы между мирами. И внутри у нее такие же следы, они болят и кровоточат.
– А в стекло кто-то камнем запустил, или ветка во время грозы ударила, – бубнит Жорж.
– Ветка до окна не дотягивается, не говори глупостей. Отодвинься, дай мне ее послушать.
К груди прижимается что-то холодное, не больно, но щекотно, и сердце начинает биться сильнее, отзываясь на прикосновения.
– Тахикардия. Впрочем, после такого приступа ничего удивительного. Жорж, перенеси ее на кровать. Лидия, да отпустите вы уже ее голову. Все закончилось, неужели вы не видите?
Ее сгребают в охапку, как куль тряпья, голова запрокидывается, а кончики пальцев чиркают по пластиковому подлокотнику кресла. Тело парит в воздухе, и парение это пугает, сводит уставшие мышцы новой волной судороги.
– Опять, что ли, Хелена Генриховна? – Жорж швыряет ее на что-то пружинно-мягкое. В этом суетливом жесте – страх пополам с брезгливостью.
– Жорж, аккуратно! – Хелена Генриховна, у которой твердые, бесцеремонные пальцы, с каждой секундой раздражается все сильнее. – Лидия, зафиксируйте ее! И прекратите наконец пялиться в окно! Когда закончите здесь, скажете завхозу, чтобы заменил стекло.
На запястьях захлестываются ремни, мягко, но неумолимо тянут руки вниз – фиксируют. Страх накатывает с новой силой, вжимает затылок в подушку, сучит пятками по шерстяному покрывалу, выгибает тело дугой. Она не хочет, не позволит, чтобы ее опять связывали!
– Жорж, помоги! – командует Хелена Генриховна, и в вену снова впивается игла. На сей раз совсем не больно, ласково.
– Все хорошо, Арина. – Кто-то – она не понимает, кто из троих – гладит ее по волосам. – Сейчас вам станет легче.
И ей в самом деле становится легче. Мир превращается в шерстяной плед, укутывает коконом, убаюкивает.
* * *
…И снова она пришла в себя от визга, но не назойливого, а едва слышного – металлом по стеклу, а потом сразу же по нервам. Нервы обнажены и растянуты, мягкими кожаными браслетами прикручены к маскирующейся под кровать дыбе. Больно. И очень хочется пить.
– Первый раз вижу, чтобы так стекло треснуло… – дребезжит высокий старческий голос, перекрывая не то скрежет, не то осипший визг. – Если бы камнем саданули, так дыра бы осталась, а тут такое дело…
– Какое? – А этот хриплый голос она знает, слышала раньше.
Слышала, но не видела его обладателя. Может, попробовать посмотреть? И она попробовала.