Vremena goda Борисова Анна
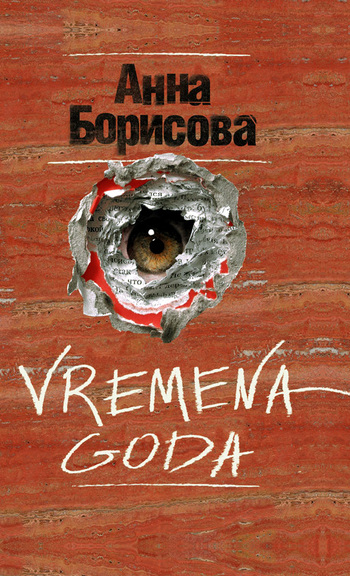
Мы садимся в шлюпку. Она белая, Давид тоже во всем белом. А я оделась в черное – это траур по моей жизни. Наверное, со стороны кажется, что Давид в лодке один и разговаривает сам с собой.
На веслах катаются многие. После жаркого дня на воде свежо, прохладно. Отовсюду смех, голоса. Кто-то прихватил с собой патефон. Вертинский картаво поет мою любимую песню про Бал Господень:
- …Но однажды сбылися мечты сумасшедшие.
- Платье было надето. Фиалки цвели.
- И какие-то люди, за вами пришедшие,
- В катафалке по городу вас повезли.
Разноцветные вспышки озаряют реку так часто, что в промежутках глаза не успевают свыкнуться с темнотой. То слепнешь, то жмуришься от ярких сполохов.
– Отплывем подальше, – прошу я.
Шлюпка движется к середине. Мы удаляемся от зоны всеобщего веселья. Теперь лодки проплывают мимо нас реже, и это не гости Давида, а просто публика. Катания по Сунгари в эту жаркую пору очень популярны, особенно у местных китайцев. Их суденышки красивее европейских – с резными носами, бумажными фонарями, затейливыми кабинками.
Я опускаю кисть руки в маслянисто поблескивающую воду. «Выпалю всё, да и в омут головой», мрачно думаю я.
Жалуюсь:
Господи, они перестанут когда-нибудь палить? Невозможно говорить!
Он смеется:
– Перестанут, но нескоро. Я заказал 290 залпов, по десять за каждый год моей жизни. Лупят каждые 15 секунд, значит, эта война в Крыму будет продолжаться… Сколько же это…
– Больше часа. Ладно. Поговорим под аккомпанемент.
«Шикарный антураж для самого паршивого дня моей жизни», думаю я.
(Бедная дурочка Сандра, она даже не представляет, что ее ждет – но я-то это знаю, и мне с каждой секундой всё страшнее.)
Я произношу приготовленный текст. С вызовом, отрывисто – приноравливаюсь не столько к перерывам в трескотне салюта, сколько к четвертьминутным периодам темноты, милосердно прячущей ошеломленное лицо Давида.
(Побыстрей проскочить этот эпизод, даже сейчас вспоминать его мне мучительно. В любви Сандра признается таким тоном, будто обвиняет или угрожает.)
Из мрака выпячивается какая-то зловещая черная харибда. Вспышка – это всего лишь Солнечный остров. Днем там тоже купаются и загорают, но сейчас он темен и пустынен, пляжные ресторанчики по вечерам не работают. Далеко же отнесло нас от набережной течением.
Давида моя атака застала врасплох. Он испуган. Его растерянно мигающие глаза, его молчание подтверждают, что чуда не случится.
– Что ты сжался? – бросаю я. – Не бойся, я тебя не изнасилую. И топиться не стану. Я ведь не барышня Арт-нуво, сам говорил. И всё, закончим на этом. Просто греби к берегу, а то нас к Затону утащит.
Впервые я вижу Давида смущенным.
– Сандра, Сашенька… Я никак не мог предположить… – лепечет он самым жалким образом. – Мы же с детства… Я никогда не смотрел на наши отношения в этом смысле…
– Не смотрел – и не смотри! Помалкивай и греби, или ты выбился из сил? Давай тогда я.
(Господи, не женщина, а бульдозер! Спасибо, что весла насильно не отобрала.)
Давид разворачивает шлюпку. Из темноты прямо на нас движется длинная китайская лодка, на носу и на корме у нее фонарики, но они не горят.
– Эй, осторожно! – кричу.
Мне чудится, будто кто-то глухо по-русски говорит: «Вот он!». Может быть, послышалось.
Вместо того чтобы свернуть, лодка прёт прямо на нас. На корме силуэт рулевого в круглой шапочке.
– Куда? Столкнемся! – сердито обращаюсь я к нему по-китайски. Пьяный он, что ли?
Вдруг хруст. В наш борт впиваются крючья.
Рывок.
Качнуло – я чуть не падаю с сиденья.
Рывок – наша шлюпка оказывается борт о борт с джонкой.
Четыре черные руки тянутся к белеющему во мраке Давиду. Хватают его за плечо, за одежду. Легко, будто мешок соломы, выдергивают со скамейки, переволакивают на ту сторону. Шлюпка накреняется, я снова чуть не падаю, но уже в другую сторону.
Я кричу, но мой голос заглушен очередным залпом.
При карнавальном свете желто-красных ракет я вижу две белые брючины, торчащие кверху – Давид пытается сопротивляться, бьет одного из черных людей ботинком в голову, но наваливаются другие. Их целая гурьба. Я вижу, как на Давида что-то натягивают. Кажется, мешок. В джонке надстройка в виде маленького павильона: четыре шеста, матерчатый полог. Просвечивает силуэт какого-то человека в кепи. Он неподвижен.
– На помощь! – ору я во все горло, когда эхо салюта стихает. – Бандиты!
По реке мой вопль разносится далеко, но на берегу тоже орут, там всем весело.
Свет меркнет.
Шлюпка прыгает на волнах.
Кто-то сел напротив меня.
В мою грудь больно тыкается твердая палка. Я хватаюсь за нее рукой.
Это не палка. Длинное дуло пистолета или револьвера.
Негромкий голос говорит с сильным китайским акцентом:
– Твоя кличи – моя стлеляй, вода кидай. Никто не слушай, думай лакета.
Он прав. На выстрел никто не обратит внимания.
Убьет!
И Давида не спасу.
– На.
Китаец тянет мне что-то маленькое, квадратное, белое. Механически беру. Сложенный листок бумаги.
– Бумазька папа давай.
– Что?
В джонке возня, мычание, хрипы. Кажется, Давиду заткнули рот кляпом.
Новая вспышка, на сей раз бело-зеленая.
Передо мной сидит сухощавый мужчина в темном френче. Лицо не закрыто – обычное китайское лицо, немолодое, очень спокойное.
– Бумазька папа давай, – повторяет человек и показывает на кучу-малу в джонке. – Его папа давай.
– Что? – переспрашиваю я. – Вы кто? Что вам нужно?
– Дула. Глупая дула. Мы хунхуз. Бумазька папа давай. Поняла?
Это хунхузы! Они хотят получить за Давида выкуп! Со мной разговаривает их главарь. В руке у него «маузер». Я читала, что у бандитов «маузеры» очень ценятся, это у них признак высокого ранга.
Сунгари погружается в тьму.
– Поняла, дула?
– Поняла…
Хунхуз поднимается, легко перешагивает в соседнюю лодку. Крючья отцепляются. Я немедленно вскакиваю, но повелительный окрик заставляет меня сесть.
Когда ночь озаряется в следующий раз – в небе разлетается на ломтики несколько огромных апельсинов, – джонка уже в десятке метров от меня. Оранжево-черная, она быстро уходит.
Хватаюсь за весла, отчаянно гребу к пристани.
Кричу что есть мочи:
– На помощь! Давида похитили хунхузы! На помощь!
С середины реки доносится рокот. Это на джонке включили двигатель. Во время следующего залпа ее уже не видно.
Меня услышали. На причале толпятся люди.
Да что толку? Похитители уже далеко. И потом, кто же погонится ночью за вооруженными до зубов хунхузами? Уж во всяком случае не гости Давида Каннегисера.
Хунхузы. У нас в Маньчжурии детей пугали не Бабой-Ягой или серым волчком. «Придет хунхуз, утащит тебя за Сунгари», – говорили шалунам. Наверное, так же в древней Руси стращали малышей злым татарином или половцем.
«Хунхуцзы» по-китайски означает «краснобородый». Вероятно, из-за того что в традиционной опере борода красного цвета является атрибутом злодея. Еще я где-то читала, будто первые хунхузы нарочно красили свои бороды хной, чтобы люди больше боялись.
Шайки бродячих разбойников расплодились на диких и относительно безлюдных просторах северо-востока во второй половине девятнадцатого века, когда Цинская империя пришла в упадок и каждый губернатор обзавелся собственным войском. Солдат частенько вербовали насильно, не платили жалованья, плохо кормили, и те бежали на волю, прихватив с собою оружие. Когда в Заамурье пришли русские, хунхузов было так много, что против них пришлось посылать регулярные войска. Знаменитая Охранная стража КВЖД была создана прежде всего для защиты от туземных бандитов. Они нападали на поезда, грабили пароходы, опустошали целые селения.
Пока в Харбине властвовал грозный генерал Хорват, нападать на русские владения хунхузы не осмеливались. Но кроме кочевых шаек появились хунхузы городские, они промышляли контрабандной торговлей, наркотиками, похищали или облагали данью китайских купцов. Эта преступная сеть существовала во всех дальневосточных городах, где имелись китайские кварталы. Русских бандиты не трогали, боялись уголовной полиции, которая при Хорвате работала, как часы. Правда, внутренними конфликтами «туземного населения» сыщики не интересовались, и это дало городским хунхузам возможность пересидеть трудные годы. После 1920 года, когда «Счастливая Хорватия» приказала долго жить, а Охранную стражу и уголовную полицию распустили, для разбойников наступило золотое время.
В степях и лесах Северной Маньчжурии появились многочисленные банды. Наша газета, имевшая доступ к официальной информации, писала, что общая их численность составляет не менее ста тысяч человек.
Всякий поезд, пароход, автомобильный или гужевой караван рисковал быть ограбленным. Если полиции удавалось схватить преступников, их безжалостно казнили, но положение лучше не становилось. Единственной силой, которой боялись налетчики, были японцы. Поэтому подданных микадо хунхузы не трогали, и новые хозяева страны, как в свое время хорватовская полиция, не считала «краснобородых» серьезной проблемой.
Зато у русских иммунитет кончился. Чуть не каждую неделю пресса сообщала о новом похищении. Иногда пленников отпускали быстро – если выкуп вносился без промедления. Но бывало, что переговоры тянулись месяцами, и тогда все с ужасом читали об отрезанных ушах и пальцах, которые доставлялись по почте несговорчивым родственникам. Бывало и так, что похищенных убивали – для острастки, в наущение несговорчивым.
Дальше несколько страниц в книге моей памяти будто забрызганы черными чернилами, я могу восстановить лишь отдельные строки. Еще это похоже на много раз склеенную, прыгающую кинопленку. Несколько дней я находилась в полусумасшедшем состоянии, в самом настоящем помрачении рассудка. Ни минуты не сидела на месте. Не ела, не спала. Весь этот первый, самый страшный период моей июльско-августовской эпопеи слипся в один вязкий ком непрекращающегося кошмара.
Вот я в полиции.
Обшарпанное помещение, половина отделена низкой деревянной перегородкой. На стене портрет молодого человека в очках – это верховный правитель. Инспектор изучает бумажку, которую сунул мне человек с «маузером». Там написано: «300 000. Слово» – и только.
– О-о-о, какая сумма. – Чиновник почтительно качает головой. По-русски он говорит примерно так же, как главарь хунхузов, поэтому охотно переходит на китайский. – Триста тысяч юаней! Обычно вымогают две, три тысячи. Больше двадцати тысяч еще не бывало. Слово явно знает, что с господина Каннегисера-старшего можно взять много больше.
– Кто знает? – переспросила я. Чиновник-китаец удивлен.
Как, госпожа не слышала про шайку, главарь которой носит прозвище Слово? Но ведь это самый опасный из харбинских преступников. Он всеведущ и совершенно неуловим.
Нет, я мало что знаю про городских хунхузов. Я никогда не занималась полицейской хроникой и даже не заглядывала в раздел уголовных происшествий.
– «Слово»? Почему такая странная кличка?
Обычно предводители хунхузов именуют себя как-нибудь грозно и цветисто: Черный Дракон, Безжалостный Меч, Ядовитое Жало.
– Потому что этот человек всегда держит слово. Не было случая, чтобы он убил жертву, за которую внесен выкуп. Но зато у него строгие правила. Если деньги не внесены в течение месяца, он присылает семье палец. Через две недели ухо. Еще неделю спустя подбрасывает к дверям отрезанную голову. И никогда не торгуется. Слово очень хорошо знает, кто сколько может заплатить.
Контора харбинского отделения «Китайско-азиатского банка».
Заместитель Давида господин Гурвич был поднят среди ночи. В кабинете управляющего есть междугородняя связь. Мы пытаемся связаться с Саулом Каннегисером.
Я знаю, что по-настоящему делами филиала ведает Гурвич. Вероятно, в его обязанности также входит докладывать «папочке» о том, как ведет себя непутевый наследник. Во всяком случае шестизначный номер заместитель называет телефонистке по памяти. Звонок должен раздаться прямо в спальне у банкира.
Мы ждем. Трубка трясется в руке у низенького, лысого Гурвича. В другой руке трепещет бумажка с требованием выкупа.
– Господин директор, прошу извинения за беспокойство, но у нас… несчастье.
Перед страшным словом заместитель сглатывает.
Даже с расстояния в несколько шагов я слышу доносящиеся с того конца крики. И могу разобрать два слова: «мой мальчик». У меня течет из носа. За эти несколько часов я столько раз плакала, что заработала хронический насморк и совершенно огнусавела.
– Нет-нет, Давид Саулович жив! Как вы могли подумать?! – переходит на полуплач-полукрик и Гурвич. – С ним всё в порядке… То есть, не совсем всё в порядке… Видите ли, его похитили хунхузы. Требуют выкуп. Триста тысяч. Китайских долларов. Что?
Он дует в трубку, трясет ею, несколько раз повторяет: «Алло! Алло!»
Разъединилось.
Не менее получаса мы пробуем вновь связаться с Шанхаем. Наконец кто-то отвечает.
– Дворецкий, – шепчет мне Гурвич. – Это харбинское отделение, Соломон Гурвич. Я бы хотел… Что? Что?!
Он умолкает, хлопает глазами, на лбу выступают капли пота.
– В чем дело? Дайте я сама с ним поговорю!
– Господина Каннегисера хватил удар. Домашний доктор подозревает тяжелый инсульт, – растерянно говорит мне заместитель. – Им не до нас. Боже, боже, что будет?
– Выпишите триста тысяч и передайте бандитам! Для банка это не сумма!
– Это невозможно…
– Почему?!
– Вы не знаете нашей системы. Списание сколько-нибудь значительной суммы, тем более выдача ее наличными допускаются только по санкции директора. Такой у нашего банка устав.
У меня полное ощущение, что я разговариваю с умопомешанным.
– Банк ведь принадлежит Каннегисерам?
– Формально нет. Совету акционеров. И устав могут изменить только они.
– Так соберите их! И пусть изменят!
– Не выйдет. Девяносто процентов акций контролирует Саул Каннегисер, а он без сознания. Придется подождать.
– Чего?! Чего вы хотите ждать? Пока хунхузы начнут резать Давида на куски?
Гурвич устало трет глаза.
– Одно из двух. Или господин директор придет в себя и подпишет распоряжение. Или… или он скончается. Тогда в права наследства автоматически вступает Давид Саулович. Он выпишет господину Слово чек, и всё устроится.
Всё еще ночь.
Вестибюль гостиницы «Токио». Дежурит ночной портье – с такой же, как у дневного, выправкой. Он тоже меня знает, но пропустить отказывается.
– Господин Ооэ вечером уехал.
– Куда? – Я хватаюсь за голову. На Сабурова была моя последняя надежда. – Когда он вернется?
– Не могу знать. Сказал, что отбывает в срочную командировку и вернется нескоро.
Обессиленно падаю в кресло. Больше сделать ничего нельзя. Только названивать в Шанхайскую клинику – как там «папочка». Не очнулся ли, не умер ли? Всё равно – лишь бы поскорее.
Следующий день.
Редакция. С тридцатой или пятидесятой попытки я прозвонилась главному врачу Американского Госпиталя в Шанхае.
– …Ситуация тяжелая, но стабильная, мисс, – рокочет в трубке приятный бас. – Непосредственной опасности для жизни мистера Каннегисера я не вижу. Он находится в коме. Мы делаем всё возможное, чтобы вывести больного из этого состояния. Не беспокойтесь, мисс, наше нейрологическое отделение оборудовано самым превосходным образом.
– Что такое «кома»? – спрашиваю я дрожащим голосом. – Сколько это может продолжаться?
(Доктор начинает объяснять Сандре значение этого термина, не столь давно появившегося в медицинском обиходе, но я отправляю свою память дальше. Про кому я знаю побольше, чем врач 1932 года.)
Четвертый день после похищения.
«Папочка» всё в том же положении, в госпитале объясняют, что это может продолжаться недели, даже месяцы. Точного прогноза сделать нельзя. Про несчастье с мистером Каннегисером-джуниором они знают, всё понимают, о малейшем изменении в состоянии больного немедленно меня известят.
От бессонницы, истощения и горя у меня начинаются галлюцинации.
Вот одна из них.
Я стою в редакции, у окна, с телефонной трубкой в руке. Смотрю на залитую солнцем улицу. Идут люди, едут машины. Около светофора остановился «форд». Вдруг автомобиль превращается в джонку, кабина – в надпалубный павильончик на четырех шестах. Колышется ткань, рассыпается фейерверк. Я вижу неподвижный силуэт в кепи.
Хунхузы не носят кепи! Все они были одеты по-китайски: в куртки, круглые шапочки, а главарь – в темный френч, какие носят важные маньчжурские начальники.
И как я могла забыть, что перед самым столкновением чей-то голос на джонке сказал по-русски: «Вот он»?
За пологом сидел кто-то, знающий Давида в лицо!
Но кто?
Я бешено тру веки. И вдруг вижу силуэт спрятавшегося человека с невероятной отчетливостью. Я поняла, кто это! По осанке, по посадке головы – сама не ведаю как – я его узнала. [Возможности эйдетической памяти Сандре пока неведомы, но в состоянии стресса, обостренного длительной депривацией сна, мозг способен проделывать еще и не такие фокусы. ]
Сомнений у меня нет, ни малейших. Схватив сумочку, я бегу к двери.
Я подстерегла его у дома на Мостовой улице, где находится бюро РФП, Российской фашистской партии.
Лаецкий в кожаной куртке, клетчатых галифе, крагах. На голове кепи, тоже клетчатое. То самое или точно такое же!
– Я всё знаю. Я видела вас в джонке. – Вместо крика у меня получается какое-то змеиное шипение. Меня душит бешеная ненависть. – Ваша карта бита!
(Господи, откуда, из какого кино или бульварного романа, выдернула я эту дурацкую фразу, которую в реальной жизни никто никогда не употребляет?)
Главным доказательством, фактически признанием становится то, что Лаецкий нисколько не удивлен. Он смотрит на меня с презрительной усмешкой, натягивая перчатку с широким раструбом. Странный для жаркого дня наряд объясняется просто: у подъезда стоит мотоцикл, Лаецкий помимо тенниса увлекается еще и мотоспортом.
– Вы меня в чем-то обвиняете, мадемуазель? – Он задает этот вопрос, предварительно оглядевшись. Свидетелей нет, можно особенно не актерствовать, поэтому усмешка становится шире. – В чем же?
– Это вы устроили похищение Давида! Вы были с хунхузами в лодке!
Ярость начинает уступать место растерянности. Я не понимаю, почему он нисколько не испуган, даже не встревожен.
Светлые, наглые глаза глядят на меня с явным торжеством.
– Уверены? Имеете улики? Тогда бегите в полицию. Или ступайте к вашему обожателю Сабурову. Поделитесь с ним своими стрррашными подозрениями. А меня от мелодраматических сцен избавьте.
Вот в чем дело, наконец соображаю я. Он знает, что маньчжурская полиция ничего делать не будет. Все говорят, что она часто действует в доле с похитителями. А про отъезд Сабурова мерзавцу известно. Он наверняка нарочно подгадал момент, когда Сабуров уедет в длительную командировку. Потому и спокоен.
– Если с головы Давида упадет хоть волос, я пристрелю тебя, как крысу, – задыхаясь шиплю я.
(Еще одна идиотская фраза из кинематографического репертуара. Ах, Сандра-Сандра, разве так нужно было с ним разговаривать? Он негодяй, но не трус, и ты этоотлично знаешь.)
Лаецкий небрежно отодвигает меня в сторону. Надевает мотоциклетные очки и становится похож на большую стрекозу с оторванными крыльями.
– Нашла чем пугать, истеричка. Я в боевые рейды за Амур ходил, чекистских пуль не боялся…
Лающий треск мотора, облако бензинового чада. Я остаюсь одна, беспомощно сжимаю кулаки.
К Лаецкому я помчалась, совсем потеряв голову от безнадежности. Сама не знаю, на что рассчитывала. Если похищение действительно организовал он, я лишь побудила его принять дополнительные меры предосторожности, подчистить следы. Хуже того: очень вероятно, что этим безумным поступком я создала дополнительную угрозу для Давида.
Мною двигало отчаяние.
Когда стало ясно, что выкуп за пленника вносить некому, я испытала смутное чувство, которое затруднилась бы перевести в слова.
На поверхности был страх за Давида, это понятно. Но где-то внизу, в топком, придонном иле душе, шевельнулось нечто иное.
Едва слышный бесстыжий шепоток прошелестел: «Теперь его никто не спасет кроме тебя. Ты одна можешь это сделать. И ты это сделаешь. Он будет всем тебе обязан. И тогда…»
В ужасе я велела шепотку умолкнуть. Я не стала его слушать. Да, я спасу Давида. Не знаю, как и какой ценой, но спасу. А после этого отпущу на все четыре стороны, мне ничего от него не нужно! Уж во всяком случае любви по долгу благодарности. Пускай живет себе бессмысленным пустоцветом, без меня, лишь бы жил!
Я уже очень давно ни о чем толком не разговаривала с мамой, ибо о чем же беседовать с человеком, вся жизнь которого в прошлом, а все интересы сводятся к уходу за палисадником? Но теперь, опять-таки из отчаяния, бессонными ночами я стала изливать маме душу. Больше было некому.
Я говорила про свою бездарную любовь. Говорила про истязания, которым Давида сейчас подвергают звери-хунхузы. Говорила, что, если его убьют, я тоже жить не стану, я последую за ним не только на край, но и за край света.
Мама пугалась, причитала, рыдала вместе со мной. Но, как ни странно, именно она дала дельный совет.
– Раз его отец не может дать денег, нужно собрать самим. У твоего Давида много состоятельных знакомых. Организуй подписку. Они дадут. Они ведь знают, что Каннегисеры очень богаты, и за ними не пропадет.
На следующий же день я объехала весь Харбин. У меня имелся список гостей, приглашенных к Давиду на день рождения.
Я взывала к состраданию, умоляла, убеждала. Меня сочувственно слушали. Были люди, разводившие руками и говорившие, что при всем желании не обладают средствами. Многие соглашались дать небольшую сумму – пятьдесят или сто долларов. Некоторые давали много – тысячу или две. Я понимала: трудно требовать от людей большего. Что, если хунхузы выкуп возьмут, а пленника все-таки убьют? В твердость обещания, данного каким-то разбойником, какая бы там ни была у этого Слова репутация, никто особенно не верил.
И все же к исходу моего паломничества составился длинный список готовых помочь. Например, Гурвич пообещал отдать все свои сбережения, двадцать одну тысячу.
Дома я долго сводила цифирь, считала столбиком. Мама перепроверяла.
Увы, набралось чуть-чуть за сто тысяч. Мало!
Я завыла. Слез у меня больше не было.
– Кончено, кончено… – повторяла я. И снова мама оказалась разумней меня.
– Меньше, чем они требуют, но все равно очень много. Нужно с ними вступить в переговоры. Поторговаться.
– Я же тебе говорила: Слово никогда не торгуется!
– Нужно объяснить ему ситуацию. Попробовать. Так он получит сто тысяч, а так – ничего.
И я вцепилась в эту идею. Я готова была хвататься за любую соломинку, делать что угодно – лишь бы не метаться в четырех стенах.
В ту ночь впервые мне удалось уснуть.
Короткий, не имеющий особенного значения эпизод. Он выплывает всего на несколько секунд, обрывком без начала и конца.
– Мадама…
Оборачиваюсь.
Молодой китаец в ватной куртке, жара ему нипочем.
– Слово плислала. Говоли.
Немигающий взгляд сощуренных карих глаз. В них ни тени тревоги. Хунхуз не боится, что я позову полицейского, хотя тот стоит в двадцати шагах, регулирует движение на шумном стыке Диагональной и Китайской улиц.
Я напряжена, но не слишком удивлена. Мой редактор, с которым я вчера советовалась, как бы мне выйти на контакт с похитителями, сказал: «Идите в полицию, расскажите там об этом». Так я и сделала. Тот же самый инспектор, который в свое время рассказал мне о Слове, цокает головой, отговаривает меня связываться с разбойниками. Я ушла – и вот, на следующий же день, посреди людной улицы, меня окликают.
У меня нет уверенности, что человек в ватной куртке хорошо понимает по-русски, и я объясняю по-китайски: про болезнь банкира, про сто тысяч. Прошу передать все это «господину Слово». Китаец качает головой.
– Нет. Один раз уступим, все начнут торговаться. Ищи триста тысяч. Не найдешь – через две недели пришлем палец. Если старик не очнется, пришлем тебе. Где ты живешь, знаем. А соберешь триста тысяч, дай знать.
– Как? Кому? – упавшим голосом спрашиваю я, ошарашенная столь быстрым и сокрушительным провалом моего плана.
Может быть, все же схватить его за рукав и позвать на помощь?
Нет, только Давида погублю…
– Пришлешь телеграмму. На Центральный телеграф. До востребования, Чао Фэну. Передадут.
Дома, с мамой.
– Сашенька, я кое-что разузнала. Поговорила с людьми, порасспрашивала. Помнишь, весной у Кондратьевых похитили старшего мальчика, а потом вернули?
– Помню, и что с того? – Я мрачно гляжу в пол. – Там требовали тысячу юаней.
– Для Кондратьевых и тысяча – огромные деньги. Софья Андреевна мне под большим секретом сказала, что сначала с них требовали две тысячи, а это для них совсем невподъем. Но через каких-то знакомых их свели с одним слепым китайцем, и он уговорил хунхузов сбить цену. Это какой-то старик, пользующийся у них большим авторитетом.
– Слово не станет снижать цену, – всё так же уныло говорю я.
– А попробовать все-таки можно. Ты же знаешь китайцев. Все деликатные дела у них решаются через посредников. Напрямую хунхузы могут сказать «нет», а через посредника – другое дело. Софья Андреевна отказалась мне дать адрес старика. Если б, говорит, для вашего родственника, а так не могу. Обещание с нее какое-то взяли. Но, думаю, если ты попросишь ее как следует…
Я пробуждаюсь к жизни. Бежать, просить, действовать – это лучше, чем сидеть и киснуть.
Даю себе передышку, медлю. Как гурман, не торопящийся приступить к изысканному блюду, не спешу переворачивать страницу.
Долгое, слезливое объяснение с мадам Кондратьевой вспоминать не буду. Кажется, в конце концов я сломила ее сопротивление тем, что бухнулась на колени. Мне было всё равно, как я выгляжу со стороны и что обо мне подумают. Прежняя гордая Сандра будто стала совсем другим человеком.
Мне называют адрес в Фудзядяне. И имя, для китайца странное: Иван Иванович.
Так я делаю первый шаг на пути, который сделал меня тем, что я есть.
Скрип двери. Шаги. Голоса. Я вынуждена отложить книгу. Не такая это глава, чтобы отвлекаться на внешние раздражители.
Вера, Ника
– Не старайся, он не ответит. Она тем более, – сказала Вера, когда Берзин во второй раз, повысив голос, произнес «бонжур». – Пойдем к окну.
– Она понятно, а он-то чего? Глухонемой, что ли? Слава недовольно смотрел на Эмэна, неподвижно сидевшего возле кровати.






