Vremena goda Борисова Анна
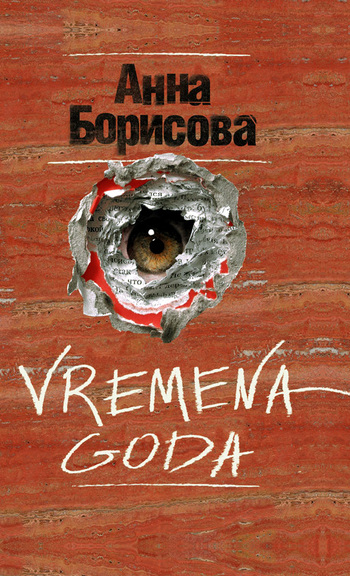
– А-а, вы про восстание тайпинов, – киваю я. – Да, конечно. Мы проходили в институте. Постойте, но не могли же вы лишиться зрения во время тайпинской войны? Насколько я помню, она закончилась в восьмое лето Тун-чжи-чао, то есть в 1868 году.
– Для меня она завершилась много раньше, вскоре после своего начала. – Иван Иванович беззвучно смеется, и я замечаю, что зубы у него белые, крепкие, здоровые. – Я старше, чем кажусь, Маленькая Тигрица, ибо по западному исчислению я родился в 1833 году от рождества Иисуса, старшего брата Хун Сюцюаня, и, стало быть, мне уже сравнялось девяносто девять лет.
(Слава богу, тут Сандра разинула рот и наконец заткнулась. Какое-то время я могу внимать рассказу Ивана Ивановича беспрепятственно.)
– Мне было восемнадцать лет, когда я поверил в Хун Сюцюаня и пошел за ним, то есть не за самим Хун Сюцюанем (он был большой человек, и я никогда его не видел), а за его соратниками, потому что они говорили свежие слова, никого не боялись и верили в победу Добра над Злом, а самое главное, что, когда я их слышал, мне становилось совершенно ясно, что такое Добро, и еще яснее, что такое Зло – ну, то есть, не «что», а «кто», люди ведь никогда не воюют с самим Злом, только с его воплощениями, найти которые очень легко: это были жадные чиновники, жирные помещики, жестокие стражники, и я пошел с ними говорить на языке Стали, я хотел овладеть этим наречием, и у меня очень хорошо получалось, ибо я был ловкий, сильный, не ведал страха, так что вскоре наш тысячный начальник Ман Сы, который потом стал князем, ставил меня остальным в пример, и я был очень горд.
Я слушаю вначале недоверчиво, мне трудно поверить, что Ивану Ивановичу с его упругими движениями и морщинистой, но совсем не увядшей кожей, считай, целых сто лет. Но сомневаться в правдивости рассказа невозможно, и я знаю: каждое слово – правда.
– …Первой большой победой нашего отряда было взятие уездного города – там, на юге. – Иван Иванович машет рукой в окно, и я соображаю, что он, действительно, показал в сторону юга. – Служителей Зла, кого не убили во время боя и кто не успел сбежать, всех заперли в рисовом складе, чтобы завтра на площади судить народным судом за все их преступления, а вместе со служителями Зла схватили их жен, детей и родителей, потому что в Китае сын за отца всегда ответчик и если кого-то карают за злодеяние, то вместе со всей семьей. Вечером, празднуя победу со своими товарищами и слушая их разговоры, я понял, что суда никакого не будет, никто не станет разбираться, кто виноват больше, кто виноват меньше, а кто, может быть, совсем не виноват – всех арестантов предадут смерти вместе с домочадцами, и тогда я пошел к тысячному начальнику Ман Сы, который потом стал князем, и спросил: «А как же христианская заповедь «не убий»? Ведь одно дело сразить врага сгоряча, в бою, и совсем другое – убивать его связанного, да еще с женой и детьми?» Ман Сы ответил мне: «Мы китайцы, у нас свое христианство, построенное на нашей мудрости. А мудрость учит: убив змею, раздави и змееныша, иначе он вырастет и ужалит тебя. Запомни это, Ван Ин. Ты молод и неопытен, тебе нужно многому научиться». Но я потому и стал тайпином, что не хотел учиться такой мудрости, ее у нас и до тайпинов хватало, поэтому я напросился в караул, охранявший пленников, и ночью потихоньку вынул из стены две доски, чтобы арестанты могли убежать, и они все убежали, а утром Ман Сы построил нас, одиннадцать человек, и спросил: «Кто это сделал? Пусть признается и объяснит, зачем он это сделал. Я не убью виновника, даю обещание. Вы меня знаете, слово у меня железное. Если это сделал скрытый враг нашего дела, я позволю ему уйти – пусть лучше сражается с нами в открытую, а не жалит исподтишка. Если же это сделал свой товарищ, я хочу понять, почему он так поступил». Еще Ман Сы сказал, что, если никто не признается, ему придется предать смерти нас всех ради собственного душевного спокойствия, потому что он отвечает за безопасность своего отряда и не может позволить предателю разгуливать на свободе, и после этих слов я, конечно, вышел, потому что терять мне было нечего, ну а кроме того мне действительно хотелось объяснить всем, не только начальнику, почему я отпустил пленников, именно поэтому я не ушел с арестантами, хотя, конечно, догадывался, чем всё закончится.
Иван Иванович улыбается тенью улыбки, в которой нет сожаления о сделанной когда-то глупости – лишь тень сожаления.
– Я вышел и сказал, что нельзя победить Зло, если воюешь с ним по его же законам, то есть я не совсем так сказал, потому что я был очень молод и еще не умел находить точных слов, и я не знаю, поняли ли меня мои товарищи, ведь они были невежественные крестьяне, не имевшие привычки мыслить отвлеченными понятиями, но Ман Сы был человек образованный и умный, он меня понял. «Мне следовало догадаться, Ван Ин, что это сделал ты, – сказал он мне с отеческой укоризной в голосе и злым блеском в глазах. – Ты не просто юн, ты еще и слеп. Ты не просто ничего не понимаешь, ты и не хочешь понимать. Прямо не знаю, что же мне с тобой делать?» Мне бы промолчать, но я был глуп и упрям, я сказал: «Ничего я не слеп! Нельзя проповедовать так, а поступать этак. Люди перестанут нам верить!» Но Ман Сы не внял предостережению юнца, а обрадовался, потому что я сам подсказал ему, как со мною поступить, чтобы это не выглядело нарушением данного слова. «Ты хочешь сказать, что я солгал, назвав тебя слепым? Но я никогда не лгу, и все это знают. Выколите ему глаза». Через несколько минут я ослеп, но Ман Сы проявил великодушие, он велел не вырезать и не выколоть мои глаза, а пронзить их иглой, чтобы они не вытекли, потому что, ты ведь знаешь, у китайцев считается большим несчастьем, если после смерти тело предают погребению неполным, и поэтому калека бережно засушивает утраченную конечность, а евнух – свою мужскую принадлежность, чтобы лечь в гроб таким же целыми, каким он появился на свет, но вытекший глаз засушить невозможно, вот Ман Сы и пожалел меня – и бойцам отряда его милосердие очень понравилось…
Я содрогаюсь, а Ивану Ивановичу смешно. Он издает легкий, квохчущий звук – тень хохота.
– Ну и всё случилось, как я говорил: тайпины проповедовали свободу и Добро, но заставляли людей быть хорошими насильно, а кто не соглашался или спорил, убивали, они убивали очень много, и их все боялись, а они одерживали всё новые и новые победы, но потом их начальники стали спорить между собой, кто из них самый справедливый и добрый, и начали убивать друг друга, и те, кто побеждал, объявляли себя князьями. Так продолжалось восемнадцать лет, пока все люди не отвернулись от тайпинов, и тогда старое Зло взяло верх над новым Злом, самая кровопролитная из войн закончилась, и всё в Китае сделалось, как раньше, до вещего сна Хун Сюцюаня, только китайцев стало на сто миллионов человек меньше, однако ничего этого я не видел – не потому что ослеп, а потому что много лет прожил в горной глуши, где меня научили видеть без глаз. Знаешь, Маленькая Тигрица, я благодарен Ман Сы, что он велел выколоть мне глаза, потому что, если бы я остался зрячим, я никогда не научился бы обослышать, то есть видеть по-настоящему, ведь от глаз больше вреда, чем помощи, так как они лишь скрывают истинную суть. Лишь ослепнув, я прозрел, и случилось это благодаря одному счастливому случаю…
– Вы начали рассказывать про золото, – напоминаю я, испугавшись, что рассказ опять свернет в сторону с темы, которая меня больше всего интересовала. (Вот этого я никогда себе не прощу. Так я и не узнаю, что за счастливый случай свел Ван Ина с человеком или людьми, которые приютили юного слепца в «горной глуши» и научили его «видеть без глаз».) Мне нужно убедиться, что золото существует на самом деле, а не только в фантазиях старика, и что я тащусь на край света не впустую.
– Вы сказали, что отправились на реку Мохэ с артелью старателей. Что было дальше?
Мой визави добродушно кивает. «Наверное, ему все равно, о чем рассказывать, – думаю я. – Лишь бы плыть себе по течению памяти». (А вот это не так глупо. Что если Иван Иванович тоже обладал ключом к тайнику эйдетической памяти? Это меня бы не удивило.)
– Реку Мохэ русские называли Желтугой, и скоро все стали ее так называть, потому что до русского берега Амура оттуда рукой подать, и бльшую часть старателей составляли русские, они шли туда со всей Сибири, они умели искать золото лучше, чем подданные нашего богдыхана, потому что в империи Цин искатели золота приравнивались к разбойникам и карались смертной казнью – правительство не хотело выпускать добычу драгоценного металла из своих рук, но правительство ничего не могло поделать с пришельцами. Хэйлунцзянский генерал-губернатор несколько раз посылал из Цицикара солдат, но путь был долгий и опасный, а русские и американцы (туда понаехало много людей из Калифорнии и Дакоты, где к тому времени золото уже закончилось) встречали стрельбой китайских солдат, и те разбегались, а многие сами становились старателями. Когда я пришел на Желтугу, а было это по западному счету осенью 1885 года, там жило десять, а то и пятнадцать тысяч человек, и называли они себя «Республика Амурская Калифорния»…
Он на некоторое время умолкает, на губах появляется недоверчивая улыбка, будто Иван Иванович сомневается, не вздумала ли собственная память с ним шутки шутить. Рассказ его и вправду звучит фантастически.
– Понимаешь, сначала там все жили, как хотели, радовались отсутствию всякой власти, и не было совсем никакого порядка, потому что сильные отнимали золото у слабых и отбирали богатые участки, и все ходили пьяные, и палили почем зря, но потом людям надоел хаос, и они поняли, что свободу нужно ограничить какими-то законами, иначе будет невозможно жить – это очень интересно, как за три года своего существования желтугинская республика прошла путь, на который человечеству понадобилось три тысячелетия. Первый закон, который они ввели, был законом управления, и это правильно, ибо без мозга управлять телом никак нельзя, а поскольку американцы единственные из всех знали, как превращать сброд бродяг в организованное общество, то поступили по-американски: разделили приисковую зону на пять «штатов», в каждом штате выбрали по два старосты или сенатора, и из них получилось Правление, а во главе республики поставили выборного правителя, которого русские называли «старшина», американцы «президент», а китайцы и корейцы «ван», сам же он говорил про себя «канцлер», потому что был родом из Австрийской империи, горный инженер по профессии, а по имени Карл Фоссе, человек очень суровый, но справедливый.
Второй закон был о налогах, то есть о кровоснабжении, без которого мозг не сможет существовать и руководить телом: каждый старатель должен был платить в общую казну за право разработки участка, каждый пришлый торговец вносить десятую часть стоимости своего товара, каждый постоянный торговец – десятину с оборота, и эти деньги шли на жалование правлению, на содержание стражи в сто пятьдесят человек и на общинную больницу, которая лечила бесплатно.
Третий закон был закон о собственности, потому что человек должен твердо знать, что в этом мире его, а что чужое, и главный золотоносный разрез, тянувшийся вдоль реки на шесть верст, поделили на шестисаженные участки, каждый из которых принадлежал одному собственнику или артели, а в окрестных лесах всяк мог рыть и мыть золото, где захочет, и там никакого права собственности не было, но отнимать добытое запрещалось под страхом кары, и для этого был принят четвертый закон – закон о наказаниях, потому что неразвитый человек подобен несмышленному ребенку и, если он не будет боятся наказания, то станет вести себя плохо и опасно. Президент Фос-се, который также был судьей, в один из первых же дней приказал повесить тридцать убийц, воров и насильников, и после этого на Желтуге перестали убивать, грабить и учинять плотское насилие над женщинами – правда, еще и потому, что приводить в республику женщин объявлялось тяжким преступлением…
– Но почему? – восклицаю я. До сего момента я слушала с одобрением и интересом, а тут возмутилась. – Что ж это у мужчин всегда и во всем женщины виноваты?
– Так же, как у женщин мужчины, – посмеивается Иван Иванович, – но президент Фоссе поступил разумно, и вовсе не из соображений нравственности – просто женщин в тех диких краях было так мало, что появление каждой вызывало непрекращающуюся череду ссор, скандалов и убийств, вот правление и постановило: кому охота потешиться – езжайте на тот берег Амура, в станицу Игнашино, там и кабаки, и продажные девки, а на Желтуге чтоб ни собачьих свадеб, ни пьянства не было, и спиртное тоже объявлялось под запретом, хотя, конечно, за это карали не смертью, а всего лишь розгами, но по водке мужчины сохнут больше, чем по бабам, и поэтому в окрестных лесах, рискуя жизнью, бродили «спиртоносы», тайком продавали за большие деньги «сулю», самогон из гаоляна, и «ханьшин», самогон из ячменя, и были эти спиртоносы, если им удавалось уцелеть, богаче любого старателя, но лучше всех, конечно, устроились жители станицы Игнашинской, потому что именно там желтугинцы прогуливали свою немалую добычу, а даже самый неопытный поденщик, наемная скотинка, намывал за смену не меньше 5–6 золотников песка, и каждый золотник выкупался артельщиком по три рубля с полтиной – в России, как я потом узнал, деревенский батрак столько получал за месяц работы. Зато и цены в Желтуге были, как нигде, так что фунт хлеба стоил впятеро против обычного, фабричное же вино продавали из-под полы за стократную цену, и достать его было трудно, а платили за всё не деньгами (потому что где ж было взять столько бумажек и монет) – считали на «штуки», и одна «штука» равнялась золотнику песка, либо четырем игральным картам, спрос на которые был очень велик, либо девяносто шести серным спичкам, которых тоже вечно не хватало, вот какая там ходила валюта…
Снова улыбка, похожая на воспоминание о смехе, раздвигает тонкие, почти бесцветные губы.
– Амурская Калифорния являла собою мир, каким он был бы, если бы на земле жили только мужчины без женщин: в одно и то же время очень страшный и очень смешной, как будто дети устроили свою жизнь без взрослых, договорились между собой жить по собственным правилам, и получилась вольница с некоторым количеством строгих запретов, как это бывает у детей – почему-то вдруг ни в коем случае нельзя делать какие-то вещи под страхом наказания, и наказания все ужасные, ведь дети существа жестокие. Дети любят яркие безделушки, громкие названия, непритязательные зрелища, любят объедаться лакомствами до расстройства желудка, играть в цветные стеклышки и фантики – было всё это и на Желтуге: главная улица пышно называлась Миллионная, хоть состояла из грубо сколоченных изб и фанз-времянок, где вместо стекол была промасленная бумага; постоялые дворы все назывались «отелями», и на каждом клоповнике красовалась вывеска «Марсель», «Калифорния», «Тайга», а еще было казино «Монте-Карло», где играл выписанный с запада оркестр и бородатые старатели кружились парами под венские вальсы, а еще там был цирк с фокусниками, акробатами и жонглерами, даже зверинец с диковинными животными, которых распорядился доставить чуть ли не из Америки один новоиспеченный миллионер, и там я впервые узнал льва, тигра, слона…
– Постойте, но как вы могли всё это видеть? – [встрепенулась глупая Сандра, вообразив, что поймала рассказчика на противоречии. ] – Вот всё это: дома, вывески, зверей? Вы же были слепым?
– Я не говорил, что я это видел, я всё это обослышал, а кое-что мне объясняли товарищи, среди которых я жил, и я, например, знаю по собственным ощущениям, что лев тяжелый, бесстрашный, лениво-медлительный со стальной пружиной внутри и еще такой… не сумею хорошо объяснить… безразличный, а от людей я знаю, что он грязно-желтый и на голове у него длинная шерсть, как распущенные волосы.
Вспыхнувшее было подозрение исчезает, я хочу слушать дальше.
– Ночевал я на прииске, среди людей, с которыми пришел на Мохэ, это всё были китайцы, мы жили в одном из пяти «штатов», который весь был китайским, русские нас звали «манзами» и дразнили за косу «девками», но это были храбрые и сильные мужчины, охотники за пантами и соболем, искатели женьшеня, беглые солдаты – всякие люди, в том числе и плохие, однако меня никто не обижал, а наоборот, почитали и хорошо кормили, потому что я мог вылеить больного или облегчить страдания раненого, я тогда уже кое-что умел, а жил я при лавке, торгующей тигровым жиром для заживления ран, тигриной желчью для храбрости и порошком из костей тигра – тоже для храбрости, но весь день я бродил по тайге – искал то, что нужно было найти, и, знаешь, Маленькая Тигрица, вскоре я обнаружил, что слепому в тайге гораздо удобнее и безопаснее, чем, скажем, в большом городе, потому что лес гораздо предсказуемее и яснее, все таящиеся в нем угрозы человеку опытному не страшны, особенно если он может обослышать масть, а со временем я начал ходить по тайге ночью, и тогда стало совсем легко, ведь дневной свет мне не был нужен, и в темноте любой разбойник (а разбойников вокруг приисков было много) ничего не видит.
– Так что же вы искали в тайге? – спрашиваю я. (Ну наконец-то!) – Тоже золото?
– Нет, золото я не искал, но я повсюду на него натыкался, потому что его там было много, причем, если в реке и по ее берегам преобладал золотой песок, то в тайге я несколько раз натыкался на россыпи самородков, они лежали совсем близко к поверхности, и я чувствовал эти места, потому что, хоть золото и неживое, но масть у него очень сильная, такая сильная, что ее обослышишь издалека, и это иногда мне очень мешало, ибо забивало масть вещи, которую мне нужно было найти, поэтому я начал убирать самые крупные самородки из этих скоплений, чтоб они меня не сбивали, и я складывал их в яму на берегу речки, и через несколько месяцев их там накопилось много, а найти мой тайник никто не смог бы, поэтому золото наверняка и сейчас там.
Всё, теперь я знаю главное: золото – не выдумка, оно существует на самом деле. Или существовало сорок с лишним лет назад… Мало ли что могло с ним случиться? Меня распирает от вопросов, но я уже поняла, что задавать их нужно осторожно, спрашивать только про самое существенное, иначе увязнешь в многоречивом ответе. Сначала – про непонятное.
– Почему же вы не унесли золото с собой?
Иван Иванович жмурится – вспомнил что-то приятное.
– Зимой, когда многие старатели перебрались на русский берег ждать весны и прогуливать золото, пришло известие, что цзяньцзюнь послал из Цицикара на Мохэ большое войско и всех подданных империи ждет смертная казнь, поэтому одни люди начали разбегаться, а другие, наоборот, кинулись мыть золото на опустевших участках, и таких было много, я же стал искать то, что требовалось найти, и днем, и ночью, я научился ходить на лыжах, спать в снегу, я уже знал, в каком углу тайги масть обослышится сильнее, и с каждым днем сужал круг, и в конце концов мне повезло: я нашел то, что искал, всего за день до того, как на Мохэ пришли каратели. Они пришли, а я ушел – на русскую сторону, потому что, если б я остался в Китае, мне отрубили бы голову, как всем остальным китайцам и маньчжурам, которых поймали, русским же и прочим иностранцам солдаты дали уйти за Амур. Ты спросила, почему я не взял с собой золото? Потому что по всей тайге нас подстерегали лихие люди – китайцы-хунхузы и русские-варнаки – нападали на бегущих с Желтуги, грабили их и убивали, и мало кому из старателей удалось вынести с собой добытое, а со слепого что возьмешь? Несколько раз обшарили да отпустили, а главное мое сокровище их не заинтересовало, потому что они искали только золото, и благодаря этому я остался жив, ушел в Россию, выучил русский язык и много лет прожил среди русских, потому что привык к ним, и хоть я иногда ездил странствовать по миру и подолгу жил в других краях, я всегда возвращался в Россию, а когда русские построили в Маньчжурии свой город, я стал жить здесь, где обе мои родины слились вместе.
– А вдруг все-таки ваш тайник обнаружен и золото украдено?
(Поразительно, она опять пропустила мимо ушей самое главное!)
– Это было бы плохо. Очень плохо, – с непривычной лаконичностью отвечает Иван Иванович, его лицо будто застывает.
– Но если золото пропало, мы зря потратим время! Давид погибнет! – вскрикиваю я.
Он тихо и опять очень коротко роняет:
– Не в золоте дело. Золото я тебе найду другое, его там много.
(Даже теперь я ничего не поняла, а ведь считала себя умной.)
– Ну да, конечно… – бормочу я упавшим голосом.
Мысли мои сумбурны и тревожны. Хуже то, что и лицо Ивана Ивановича, всегда безмятежное, тоже мрачно.
Только после рассказа Ивана Ивановича я узнала, куда именно мы направляемся. Накануне он лишь велел мне взять два билета до станции Якеши и продиктовал список вещей, которые понадобятся в дороге. Перечень был странен, но я безропотно всё исполнила. Хоть встреча с обитателем трущоб произвела на меня не слишком обнадеживающее впечатление, никакого другого шанса спасти Давида я не видела. Броситься хоть на край света, с кем угодно, только не сидеть без дела, не сходить с ума от беспомощности!
Я купила: крупу, бульонный концентрат, один накомарник, два комплекта охотничьей одежды, две пары сапог, спички в водонепроницаемой упаковке, кирку с лопатой, ведро и котелок, набор походной посуды, палатку и множество других вещей, так что пришлось доплачивать железной дороге за провоз багажа.
Итак, мы отправляемся в самый дальний угол Маньчжурии, в дикие и безлюдные места, далеко отстоящие от дорог и селений. Во время пятиминутной остановки поезда в Цицикаре я купила на станции карту северных провинций и справочник «Маньчжоу-го», только что выпущенный синьцзинским издательством.
Маршрут стал более или менее ясен. Наш путь лежал на территорию, принадлежащую Фын-Юаньской золотопромышленной компании, но справочник сообщал, что период добычи начинается только в конце августа, когда сузятся и обмелеют таежные реки, а до того времени на приисках Мохэ пустынно. Это известие было отрадным.
Зато дорога, которую предстояло проделать, оказалась еще длинней и трудней, чем я думала, отправляясь в путь.
В прежние времена добраться до Мохэ можно было в какие-нибудь два дня: доехать по КВЖД до пересечения с Транссибом, потом от станции Карымской до Ерофея Павловича, оттуда переправиться через Амур – и километрах в двадцати от российско-китайской границы уже начинался район приисков. Однако о проезде через советскую территорию нечего было и думать. Нам предстояло сойти с поезда в Якеши, а оттуда двинуться на север. Судя по справочнику и карте, дорог там нет, придется пятьсот километров идти через долины и горы Северного Хингана. Разве это под силу городской жительнице и слепому старику?
Нет, я не боялась трудностей и опасностей. Но я хотела быть уверенной, что всё это не бессмысленная авантюра.
Способ существовал лишь один: разъяснить моего спутника – понять, что он все-таки за человек и стоит ли ему доверять.
Бережно и с удовольствием раскрываю я страницу, где Сандра, пытаясь «разъяснить» Ивана Ивановича, задает ему вопросы и всё глубже погружается в туман.
Я вспоминаю кое-что из университетского факультатива по психологии, которой интересовалась как наукой, необходимой для будущей общественно-политической деятельности. Чтобы человек лучше раскрылся, лучше на время отойти от темы разговора, особенно если собеседнику хорошо понятна направленность вашего интереса и он может заранее предугадывать ваши вопросы.
Милым девичьим голосом спрашиваю:
– Послушайте, почему вы все время величаете меня Маленькой Тигрицей? Ну, про тигрицу вы объяснили, но какая же я маленькая? Я выше вас, метр семьдесят с хвостиком.
– Тигрица и должна быть с хвостиком. – Он смеется. Оказывается, на события, происходящие не в прошлом, а в данный момент, Иван Иванович может реагировать и настоящим смехом, а не тенью смеха. – Я называю тебя маленькой, потому что ты пока еще растешь.
– До каких же лет я буду расти?
– Если будешь правильно жить, лет до сорока или до пятидесяти.
Я делаю гримасу:
– Тогда уже и жить останется всего ничего. Не успеешь оглянуться – старость.
– Нет, Маленькая Тигрица, ты ошибаешься, – говорит он и больше не улыбается, – настоящая жизнь начнется только после того, как ты станешь совсем взрослой, и, если у тебя это получится (а стать взрослым мало у кого получается), ты будешь жить в полную силу еще лет семьдесят или даже сто, пока в тебе не иссякнет Жизнесвет, который китайцы называют «энергией ци», индийцы «праной», а европейцы никак не называют, потому что ошибочно верят в существование некоей личной души, а душа не личная, она всеобщая, и каждому из нас при рождении дается во временное пользование ее малая частица, а уж от человека зависит, сделать эту кроху большой и яркой или уморить.
Слушаю, снисходительно улыбаясь, благо он не может видеть моей улыбки. Магия, длившаяся во время его рассказа, ослабела, и я уже снова не очень-то верю, что этому говоруну девяносто девять лет. И это бы еще ладно, но не выдумал ли он и про золото?
– Ты недоверчиво улыбаешься, я знаю. – Иван Иванович тоже улыбается. Кажется, я его забавляю. – Ничего, я научу тебя, как стать из маленькой тигрицы большой и оставаться ею много-много лет, если ты, конечно, захочешь учиться.
– А как можно этому научиться?
– Как в школе – слушая учителя и делая домашние задания. Чем прилежней будешь учиться, тем быстрей и лучше всё усвоишь, ведь я только объясню тебе упражнения, как телу и духу увеличивать и долго сохранять силу, но сможешь ли ты эту науку усвоить и насколько хорошо ею воспользуешься, зависит только от тебя, и учти, пожалуйста, что сам я – не лучший образец правильно сохраненного Жизнесвета, потому что я не настоящий даос, прошедший полный курс обучения, я почти до всего доходил своим рассудком, а это одновременно хорошо и плохо, ибо, с одной стороны, развивает ум и позволяет придумывать новое, но с другой, вынуждает тратить много времени на открытия, которые давно уже кем-то сделаны.
– Что за упражнения? – перебиваю его я. Философствования мне неинтересны, а вот если Иван Иванович действительно владеет какими-то даосскими практиками, это может оказаться любопытным. Я много читала о невероятных способностях, которые развивают в себе горные отшельники и просветленные старцы.
– Суть их проста, – начинает объяснять Иван Иванович, – как просты все основные вещи, потому что сложными бывают только необязательные второстепенности…
(Слушай внимательно, бестолочь! Что ты пялишься в окно? Потом будешь жалеть, что половины не запомнила!)
– …Если хочешь жить долго, сохраняя внутреннюю силу, нужно научиться управлять своим кровотоком, ибо с ним по телу круговращается Жизнесвет, и потребность в нем не одинакова, она меняется в зависимости от того, что ты делаешь в данный миг: мыслишь, бежишь, работаешь, любишь или спишь, поэтому движение крови нужно ускорять или замедлять, направлять в некий участок тела или, наоборот, выводить оттуда – например, если ты ранен и хочешь остановить кровотечение или требуется унять острую боль… – Он вдруг делает паузу, вытягивает руку и с удивительной для слепца точностью щелкает меня по кончику носа. – Но ты слушаешь про Жизнесвет без интереса, поэтому я про него сейчас говорить не стану, и в любом случае ты еще слишком молода, чтобы это понять, тебе придется подождать осени…
(Я вздрагиваю – не тогда, а сейчас. Сандра слов про осень не поняла, сочла очередной восточной цветистостью. Но я-то знаю, что он имел в виду.)
– …поэтому делай упражнения, которым я тебя научу, и ни о чем не задумывайся, лишь бы только они вошли у тебя в привычку и стали естественной частью твоего дня, а к учебе можем приступить прямо сейчас, и если всю долгую дорогу через леса и горы до реки Мохэ, а потом обратно, ты тоже будешь упражняться, то я думаю, для основы этого хватит и дальше ты сможешь двигаться сама.
– Я готова. Мне записывать?
Я потянулась за блокнотом, но Иван Иванович меня остановил.
– Знаешь, из-за того что в юности я не любил учиться, а потом ослеп, я не прочитал за всю жизнь ни одной книги и от этого не привык полагаться на письменное слово. Если ты один раз понял суть, потом уже не забудешь, она сама запишется вот здесь. – Он показал себе на голову. (Интересно! Сандра о строении мозга имела самое смутное представление и не обратила внимания, куда именно ткнул своим сухим пальцем Иван Иванович, но я-то теперь вижу: он показал не просто на голову, а на височные доли, ответственные за накопление памяти.) – Так что довольно, если ты усвоишь главное: кровь в тебе должна перекатываться, подобно океанским приливам и отливам, что повинуются силе Луны, а Луной будет твой мозг, это он станет решать, какой части тела сейчас требуется приток крови: слуху, если ты прислушиваешься; зрению, если вглядываешься вдаль; сердцу, если нужно убыстрить движения, а со временем можно и усиливать либо ослаблять даже собственные чувства, если, конечно, ты захочешь ими управлять, потому что человек, хорошо владеющий своими чувствами, избавляется от душевной муки, но зато и лишает себя радости…
(Это он про осень, опять про осень!)
«Из-за того, что он не прочитал ни одной книги, в его рассуждениях столько тривиальных, даже банальных мыслей, – думаю я, не забывая вежливо поддакивать, – такова участь всякого домотканого философа, даже если это ум глубокий и незаурядный». (Что ж, по крайней мере Сандра уже сообразила, что имеет дело с человеком глубокого и незаурядного ума.)
– Многие даосы придают большое значение строгой диете, но мой опыт всех этих ограничений не подтверждает, и я всегда ел то, что мне нравится, следя лишь за тем, чтобы не брать в рот ничего недозрелого или умерщвленного, потому что Жизнесвет есть во всяком животном или растении, и он превращается в отраву, если его рост прерывается насильно.
– Но ведь не падалью же питаться!
– Вредно есть мясо, но можно молоко и всё молочное; нельзя есть курицу, но можно неоплодотворенные яйца, а плоды лучше есть те, что уже упали с дерева – цикл Жизнесвета в них завершился. Думаю, что точно так же питательно и полезно было бы мясо даоса, умершего после долгой и здоровой жизни, которая завершилась естественным путем, но только о даоса зубы сломаешь.
Я хихикаю, но не очень уверенно, потому что лицо Ивана Ивановича невозмутимо и я не сразу понимаю, что он пошутил. Или не пошутил?
– Упражнения и диета необходимы, однако есть еще одно мощное средство, способствующее развитию в человеке Жизнесвета, и я придумал для этого средства очень хорошее название – Точилка, ибо оно оттачивает мастерство управления кровотоком, как точилка заостряет кончик карандаша, – говорит Иван Иванович, явно гордясь своими словесными изобретениями, – а термин «Жизнесвет», кстати, тоже придумал я.
(Лингвистическую глухость Ивана Ивановича я уже поминала. Эта его дурацкая «Точилка», да и «Жизнесвет» – типичные примеры.)
– Начать нужно с самого легкого – с дыхания, и дышать я научу тебя быстро.
Теперь я смеюсь охотнее, штука дошла до меня сразу.
– Я умею дышать, все умеют дышать. Кто разучивается – умирает, – демонстрирую я, что у меня тоже есть чувство юмора.
– Нет, Маленькая Тигрица, дышать умеют очень немногие, а все остальные только надуваются и сдуваются, как лягушки, совершенно не понимая, что воздух – это не кислород и не топливо для легких, расходовать воздух попусту глупо, и чем скорей ты от этой дурной привычки отучишься, тем для тебя будет лучше. Во-первых, всегда следи, чтобы ритм твоего дыхания соответствовал твоему занятию: шагу, работе, пережевыванию, любви… – здесь я, кажется, от смущения моргаю, но он слепой, не замечает, – даже темпу мысли, но не один в один, конечно, шаг-вдох, шаг-выдох, а кратно движениям, например, во время еды сделал три жевательных движения – вдох, еще три жевательных – выдох, и это должно стать для тебя чем-то естественным, происходящим не по приказу сознания, а самопроизвольно…
Сандра слушает очень внимательно, для нее эта азбука цигуна внове, и неудивительно – лишь в шестидесятые годы миллионы западных людей открыли для себя науку правильного дыхания. Я помню, что лекция Ивана Ивановича была долгой, прерываемой демонстрациями, но всё это сейчас мне не слишком интересно.
Учение продлится всю дорогу до Якеши, с несколькими перерывами, продолжится оно и потом.
Я скольжу по страницам, не задерживаясь. Там, в двухместном купе первого класса, был разговор еще на одну тему, и я хочу до него добраться.
Вот старик и Сандра сидят напротив, сложив ноги крест накрест, и дышат сначала грудью, потом животом. Вот Иван Иванович показывает задержку дыхания, а Сандра, вытаращив глаза, следит за циферблатом. Еще картинка: он тычет себе иглой под ноготь и улыбается – кровоток в палец остановлен, совсем небольно. Сандра сострадающе морщится. Не то, не то. Стоп – вот оно.
Я покачиваюсь в такт покачиванию вагона, стараюсь дышать так, как мне показал Иван Иванович: глубокий медленный вдох на раз-два-три-четыре-пять-шесть, задержать воздух, который не воздух а энергия Вселенной в легких на раз-два-три, снова медленно выдохнуть на шесть тактов, и так всё время, при этом еще подлаживаясь под стук колес (что легко) и стараясь не думать о дыхании (что не получается). Снаружи темно. Мы вернулись в купе после ужина. Я хочу есть, потому что из всего меню «жизнесветной» диете соответствовали только сырники со сметаной, а чаю мне брать было не велено, потому что он из молодых листочков и пить можно какой-то другой, особенный, которого у буфетчика не оказалось.
Электричества я не зажигаю. Ивану Ивановичу свет не нужен, мне тоже. Я смотрю в черный квадрат окна и думаю о Давиде. Как он там сейчас? Понятно, что ужасно, но все-таки как? Ему голодно, страшно, его мучают бандиты, он не понимает, почему до сих пор не внесен выкуп, или, наоборот, знает про болезнь отца и впал в отчаяние? Я не могу себе представить принца израильского в унижении и ничтожестве. И не хочу этого представлять. Я тороплю колеса, чтобы они быстрей, еще быстрей мчали меня к цели. От этого дыхание мое учащается, сбивается с такта.
Неспешную речь своего спутника я почти не слушаю, меня даже немного раздражает говорливость Ивана Ивановича.
(Не мешай, глупая девчонка! Не заглушай его голос своими плаксивыми мыслями!)
– …То, что называют «старостью», на самом деле является зрелостью, и это самая лучшая, самая долгая пора жизни, но люди этого не понимают, они боятся стареть, потому что для них старость – это болезни, телесная слабость и угасание ума, но такою старость бывает только у людей, неправильно проживших свою жизнь. Ты скажешь, что все старики таковы, и будешь почти права – но лишь в том смысле, что почти все люди проживают жизнь неправильно. Болезни с возрастом развиваются от дурного обращения с собственным телом; дряхлость происходит оттого, что человек ослабляет, а не взращивает свой Жизнесвет; ум угасает у тех, кто мало пользовался мозгом и дурно с ним обходился. Всего этого можно избежать… – Он поворачивает ко мне голову, словно пытаясь понять, не уснула ли я.
– В самом деле? – рассеянно говорю я. До старости еще надо дожить, пока у меня и в молодости проблем хватает.
– Безусловно! Старость не обязательно сопровождается немощами – посмотри на меня, я совершенно здоров и никогда не болею. То, что называют «старческой слабостью», на самом деле – замедление круговращения Жизнесвета, его постепенное дозревание, и это не беда, а благо, потому что зрелому телу требуется меньше движения, оно меньше дергается и суетится, и от этого, если ты здоров, всё существо наполняется покоем и довольством. А против угасания разума есть свои средства – особые упражнения, которым я тебя со временем научу, и если ты будешь прилежно учиться, то когда-нибудь вырастешь из маленькой тигрицы в большую, и проживешь долго-долго, и уйдешь лишь тогда, когда будешь знать, что прожила свою жизнь счастливо и сполна, выпила ее сок до последней капли…
В этом месте я вынуждена остановить воспоминание, потому что в мою палату кто-то входит. Два человека, пожилых. Я их не знаю, эманации мне незнакомы.
Досадно, что я не дослушала речь Ивана Ивановича, адресованную не двадцатисемилетней девочке, а мне, мне!
Но, включив «обослух» и прочувствовав «масть» разговаривающей пары (словечки из лексикона Ивана Ивановича выскакивают, потому что во мне еще не затих его голос), я ощущаю уже не раздражение, а давно забытое чувство: зависть.
Вот отличная иллюстрация к панегирику старости, который Иван Иванович произнес перед своей невнимательной слушательницей.
Мои биорецепторы улавливают волну настоящего, беспримесного счастья, и я не успеваю вовремя остановить царапнувшую сердце мысль: «Если б я не побежала на звук трамвая, а оглянулась бы и остановилась… Если б я вернулась, мы могли бы стать такими же».
Клим и жаба
Есть тут, конечно, доля комичности. Прямо Герцен с Огаревым на Воробьевых горах. Но бояться комичности комично – цитата из самого себя. Мы давно уже по ту сторону этих смешных страхов, а скоро вообще будем по ту сторону – всего на свете, и надо отнестись к этому спокойно. Ну не спокойно, так ответственно, как ты привык относиться ко всему серьезному.
Он нарочно шел на несколько шагов впереди Жабы, чтоб она не видела его взгляда. На лестничной площадке перед третьим этажом пришлось остановиться, чтобы перевести дух, слишком быстро поднимались, но Клим закрыл глаза и таким образом уклонился от ее детектора лжи.
– Сердце? – сразу спросила Жанна. Она, естественно, была встревожена. – Дать жалюлю?
Это они так между собой называли пилюли, по-французски glule.
– Нормально всё. Можем двигаться дальше.
И снова занял позицию в авангарде.
На томографию он ездил один, хоть Жаба упрашивала взять ее с собой, даже требовала и пробовала скандалить, но, когда поняла, что он не уступит, смирилась. Она всегда чувствовала границы возможного, потому что умница и спутница жизни.
Того, чего он боялся, исследование не обнаружило, но выяснилось другое, пожалуй, что и похуже. Определенно хуже. Клим поморщился на холодок страха в груди. Ладно, всё такое вкусное, одно слаще другого. Не чума, так холера. Когда-нибудь всё заканчивается, и лучше идти к концу не вслепую, а зная расклад карт.
На обратном пути из клиники он думал не о своих кислых перспективах, а о том, как сказать Жабе. Не говорить было нельзя. Врать ей он никогда не умел.
Задачка…
Так и не придумав оптимального решения, он пошел не в главное здание, где жена в это время занималась французским. Полчаса, остававшиеся до ее возвращения, он решил провести дома, чтобы продумать сценарий непростой беседы.
Чудня штука – чувство дома. Он всю жизнь любил переезжать с места на место, путешествовать и не понимал, почему жене не терпится вернуться восвояси. А теперь понял. Дом – расширение твоего внутреннего пространства, вторая кожа с собственной системой дыхания.
Два года назад, приняв решение «удалиться от мира» (его шутка, которую она охотно подхватила), супруги с удовольствием взялись обставлять и декорировать свою квартиру в резиденции «Времена года». Невысказанную вслух, но витавшую в воздухе идею следовало бы сформулировать так: «Наше последнее жилище должно быть идеальным». Поэтому ничего лишнего, случайного, раздражающего, и чтоб ни один квадратный сантиметр не пропал зря. Это было, как увлекательная игра – разместиться на шестидесяти пяти метрах после российских хором. Будто на старости лет кукольный домик обустраивали.
Московская квартира и загородный дом были проданы, деньги переведены на счет, завещанный Фонду поддержки молодых ученых. Перед тем, как «удалиться от мира», Клим аккуратно завершил земные дела, сделал все нужные распоряжения. Себе оставил небольшой портфель – для развлечения, чтоб мозги не скучали. Но и эти акции были завещаны Фонду. Сыну с дочерью (они были двойняшки) после смерти родителей достанутся только личные вещи, на память.
Удачные получились дети. Умные, сильные, самодостаточные. Как-то, в самоедскую минуту, Жаба сказала: «Дети чаще всего вырастают хорошими, если мать их недостаточно любит». Ну, насчет «недостаточно» – вопрос спорный, но что правда, то правда: больше всего на свете она любила мужа, а о сыне с дочерью просто заботилась. С точки зрения Клима, угрызаться тут было не из-за чего. Потому что дети – дорогие, но временные гости, повзрослеют и уйдут, а муж и жена – это до конца.
У него был собственная теория воспитания. Детей нужно дрессировать, как породистых щенят, для самостоятельной жизни – вот в чем главный долг отца и матери, а вовсе не в том, чтоб тешить родительские инстинкты. Свою функцию Клим счел исполненной, когда Сашка с Машкой закончили аспирантуру и защитились. Такой у него с ними был уговор: получите полновесное образование, а потом живите, как угодно – но не раньше, чем пройдете весь положенный курс ученичества. В качестве базы для взрослой жизни сын и дочь получили по квартире, а в качестве «подъемных» по сто тысяч долларов (очень неплохие деньги по российским меркам 1995 года). При этом наследникам было объявлено, что это всё и никакого наследства не будет. Вперед, ребята. Вся жизнь ваша.
И ничего, оба отлично устроились. Сашка пошел дальше по научной линии, у него в Калифорнии своя лаборатория. Машка занялась бизнесом, она всегда была немножко авантюристкой. Несколько первых блинов у девочки встали комом, один раз даже пришлось ее выручать с просроченным кредитом. Клим сделал это очень неохотно, потому что у предпринимателя не должно быть папочки с толстой мошной, это расслабляет. Но Машка молодец. Встала на ноги и долг вернула, даже настояла на выплате процентов, как за банковскую ссуду.
Нет, за детей опасаться нечего. Они люди взрослые, живут своей жизнью. Другое дело Жаба.
Вскоре после распределения, на самой первой своей работе, Клим закрутил роман с худенькой лаборанткой. Думал, легкое приключение, а получилась семья. Пятьдесят девять лет вместе прожили. И как жили! Никто им не нужен был. Дети, и те появились по недогляду, поздно. Только из-за того, что врач сказал: в таком критическом возрасте и на таком сроке рискованней делать аборт, чем рожать. У советских медиков той поры тридцать восемь лет для первородящей считались «критическим возрастом». А про то, что двойня, в те патриархальные времена выяснилось, когда живот уже на глаза лез. Клим настоял на кесаревом и сказал твердо: если что – спасайте мать. Начитался всяких акушерских ужасов, натерпелся страху! Слава богу, тогда всё обошлось.
Теперь, увы, не обойдется. Вопрос времени. Недолгого.
Как ей сказать, чтоб без напускной бравады и в то же время без трагизма? Нельзя же допустить, чтобы повисла черная туча, которая отравит и испортит им обоим радость оставшихся дней? Нужно полноценно жить столько, сколько получится, и не цепенеть от неизбежного. Как найти правильные слова, правильный тон?
Клим считал себя человеком обстоятельным, особенно в важных вопросах. А более важного вопроса, чем этот, в жизни, пожалуй, уже не будет.
Получаса не хватило. Через заднюю дверь он вышел наружу, пошел вдоль ухоженных цветников в сторону парка.
Навстречу гуляющей походкой шествовал Валерий Николаевич Ухватов. Увидел Клима – обрадовался. Видимо, скучно было полковнику.
Иногда они говорили об интересном. Спорили. Ухватов был человек неглупый и непустой, хотя, конечно, абсолютно противоположной группы крови.
– День-то сегодня какой, помните? – сказал Валерий Николаевич, приблизившись.
Сейчас эта встреча была исключительно некстати. В подобных случаях Клим отлично умел спроваживать докучного собеседника необидным, но решительным образом. Однако не стал. Потому что знал по опыту: иногда, если задача не поддается, лучше отвлечь мозг какой-то иной гимнастикой. Глядишь, решение появится само. У него много раз так выходило – и в науке, и в бизнесе.
– День? Вторник, кажется.
– Я не про то. Сегодня 22 июня. Годовщина. Я-то плохо помню, маленький совсем был. Только, как мать плакала, отец ее утешал, ну и я, сопливый, заодно разревелся. А вы, Клим Аркадьевич, постарше моего. Наверное, запомнили. Вы какого года?
– Двадцать восьмого. Помню, разве забудешь. Речь Молотова я, правда, не слышал, в пионерском лагере был. А как Сталин по радио к «братьям и сестрам» взывал, собственными ушами слышал, вот этими. – Клим тронул пальцем ухо. – Родители меня к тому времени уже в Москву вывезли.
Полковник нахмурился, ему не понравился тон, которым Клим говорил о речи Сталина.
– Не любите Иосифа Виссарионовича, – не столько спросил, сколько констатировал Ухватов.
– Мягко говоря, не люблю.
– Зря. Если б не этот человек, нашей страны бы не существовало. Черной благодарностью платят ему потомки за труды великие. Нет пророка в своем отечестве. А Сталин обладал великим даром видеть будущее. Великим мужеством – брать на себя ответственность. И математическим умом, который умел выстраивать приоритеты. Самый первый из них для вождя – спасать государство, которым руководишь.
«Очень мне сейчас нужна эта дискуссия», – подумал Клим Аркадьевич, но разговора почему-то не прервал. А полковник был только рад, что есть перед кем высказаться.
– Еще в тридцать первом году Иосиф Виссарионович сказал, что у нашей страны есть не более десяти лет, чтобы подготовиться к невиданно тяжелой войне с мировым империализмом. Какая точность прогноза! Еще и Гитлер к власти не пришел, а Сталин уже видел, к чему идет дело. Он один понимал, что стране предстоит невиданное испытание на выживаемость. Шанс выстоять в войне с враждебным миром был только один: преодолеть нашу русскую разболтанность, превратить СССР в боеспособный организм. А для этого пришлось пожертвовать крестьянским укладом ради индустриализации страны. Уничтожить в армии ростки бонапартизма и анархии. Выстроить по струнке госаппарат. Жертвовать буквально всем ради укрепления обороноспособности. Это Сталин создал тяжелую промышленность. Наладил производство собственных самолетов и танков. Выжег каленым железом разгильдяйство. И то ведь еле-еле в сорок первом продержались. Но все-таки победили! В первую мировую, имея союзников, не смогли с немцами сладить, а при Сталине одни против индустриальной мощи всей Европы сразились и выстояли. К сорок пятому стали первой державой континента! Сама Америка, в десять раз мощнее нас, много лет потом перед нами тряслась. Вот что такое Иосиф Виссарионович! Да, многих посадил и расстрелял. Да, не жалел солдат. Но иначе нельзя было. Коли не умеешь хорошо воевать, компенсируешь непрофессионализм кровью. Ради победы никакая жертва не бывает чрезмерной. А прояви Сталин мягкость, страна бы погибла. И вы лично тоже. Вы ведь еврей?
– Нет, с чего вы взяли? Валерий Николаевич чуть смутился:
– Извините. Во всех интеллигентах есть что-то еврейское.
– А почему «извините»?
Ухватов засмеялся, махнул рукой: ладно, проехали, не цепляйтесь.
Но Клим завелся от страстной речи бывшего полковника и не цепляться уже не мог.
– Ваш кумир превратил страну в военный лагерь, использовав один из двух двигателей, возможных в такой ситуации: страх. – Горячиться Клим совсем не умел. Он всегда говорил размеренно и спокойно, даже в раздражении. – Однако истории человечества известен и другой мотор, не менее эффективный. Это поощрение личной инициативы, использование силы человеческого духа. Темпы сталинских пятилеток безусловно впечатляют. Но, во-первых, экономический прирост капиталистических стран в периоды бума бывает ничуть не меньше. Возьмите Японию шестидесятых или любое другое «экономическое чудо» – тайваньское, сингапурское, ирландское. Прирост ВВП порядка 10 % – в порядке вещей, а это повыше, чем у нас во время первых пятилеток. То есть, можно было достичь не меньших результатов, не разрушая сельское хозяйство, не превращая население в рабов, не наваливая горы трупов. Ну, а уж о долгосрочных экономических интересах вообще говорить нечего. Страх – стимул сильный, но кратковременный. Ничего прочного на этом тряском фундаменте не построишь. Потому Советский Союз и обанкротился, что страх помаленьку иссяк, а нового двигателя так и не появилось. Знаете, в чем главное преступление вашего Иосифа Виссарионовича? В том, что он презирал своих соотечественников и не верил в них. А раз так – нечего было лезть по головам в национальные лидеры.
– Эх, умные вы люди, интеллигенция, а человеческой природы не знаете. – Ухватов печально покачал головой. – Достоевский – тот знал. А вы, современные, не знаете.
Климу стало даже смешно.
– Зато вы, гэбэшники, людскую природу постигли насквозь?
– Мы – постигли. Работа такая, – со спокойным достоинством ответил полковник. – Человек в принципе – еще то дрянцо. И наше население пребывает на среднемировом уровне паршивости, посередке между Угандой и Норвегией. Однако мы надежды не теряем, носа не воротим. Работаем с тем материалом, какой имеем, и теми средствами, каких этот материал заслуживает. Вот в чем состоит высшая мудрость государственной власти.
И тогда Клим не выдержал, совершил чудовищную бестактность. Потому что слышал этот поганый аргумент много раз – в качестве оправдания всяких мерзостей.
– Ну что ж, Валерий Николаевич, – медленно и отчетливо сказал он. – Давайте посмотрим на результаты. Я прожил жизнь по своей правде, вы – по своей. Возьмем меня. Я никогда никого не обманывал, не эксплуатировал, не давил, не дожимал, обращался с подчиненными уважительно, как с равными. Расстался со всеми по-доброму, дело после меня осталось и развивается дальше. На исходе жизни имею достаток, чистую совесть, покойную старость. А теперь возьмем вас. Вы всю жизнь существовали, воюя с выдуманными врагами и беспрестанно прибегали к некрасивым средствам во имя великой цели, которая в итоге оказалась, извините, кучей дерьма. На старости лет вы существуете за счет сына, которого презираете и на каждом углу называете коррупционером. Так кто из нас лучше знает правду жизни?
Говорил он очень вежливо, но что ни слово – удар ниже пояса. Ветеран КГБ даже отвечать на стал. Потемнел лицом, повернулся и побрел прочь, сгорбившись.
Однако торжество Клим ощущал недолго. Почти сразу же стало стыдно и противно. Переход на личности – это способ раздавить оппонента, но не опровергнуть его точку зрения. Притом способ нечестный. А нечестная победа хуже честного поражения – он сам всегда так говорил.
Очень недовольный собой, Клим пошел через парк, такой же ссутулившийся, как посрамленный противник.
По инерции еще некоторое время думал про полковника, Сталина и прочую ерунду, потом спохватился: Господи, о чем это я.
Вдруг почувствовал сильную усталость, будто карабкался на гору – был вынужден опуститься на скамейку у балюстрады, на краю обрыва.
Думал: возраст определяется не годами, а внутренним ощущением – поднимаешься ты к перевалу или уже преодолел его и спускаешься в долину. Ощущение подъема держится до тех пор, пока у человека больше сил, чем требуется, чтоб просто плыть по течению жизни. Избыток внутренней силы тратишь на движение вверх. Но наступает момент, после которого жизнь берет у тебя больше энергии, чем ты можешь потратить, и тогда начинается скольжение вниз. Это, собственно, и есть старость. Как во всяком плавном спуске, тут есть своя приятность.
Он смотрел на долину Сены: зеленое пространство с желтыми прямоугольниками рапсовых полей, парчовый пояс сверкающей на солнце реки, высокий небосвод. Какое спокойное, мирное, возвышающее зрелище. Самый сильный аргумент в пользу существования Бога (если бы в этом вопросе аргументы имели смысл) – это вид пресловутого звездного неба, или заката над морем, или такой вот долины. Божественность мира воспринимается не через логику, а физиологически. Не через голову, а через поры кожи.
И стоило ему об этом подумать, как рисунок предстоящего разговора сложился сам собой.
Слова, конечно, важны, но еще важнее атмосфера и антураж. Где состоится беседа не менее важно, нежели конкретное ее содержание. Нужно отвести Жабу в палату к Мадам. Это передаст главный мессидж лучше, чем любые объяснения, и можно будет обойтись без пафоса.
– Где ты пропадал? Я видела машину на стоянке. Что они тебе сказали? Я так волнуюсь! Почему ты не зашел за мной?
Она накинулась на него с тысячью вопросов, а он сказал лишь:
– Пойдем. Поговорим в другом месте.
– Почему не дома? Не пугай меня!
– Пойдем, этот разговор требует особенных декораций.
Он улыбнулся, глядя в сторону. Лучший способ отвлечь и успокоить женщину – разжечь в ней любопытство.
– Каких еще декораций? Куда «пойдем»? Что ты задумал?
Видя, что он улыбается, Жаба немного успокоилась. Она любила, когда ее интриговали.
– Ну хорошо, сейчас.
Поправила перед зеркалом прическу, накинула одну шаль, потом передумала – взяла другую. Клим смотрел и любовался: женщина, настоящая женщина.
До палаты Мадам они шли молча: он впереди, она сзади.
Внутри по счастью никого не было – кроме недвижной фигуры на кровати.
Жаба поежилась, покосившись на обтянутый кожей череп, и поскорей отвернулась.
– Ужас какой. Зачем ты меня сюда привел? Вечные твои фокусы! Что показало обследование?
Он заговорил тихим, задумчивым тоном, каким всегда делился с нею самыми сокровенными мыслями. Знал, что жена сразу умолкнет и станет внимательно слушать.
– Посмотри на этот саркофаг. История цивилизации – всё большее и большее отдаление от Природы, противопоставление ей. Особенно это заметно в главном вопросе бытия – вопросе о ценности жизни. Природа всеми своими повадками и законами ежеминутно внушает нам, что жизнь никакой ценности не имеет, а смерть – ерунда, повседневное незначительное событие. Всё живое вокруг беспрестанно погибает, и нарождается новая жизнь, и тоже исчезает, бессмысленно и бесследно. А наша цивилизация безмерно раздувает значение человеческой жизни, которая объявляется сверхценностью. Даже если от жизни остается крошечная искорка, в цивилизованных странах ее берегут, не дают угаснуть. Хотя надо ли так уж лелеять огонек биологического существования, когда личность уже мертва, это вопрос весьма и весьма спорный…
Жанна очень любила, когда Клим пускался в монологи на отвлеченные темы. Внимать, как рассуждает вслух умный мужчина – одно из самых приятных занятий на свете. Но сейчас он ее явно забалтывал, подводил к чему-то. Нужно немного подождать. Ему так привычнее, легче: вступление, завязка, кульминация, развязка. Не нужно его сбивать, сейчас он сам всё расскажет.
Господи, что же там все-таки обнаружилось? Неужели рак? Но в его возрасте это не самое страшное. После восьмидесяти онкологические процессы развиваются медленно, люди живут годами.
Клим говорил об истинном милосердии, смысл которого сегодня искажен и даже утрачен – иначе медицина не стала бы столько лет глумиться над бедным телом этой коматозной женщины, а Жанна уже еле сдерживалась, чтоб не схватить его за плечи и не крикнуть: «Да говори же про дело! Хватит топтаться вокруг да около!» Но она видела, что ему и так трудно. А на кошмарную мумию Жанна старалась не смотреть. Это Клим всё не сводил с нее глаз.
– Я это всё к чему… Ну, ты, наверное, уже сама догадалась.
Глаза у нее мгновенно наполнились слезами.
– Рак? Сердце?
– Нет. Мне сделали снимок сосудов головного мозга. Есть основания опасаться инсульта.
Жанна знала, они как-то говорили об этом, что инфаркта он не боится, потому что, как он выразился, «чик – и готово», но перед инсультом испытывает настоящий ужас.
Бедный, бедный…
– Не плачь, перестань. Это случится не сию минуту. Может, вообще нескоро. Но раз уж таковы мои… хм… перспективы, хочу с тобой договориться. Раз и навсегда, чтобы больше никогда к этому не возвращаться. Пожалуйста, Жабка, не позволяй им оставлять меня в таком вот состоянии. – Он кивнул на кровать. – Мы с тобой никогда об этом не говорим, и правильно делаем, потому что незачем каркать и портить себе радость жизни, но когда-то нужно. Давай один раз проговорим всё до конца, решим, и будем спокойно жить дальше. Поговорим, как зрелые люди – без соплей. Хорошо?
Она кивнула и вытерла слезы.
– Хорошо.
– Когда со мной это случится, не давай им подключать меня к системе принудительного жизнеобеспечения. Я оставлю на этот счет юридически оформленное распоряжение, а ты проследи, чтобы оно было исполнено.
– Прекрасно, ты всё продумал. – Жанна старалась говорить спокойно. – Узнаю мастера планирования. А что будет со мной? Если ты, в каком угодно состоянии, живой и дышишь, это одна история. Если тебя нет – вообще нет, совсем другая…
Спокойно не получилось, голос сорвался.
– Я и о тебе подумал, – сказал он быстро, чтоб она не успела разреветься. – Всё под контролем, Жабка, капитан на мостике. Смерти ты не боишься, я знаю. Ты боишься того же, чего я: остаться одному. Предлагаю решение.
– Ну?
Она смотрела на него наполовину недоверчиво, наполовину с надеждой.
– Решение применимо для обеих договаривающихся сторон. В конце концов, нельзя быть стопроцентно уверенным, что первым чебултыкнусь именно я. – Клим подмигнул. Самое страшное было позади, и настроение у него поднялось. – У тебя, знаешь, такое давление, что еще вопрос, на какую лошадку ставить.
Но Жанна перехода на легкий тон не поддержала.
– Что ты придумал? Говори.
– Ты меня знаешь. Если я сообщаю плохую новость, то за нею обязательно последует хорошая. На книжной полке за сорок пятым томом «Брокгауза» я устроил секретик.
– Видела я твой дурацкий «секретик». Ты там прячешь от меня мерзавчик с коньяком.
Он удивился, но не очень. Привык за пятьдесят девять лет, что от Жанны спрятать что-либо трудно.
– Это не коньяк. Я бутылочку еще в Москве раздобыл. А Жанна уже обо всем догадалась, и слезы сразу высохли.
– Ты у меня умничка, – сказала она. – Всё продумал, обо всём позаботился. За это и люблю.






