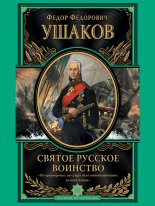Путь к империи Наполеон Бонапарт
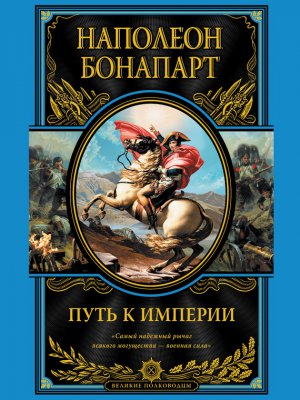
Этот бриг немедленно взял курс на Кипр, вероятно, для того, чтобы уведомить об этом английскую крейсерскую эскадру. Вскоре после того поднялся юго-восточный бриз, это было чудом в августе месяце, то есть в то время, когда еще дули северо-западные ветры, обычные для этого времени года. Адмирал пришел к выводу, что этот бриз способен унести отряд кораблей на 30–40 лье от сферы действия крейсерской эскадры, наблюдавшей за Александрией.
Наполеон передал генералу Мену инструкции для генерала Клебера и приказ генералу Дезэ – вернуться во Францию, воспользовавшись зимней непогодой. Ему очень хотелось увезти его с собой. Генерал Мену был чрезвычайно огорчен; но он питал исключительное доверие к главнокомандующему и знал, насколько важно, чтобы Наполеон прибыл в Европу.
Тут-то, прогуливаясь перед своей палаткой по пляжу, увлажняемому морскими волнами, главнокомандующий сказал ему: «Я приеду в Париж, разгоню это сборище адвокатов, которые издеваются над нами и неспособны управлять республикой; я стану во главе правительства, я сплочу все партии; я восстановлю Итальянскую республику и я упрочу обладание этой прекрасной колонией».
После этого разговора Наполеон вошел в свою палатку на берегу моря и продиктовал своему секретарю господину Бурьенц письмо, адресованное генералу Клеберу, на основании которого последний счел себя вправе договариваться с противником и капитулировать.
Его последний приказ гласил:
«Солдаты! Известия, полученные из Европы, побудили меня уехать во Францию. Я оставляю командующим армией генерала Клебера. Вы скоро получите вести обо мне. Мне горько покидать солдат, которых я люблю, но это отсутствие будет только временным. Начальник, которого я оставляю вам, пользуется доверием правительства и моим».
Посадка состоялась в 7 часов вечера; генералы Ланн, Мюрат, Мармон, господа Персеваль и Денон с половиной охраны отплыли на «Каррэре»; этим кораблем командовал капитан Дюмануар. Главнокомандующий, Бертье, Монж, Бертолле, Буррьен и вторая половина охраны отплыли на «Мюироне». Этот фрегат был назван в честь носившего такую фамилию адъютанта, который был убит при Арколе, прикрывая собственным телом главнокомандующего: Каррэр – фамилия артиллерийского генерала, убитого у Неймарка (Каринтия) в кампанию 1797 года.
Эти два фрегата были красивы, велики, хорошо вооружены и способны выдержать бой; но поскольку они имели осадку на два фута меньше, чем у французских фрегатов, хотя корпуса их были длиннее и шире, то они плохо забирали ветер; при преследовании превосходящими силами они не могли уйти от погони. Две маленькие шебеки имели подводные части, обшитые медью. Они были быстроходны; ими предполагалось воспользоваться в случае преследования превосходящими силами с тем, что фрегаты отвлекут на себя внимание вражеских судов.
Этот маленький отряд вышел в 9 часов вечера и в 6 часов утра находился в 30 лье к западу от Александрии, за мысом Арас. Но вскоре после восхода солнца бриз совершенно стих и обычный северо-западный ветер снова стал дуть в полную силу; так продолжалось 15–20 дней.
Иногда за сутки удавалось продвинуться на 2–3 лье в нужном направлении, но нередко суда оказывались отнесенными назад; они уклонялись под ветер, относимые течениями, которые в этом море дают себя чувствовать в направлении с запада на восток. Армейские офицеры принимались дразнить морских и с иронией спрашивали, когда же они бросят якорь в александрийском порту. Обиженный адмирал решил взять курс на Кандию.
Но когда он обратился с этим предложением к главнокомандующему, последний его отклонил и приказал адмиралу держаться возможно ближе к берегу и даже войти в залив Сидра, чтобы лучше спрятаться; он добавил, что скоро равноденствие, и тогда суда пойдут вперед; что дни, потерянные в этих неизведанных водах, – выигранные дни; что нужно стать выше насмешек невежд. Адмирал тем охотнее подчинился этому приказу, что он согласовался с приобретенным им опытом и всем, что ему было известно об этих морях. Наконец подул ветер равноденствия.
В 3–4 дня отряд обогнул мыс Бон, делая по 13 узлов; обогнув берег Африки, он пошел вдоль побережья Сардинии, затем вышел в открытое море, чтобы подойти к берегу в проливе Бонифачо, и следовал вдоль берега Корсики до мыса Кровавого – в заливе Аяччо. Не имея уверенности в том, что этот остров все еще за Францией, шебека «Фортюн» проникла в залив, снеслась с рыбаками и дала сигнал входа. Отряд бросил якорь 30 сентября в 2 часа пополудни.
Пассажиры высадились на берег; непогода задержала их там на 7 дней. Подробности событий, происшедших в 1799 г. и в особенности на протяжении июля, августа и сентября, показали, какие опасности угрожают родине. Жубер был убит на поле сражения у Нови. При вести о прибытии Наполеона главы общин острова поспешили в Аяччо. Главнокомандующий употребил свое влияние, чтобы примирить враждующие партии и успокоить разгоревшиеся страсти.
7 октября, когда отряд находился на полпути между Корсикой и Провансом, на него налетел сильнейший шквал (ветер Либеччо). Потом он стих. Восьмого вечером корабли находились в 8 лье от Тулона и быстро продвигались вперед, однако в густом тумане. Было установлено, что они находятся посреди эскадры – притом в непосредственной близости от кораблей ее, судя по пушечным выстрелам с них. Еще на Корсике стало известно, что эскадра Брюи вернулась в океан.
Следовательно, теперь корабли находились посреди вражеской эскадры. В 7 часов произошло прояснение, длившееся не более минуты, но позволившее установить, что отряд находился всего лишь на расстоянии выстрела от 74-пушечных линейных кораблей; трудно было решить, как поступить. Адмирал, отличавшийся большой впечатлительностью, приказал повернуть на другой галс, чтобы вернуться к Корсике. «Что вы делаете? – сказал ему главнокомандующий. – Уходя, вы себя выдаете; идите, напротив, на врага».
Это удалось, не возникло никаких подозрений. Несколько минут спустя завеса тумана снова приподнялась. Адмирал поступил мудро, захватив в Аяччо две фелуки – быстроходные суда с экипажами, состоявшими из матросов – местных уроженцев, хороших пловцов. Он хотел, чтобы пассажиры пересели на эти фелуки и отправились в Порто-Крое, куда они обязательно прибыли бы к ночи. Фрегаты же вернутся на Корсику. Однако это не встретило одобрения главнокомандующего, который приказал взять курс на Антиб. Несколько часов спустя стало ясно, что был найден правильный выход.
Предупредительные пушечные выстрелы отдалились; вражеская эскадра, видимо, направлялась к Корсике. 9-го на рассвете отряд бросил якорь напротив Сан-Рафаэля, в заливе Фрежюс. После 45-дневного плавания он прибыл во Францию. Было замечено, что на протяжении всего плавания Наполеон всецело полагался на адмирала и никогда не выказывал беспокойства. Он ни в чем не имел своей воли. Он отдал только два приказания, которые дважды спасли его.
Он отплыл из Тулона 19 мая 1798 г. Следовательно, он находился вне Европы 16 месяцев и 20 дней. За этот короткий срок он овладел Мальтой, завоевал Нижний и Верхний Египет; уничтожил две турецкие армии; захватил их командующего, обоз, полевую артиллерию; опустошил Палестину и Галилею и заложил прочный фундамент великолепнейшей колонии. Он привел науки и искусства к их колыбели.
Наполеон. ВОЗЗВАНИЯ, ПИСЬМА, РЕЧИ, БЕСЕДЫ
Обращение к египетскому народу
«Бонапарт, член Национальной академии, главнокомандующий французской армии.
С довольно давних пор беи, управляющие Египтом, наносят обиды французской нации и притесняют французских негоциантов; пришел час их наказания.
С давних пор эта стая невольников, купленных на Кавказе и в Грузии, властвует над прекраснейшей страной в мире; но Бог, от которого зависит все, повелел, чтобы их владычеству положен был конец.
Народы Египта! Вам скажут, что я пришел разорить вашу религию; не верьте! Отвечайте клеветникам, что я пришел затем, чтобы возвратить вам ваши права, наказать похитителей, и что я, более чем мамелюки, чту Бога, Его пророка и ал-Коран. Скажите им, что перед Богом все люди равны; одни только добродетели, да премудрость и таланты полагают между ними различие. А какие же добродетели, какая премудрость, какие таланты отличают мамелюков и дают им право пользоваться исключительно всеми сладостями жизни?
Если Господь Бог отдал Египет им во владение, то пусть они покажут заключенное условие. Но Господь Бог милосерден и справедлив к народу.
Каждый египтянин признается способным занимать места по службе; умнейшие, просвещеннейшие, добродетельнейшие станут управлять страной, и народ будет счастлив.
Было время, что вы имели большие города, большие каналы, большую торговлю; отчего же все это исчезло, как не от скупости, несправедливости и тиранства мамелюков?
Кадии, шейхи, имамы, шорбаджи, скажите народу, что мы друзья истинных мусульман. Не мы ли искони были друзьями султана (да исполнит Господь все его желания!) и недругами его неприятелей? А мамелюки, напротив, разве не вышли из повиновения султану, которому не покоряются и доныне?
Трижды блаженны те, которые будут заодно с нами! Они пойдут в чины, и богатство их приумножится. Блаженны те, которые не примут ничьей стороны! Они будут иметь время узнать нас, и узнав, возьмут нашу сторону. Но горе, трижды горе тем, которые пристанут к мамелюкам и поднимут оружие против нас! Для них не будет надежды: они все погибнут».
Палестинская прокламация
«Прокламация к Еврейской нации. Штаб-квартира. Иерусалим, 1 флореаля (20 апреля 1789 года) VII года Французской республики.
От Бонапарта, главнокомандующего армиями Французской республики в Африке и Азии, – законным наследникам Палестины:
Израильтяне – уникальный народ, на протяжении тысячелетий лишенный земли своих предков, отнятой завоевателями и тиранами, но не утративший ни своего имени, ни национального существования! Внимательные и беспристрастные наблюдатели судеб народов, даже если они не обладают провидческим даром Израиля и Иоиля, убедились в справедливости предсказаний великих пророков, возвестивших накануне разрушения Сиона, что дети Господа вернутся на родину с радостным восклицанием и «они найдут радость и веселие, а печаль и воздыхание удалятся» (книга пророка Исайи, 35, 10).
Восстаньте в радости, изгнанные! Эта беспримерная в истории война начата во имя самозащиты народом, чьи наследственные земли рассматривались его врагами в качестве добычи, которую лишь надо разодрать.
Теперь этот народ мстит за два тысячелетия бесчестия. Хотя эпоха и обстоятельства кажутся малоблогоприятными для утверждения или хотя бы выражения ваших требований, эта война, против всяких ожиданий, предлагает вам достояние Израилево.
Провидение направило меня сюда во главе молодой армии, ведомой справедливостью и несущей победы. Моя штаб-квартира развернута в Иерусалиме, а через несколько дней я буду в Дамаске, близость которого не будет более угрозой для города Давида.
Законные наследники Палестины!
Великая нация, не торгующая людьми и странами подобно тем, кто продал ваших предков всем народам, не призывает вас отвоевать ваше достояние. Нет, она предлагает вам просто взять то, что она уже отвоевала, с ее помощью и с ее разрешения оставаться хозяевами этой земли и хранить ее наперекор всем врагам.
Поднимайтесь! Покажите, что вся мощь ваших угнетателей не смогла убить мужество в наследниках героев, которые сделали бы честь Спарте и Риму.
Покажите, что два тысячелетия рабства не смогли удушить это мужество.
Поспешите! Настал час! Пришел момент, который не повторится, может быть, еще тысячу лет, – потребовать восстановления ваших гражданских прав, вашего места среди народов мира.
У вас будет право на политическое существование – как нации в ряду других наций. У вас будет право свободно славить имя Господа Бога вашего, как того требует ваша религия (книга пророка Иоиля, 4, 20)».
Декрет об учреждении национальных премий
Наполеон, император французов, и проч.
Имея намерение поощрять науки, словесность и художества, которые так много способствуют знаменитости и славе народов; желая, чтобы Франция как можно более отличилась на этом поприще и чтобы наставший век был для нее еще славнее прошедшего; желая также знать людей, которые наиболее будут способствовать процветанию наук, словесности и художеств; повелели и повелеваем следующее:
I. Через каждые десять лет, в день 18 брюмера, будут раздаваться собственной моей рукой большие премии; место церемонии и самый обряд ее совершения будут каждый раз предварительно назначены.
II. Все произведения по всем отраслям наук, словесности и художеств, все полезные новоизобретения, все заведения, клонящиеся к усовершенствованию земледелия и народной промышленности, все, совершенное в течение десятилетия за один год до раздачи премий, будет допущено к состязанию на их получение.
III. Первая раздача премий имеет быть 18 брюмера XVIII года, и, согласно с предыдущей статьей, все произведения, новоизобретения и заведения, начиная от 18 брюмера VII года до 18 брюмера XVII года, могут вступить в состязание.
IV. Эти большие премии будут одни в десять тысяч, другие – в пять тысяч франков.
V. Число больших премий в десять тысяч франков будет девять, и они назначаются:
1. Авторам двух лучших ученых сочинений, одного – по части наук физических, другого – по части наук математических;
2. Автору лучшей истории или исторического отрывка, как новых, так и древних времен;
3. Изобретателю машины, принесшей самую большую пользу художествам и мануфактурам;
4. Основателю заведения, наиболее полезного для земледелия и народной промышленности;
5. Автору лучшей из театральных пьес, комедии или трагедии, представляемых во французских театрах;
6. Двум артистам, которые произведут один – лучшую картину, другой – изваяние, взяв для своей работы сюжет из французской истории;
7. Композитору лучшей оперы из принятых на театр Императорской академии музыки.
VI. Число больших премий в пять тысяч франков будет тринадцать, и они назначаются:
1. Переводчикам десяти манускриптов из императорской или других библиотек, находящихся в Париже, писанных на древних или восточных языках, переводы которых будут признаны более полезными или для наук, или для истории, или для словесности, или для художеств;
2. Трем авторам небольших поэм на достопамятные события из отечественной истории или на случаи, делающие честь французскому народу.
VII. Премии эти будут назначаемы на основании донесений комиссии присяжных, составляемой из четырех непременных секретарей четырех отделений Академии наук и четырех президентов, занимавших эти места в год, предшествовавший раздаче премий.
Обращение к испанскому народу
Испанцы! Вы были вовлечены в заблуждение людьми коварными; эти люди вовлекли вас в борьбу безумную… В несколько месяцев вы успели уже испытать все бедствия влияния духа народных партий. Поражение ваших армий было делом немногих дней. Вот я в Мадриде: права войны дают мне право показать пример и омыть в крови оскорбления, нанесенные мне и моему народу; но я внял одному гласу милосердия… Я говорил вам, в моей прокламации от 2 июня, что желаю быть орудием вашего возрождения.
Вы захотели, чтобы я к правам, предоставленным мне принцами вашей последней династии, присоединил еще и право победы. Да будет так! Но это нисколько не изменяет моих начальных намерений. Я даже готов похвалить то, что было благородного в ваших усилиях, я готов допустить, что от вас скрывали ваши настоящие выгоды… Испанцы! Ваша судьба в собственных ваших руках. Не внимайте словам англичан… Я истребил все, что мешало вашему благу и величию; я дал вам конституцию. От вас зависит воспользоваться ею…
Но если все мои усилия будут тщетны; если вы не ответите мне доверием, то мне останется поступить с Испанией как с завоеванной областью, и возвести моего брата на трон другого народа. Тогда я возложу корону Испании на свою голову и сумею заставить уважать ее, потому что Бог дал мне и силу, и волю, нужные для преодоления всяких препятствий».
Однако же испанцы не сдались на слова императора французов и так же мало смотрели на его угрозы, как и на обещания.
Мадридский коррехидор во главе депутации от города явился принести победителю изъявление чувств, которых не было в душах народонаселения столицы; но занятие ее войсками Наполеона делало этот поступок необходимым. На речь коррехидора Наполеон отвечал:
«Жалею о вреде, нанесенном Мадриду, и считаю за особенное счастье, что мог его спасти от больших бедствий.
Я поспешил принять меры для успокоения всех сословий граждан, потому что знаю, как неизвестность будущности тягостна каждому народу и каждому человеку.
Я сохранил монашествующие ордена, но убавил число монашествующих лиц. Избытки упраздненных обителей я повелел обратить в доходы, получаемые сельскими священниками,
Я уничтожил также и инквизицию. Духовенству не принадлежит и неприлична светская власть над гражданами.
Я прекратил действие феодальных прав; теперь каждое частное лицо может заниматься всяким полезным промыслом.
Нет такого препятствия, которого я бы не был в состоянии преодолеть.
Нынешнее поколение, может статься, будет непостоянно в образе своих мыслей, потому что им руководствуют страсти; но ваши дети и дети детей ваших благословят мое имя как имя человека, возродившего их нацию; они внесут в список дней достопамятных дни моего между вами пребывания.
Прокламация к французскому народу
Французы! Я возведен на престол вашим выбором; все, что совершено без вас, противозаконно.
В изгнании услышал я ваши жалобы и желания; вы хотите избранного вами правления; вы обвиняли мое успокоение; вы упрекали, что я ради своего покоя жертвую благом отечества!
Я переплыл моря, невзирая на опасности; хочу вступить снова в права мои, основанные на ваших. Все сказанное, написанное или сделанное со взятия Парижа останется мне навсегда неизвестным и не будет иметь влияния на важные услуги, мне оказанные.
Фрагмент писем из заключения. август 1794 г.
…Вы отрешили меня от должности, арестовали и объявили человеком подозрительным.
Вы обесчестили меня без суда, или осудили, не выслушав.
В государстве во время революций бывает только два разряда людей: подозрительные и патриоты…
К которому разряду хотят причислить меня?
Не с самых ли первых дней революции я придерживался ее начал?
Не меня ли видели во всегдашней борьбе то с врагами внутренними, то, по званию воина, с врагами внешними?
Для республики оставил я мою родину, утратил достояние, потерял все.
Потом я не без отличия действовал под Тулоном и заслужил в бытность при итальянской армии часть лавров, пожатых ею при Саорджио, Онелья и Танаро…
При открытии Робеспьерова заговора я вел себя как человек, поступающий в духе правил.
Следовательно, нет возможности оспаривать у меня название патриота.
Что ж, не выслушав, объявляют меня подозрительным?
Патриот, невинный, оклеветанный, я все-таки не ропщу на меры, принятые против меня комитетом.
Если бы три человека объявили, что я сделал какое-нибудь преступление, я бы не мог роптать на приговор присяжных, осудивших меня.
Неужели же представители должны ставить правительство в необходимость поступать и несправедливо, и не согласно с видами политики?
Выслушайте меня; отстраните прижимки; возвратите мне уважение патриотов.
И тогда, через час, если злым людям нужна моя жизнь… пожалуй… я так мало дорожу ею, я так часто ею пренебрегал… Да! одна только мысль, что жизнь эта может еще быть полезна отечеству, дает мне твердость переносить ее.
Разве я с начала революции не держался ваших убеждений? Разве меня не видели в борьбе с внутренним врагом? Разве я не был солдатом, дерущимся с чужеземцами? Я пожертвовал пребыванием в моем департаменте, покинул мое добро и владения, все потерял ради республики. И меня вышвырнуть вместе с врагами отечества?
Патриоты безрассудно лишатся генерала, который был не бесполезен республике?.. Послушайте, снимите угнетающее меня бремя, возвратите мне уважение патриотов: и тогда я готов через час охотно отдать мою жизнь, если ее потребуют злые люди. Я так мало ценю ее и довольно часто пренебрегал ею. Только мысль, что я могу еще раз быть полезным отечеству, внушает мне мужество нести ее бремя.
Из писем Жозефине
Интересуют почести лишь потому, что ты ими интересуешься; стремлюсь к победе потому, что это тебя обрадует: иначе я покинул бы все, чтобы самому броситься к твоим ногам. Милый друг, будьте уверены и смело уверяйте других, что я люблю Вас превыше всякого воображения.
Знайте, что каждое мое мгновение посвящено Вам, что не бывает часа, когда бы я не думал о Вас; что мне никогда не случалось думать о другой женщине; что все они кажутся мне некрасивыми, неграциозными, лишенными остроумия. Вы, Вы одна, такая, какой вижу Вас мысленно, можете мне нравиться и поглотить все способности моей души, пучины которой Вы измерили. В моем сердце не осталось заглаженных складок, который не были бы раскрыты перед Вами.
Все мои мысли подчинены Вам; в Вас вся моя умственная и физическая энергия. Моя душа так связана с Вами, что тот день, когда Вы перестанете меня любить или когда жизнь Ваша прекратится, будет также днем моей смерти. Природа и вся земля облачены, в моих глазах, прелестью единственно лишь потому, что Вы здесь живете… Между любящими сердцами устанавливается как бы магнетическая связь.
Вам известно, что я не могу вынести даже и мысли о том, чтобы у Вас завелся любовник… Я верю в Вашу любовь и горжусь ею. Несчастья являются ведь только испытаниями, еще более увеличивающими силу взаимной нашей привязанности. Младенец, столь же милый, как и его мать, увидит свет в ваших объятиях!
Подумаешь, до чего доходит моя слабохарактерность! Я пожертвовал бы, кажется, всем за возможность увидеться с тобой хоть на один день! Тысячу раз целую Ваши глазки и губки. Восхитительная женщина! Каким могуществом ты обладаешь! Зная, что тебе нездоровится, я положительно чувствую себя больным. Впрочем, у меня действительно лихорадочный жар. Не задерживай у себя курьера больше 6 часов: отправь его тотчас же ко мне с драгоценным письмом от царицы моего сердца.
Ни одного дня не проходит, чтобы я не любил тебя. Ни одной ночи не проходит без того, чтобы я не сжимал тебя в своих объятиях. Я не выпил ни одной чашки чая без того, чтобы не проклясть славу и тщеславие, которые удерживают меня вдали от самой души моей жизни. Занимаюсь ли я делами, веду ли войска, объезжаю ли бивуаки, моя обожаемая Жозефина целиком заполняет мое сердце, мой разум, мою мысль. И если я удаляюсь от тебя с быстротой течения Роны, то это для того, чтобы как можно скорее вновь увидеть тебя. Если посреди ночи я поднимаюсь, чтобы сесть за работу, то только для того, чтобы на несколько дней приблизить встречу с любимой.
Люби меня, как свои глаза. Нет, этого мало. Как саму себя. Больше, чем саму себя, чем свою мысль, свой дух, свою жизнь, свое все… Я ложусь без тебя. Я буду спать без тебя. Прошу тебя, дай мне уснуть. Вот уже несколько дней я сжимаю тебя в своих объятиях.
Из письма вдове адмирала Брюэйса
Ваш муж был убит попаданием ядра, сражаясь на борту своего корабля. Он умер без страданий, самой щадящей и самой желаемой всеми военными смертью. Я остро чувствую Ваше горе. Мгновение, разделяющее нас с предметом нашей любви, ужасно; оно отрывает нас от земли; оно насылает на наше тело конвульсии агонии. Свойства души разрушаются: она остается связанной с внешним миром лишь через ощущение искажающего реальность кошмара.
В такой ситуации чувствуешь, что гораздо лучше было бы умереть, если ничто не заставляет жить. Но когда, поддавшись было этой первой мысли, прижмешь к сердцу детей, со слезами и нежностью возрождается естество… Да, мадам, Вы будете плакать вместе с ними, Вы будете воспитывать их в детстве, обучать в юности; Вы будете рассказывать им об их отце, о Вашем горе, о потере, которую они понесли, о потере, которую понесла Республика.
И после того, как с помощью сыновней и материнской любви Вы вновь восстановите связь между Вашей душой и окружающим миром, не побрезгуйте дружбой и живым интересом, какой я всегда буду испытывать к родным моего погибшего друга. Поверьте, есть люди, хотя их и немного, способные внушать надежду в горе, ибо они горячо ощущают страдания души.
Из письма королю Великобритании
Призванный на престол Промыслом и желаниями сената, народа и войска, я ставлю себе целью стремиться к заключению мира. Франция и Англия истрачивают свое благоденствие и могут продолжать войну целые века. Но правительства этих государств стремятся ли к достижению священнейшей цели? И бесполезное излияние такого множества крови не лежит ли укором на собственной их совести?
Я не вижу никакого бесчестия в том, что первый делаю шаг к примирению; я, кажется, довольно доказал перед лицом всего света, что не боюсь никаких случайностей войны; да и притом мое положение таково, что мне нечего и опасаться их. Мир составляет искреннее желание моего сердца, но и счастье войны никогда не было против меня…
Клятва, произнесенная на церемонии коронации 2 декабря 1804 г.
Я клянусь сохранять в неприкосновенности территориальную целостность Республики, соблюдать и следить за соблюдением статей Конкордата и закона о свободе вероисповедания, соблюдать и следить за соблюдением принципов равноправия, политических и гражданских свобод, неотменяемости распродажи национального имущества, не повышать налогов и не вводить не предусмотренных законом пошлин, способствовать деятельности ордена Почетного легиона, править исключительно во имя интересов, счастья и славы французского народа.
Тронная речь
Я восхожу на трон, на который призван единодушным желанием Сената, народа и воинов, с сердцем, исполненным предчувствия о великих судьбах французской нации, которую я первый назвал великою.
С самого моего детства все мои мысли были посвящены ей; и я должен сказать, что все теперешние мои радости или печали зависят от счастья и несчастья моего народа.
Потомки мои сохранят этот трон, первый в целом свете.
В военных станах они явятся первыми солдатами армии и не будут щадить своей жизни для блага отечества.
На поприще гражданской службы они никогда не забудут, что презрение к законам и потрясение общественных учреждений есть не что иное, как проявление слабости и недомыслия правительственных лиц.
Вы, сенаторы, в которых я всегда и постоянно находил и советников, и опору в самых затруднительных обстоятельствах, вы передадите свой дух вашим преемникам; будьте всегда первыми советниками и опорою этого трона, столь необходимого для счастья нашей пространной империи.
Из обращения к народу
Законодательный корпус стоит на страже общественного достояния. Его задача – принятие законов. Если ему вдруг заблагорассудится воспрепятствовать принятию второстепенных законов, я не стану ему противиться. Но если в его среде образуется оппозиция, готовая помешать деятельности правительства, я обращусь к Сенату, воспользовавшись всеми своими правами, а в случае необходимости прибегну к поддержке народа, возвышающегося над этой пирамидой власти.
Из выступления в Государственном Совете о правах детей и об усыновлении
Захотите ли вы, чтобы отец имел право выгнать из дому свою пятнадцатилетнюю дочь? Или отец, получающий шестьдесят тысяч франков годового дохода, имел бы, значит, право cказать своему сыну: ты здоров и силен, ступай пахать! Богатый или состоятельный отец всегда обязан дать кусок хлеба своим детям. Уничтожьте это право – и вы заставите детей поднять руку на своих отцов.
Что касается усыновления, вы смотрите на это, как законодатели, а не как государственные люди. Это отнюдь не гражданский договор и не юридический акт. Анализ (юриста) дает самые плачевные результаты. Направлять человека можно, только действуя на его воображение. Без воображения, это – животное.
Разумеется, не из-за пяти копеек в сутки и не ради каких-то несчастных отличий люди идут на смерть; только обращаясь к душе человека, можно его наэлектризовывать. И уже, конечно, не нотариус добьется этого результата, а те двенадцать франков, которые он получит в вознаграждение. Нужен совершенно иной путь; здесь необходим акт законодательный. Что такое усыновление?
Подражание, которым общество хочет подделать саму природу. Это – своего рода таинство. Дети одной плоти и крови волею общества приобщаются к другой плоти и крови. Это величайший акт, какой только способно создать воображение. Он дарит и сыновние и ответные отцовские чувства тем, кто был их лишен. Откуда же должен исходить такой акт? С высот, как молния.
Из выступления в Законодательном собрании
История показала мне меры, которые я должен был принять в отношении к Риму. Папы, сделавшись властителями части Италии, постоянно показывали себя неприязненными каждой власти, сильнейшей, чем их власть, на пространстве итальянского полуострова, и употребляли к ее вреду свое духовное влияние.
Из этого я удостоверился, что духовное влияние постороннего человека на мои владения противно независимости Франции, не согласно с достоинством и безопасностью моего престола. Признавая, однако же, необходимость духовного влияния преемников первого из пастырей, я не мог согласовать этих важных вопросов иначе, как уничтожением прав и светской власти, предоставленных им французскими императорами, моими предшественниками, и потому присоединил к Франции Римскую область.
Речь в тронном зале в связи с разводом с Жозефиной
Я призвал вас, чтобы объявить о намерении, на которое я и Императрица, любезнейшая моя супруга, решились. Польза и благо моих народов требуют, чтобы я оставил по себе детей, наследников престола, на который возвело меня Провидение. Уже несколько лет тому, как потерял я надежду иметь их от супружества с Жозефиною.
Нахожусь принужденным пожертвовать нежнейшею склонностью моего сердца и пожелать уничтожения брака. При сем случае я обязан объявить, что не имею ни малейшей причины к неудовольствию, напротив, весьма благодарен за привязанность моей супруги; она украшала пятнадцать лет жизни моей; воспоминание об этом навсегда запечатлеется в моем сердце; она была коронована мною. И потому хочу, чтобы она сохраняла достоинство и титул Императрицы.
Из беседы с Франческо Мельци
Не думаете ли вы, что я ради возвышения адвокатов Директории, разных Карно и Баррасов, хлопочу и одерживаю победы в Италии! Или, может быть, для того, чтобы основать республику? Что за мысль! Республика с тридцатью миллионами населения! С нашими-то нравами, с нашими пороками! Да разве это возможно? Это одна из тех фантазий, которыми захлебываются французы и которая испарится так же быстро, как и остальные.
Им нужна слава, удовлетворение тщеславия, а в свободе они ровно ничего не смыслят. Наши последние победы, наши успехи уже показали, что такое французский солдат. Я для него все. Пусть Директория попробует лишить меня командования, – она увидит, кто здесь хозяин. Народу нужен вождь, и вождь прославленный, а не государственные теории, фразы и разглагольствования идеологов, в которых французы ничего не смыслят…
Что касается вашей страны, то в ней еще меньше республиканского элемента и церемониться с ней нужно меньше, чем где бы то ни было… Впрочем, я отнюдь не намерен так скоро покончить с Австрией. Мир вовсе не в моих интересах. Вы сами видите, что я такое в Италии и чем могу еще быть.
Если мир будет заключен, если я не буду стоять во главе этой армии, с которой так тесно связан, я должен буду отказаться от власти, от того высокого положения, которого добился; отказаться для того, чтобы отправиться в Люксембург и увиваться там вокруг адвокатов! Если бы я и оставил Италию, то для того только, чтобы играть во Франции такую же роль, как и здесь, но момент еще не пришел; плод не созрел.
Есть одна партия, которая подымается за Бурбонов. Я не имею ни малейшего желания содействовать ее успеху. В будущем я собираюсь непременно ослабить республиканскую партию, но я сделаю это в свою пользу, а не ради старой династии. А пока что приходится идти с республиканцами.
Одно только может отвратить контрреволюцию. Покуда я жив, бояться нечего; но после моей смерти всякий, кого бы ни избрал народ, будет не в состоянии держать бразды правления… Франция многим обязана своим двадцати дивизионным генералам; но ни один из них не может быть главнокомандующим армией, а и того менее – стать во главе правительства.
Утверждение за моим родом права престолонаследия я предоставляю на рассмотрение французского народа. Надеюсь, что Франция никогда не будет раскаиваться в том, что осыплет мое семейство почестями. Во всяком случае, пусть знают, что мой дух перестанет почивать на моих потомках, как скоро они перестанут заслуживать любовь и доверенность французского народа.
Французская империя станет матерью всех остальных государств. Я хочу заставить всех европейских государей построить для себя в Париже по грандиозному дворцу; ко дню коронации французского императора все государи переселятся туда; своим присутствием и выражением почтительных чувств они украсят эту торжественную церемонию.
Беседы с мадам де Ремюза
Все имеют свои воспоминания, видели другие времена. Я же я считаю с того времени, когда начал становиться чем-то. Что такое герцог Энгиенский для меня? Эмигрант более важный, чем другие, вот все, и этого достаточно для того, чтобы нанести более решительный удар. Разве эти сумасшедшие роялисты не распространили слуха, будто я хочу восстановить Бурбонов на троне.
Якобинцы испугались, Фуше явился однажды спросить от их имени, каковы были мои намерения. Власть так естественно сосредоточивалась в течение двух лет в моих руках, что иногда могли сомневаться в том, не желаю ли я ее принять официально. В свою очередь, я думал, что моя задача состояла в том, чтобы воспользоваться ею для законного завершения революции. Вот почему я предпочел империю диктатуре, потому что ставишь себя на законную почву, когда эта почва знакома.
Я начал с того, что хотел примирить обе партии, которые находились в борьбе при моем вступлении в консульство. Мне казалось, что, утверждая порядок постоянными учреждениями, я отвращу их от фантазии производить всякие предприятия. Но партии не теряют надежды до тех пор, пока их боятся, а кажется, что их боятся до тех пор, пока стараются их примирить. Притом можно победить известные чувства, но никогда – мнения.
Я понял, что я не мог устроить союза между ними, но мог устроить союз с ними сам для себя. Конкордат, возвращения сблизили меня с эмигрантами, а теперь это совершится окончательно, так как вы увидите, как их увлечет жизнь двора. Языком, напоминающим старые привычки, можно привлечь дворянство; но с якобинцами нужны поступки. Это не такие люди, которых можно взять словами. Моя необходимая строгость удовлетворила их.
Со времени 3-го нивоза, в момент, кстати, вполне роялистического заговора, я сослал довольно большое число якобинцев; они имели бы право жаловаться, если бы я на этот раз не покарал так же сильно. Все вы подумали, что я сделаюсь жестоким, кровожадным, но вы ошиблись. У меня нет ненависти, я не способен ничего сделать из мести; я устраняю то, что мешает, и вы можете завтра увидеть, что, если нужно, я прощу самого Жоржа, который явился действительно, чтобы меня любить.
Когда увидят, что успокоение последует за этим событием, мне больше не поставят его в вину, а через год эту смерть будут находить великим политическим актом. Но правда то, что она заставила сократить кризис; то, что я совершил, не входило в мои планы еще два года тому назад.
Я рассчитывал сохранить консульство, хотя при этой форме правления слова не гармонировали с сущностью вещей, и те подписи, которые я ставил под всеми актами, зависящими от моей власти, были настоящими росчерками постоянной лжи. Однако мы, Франция и я, еще долго шли бы этим путем, потому что Франция стала доверять мне и хотела всего того, чего хотел я, но этот заговор имел целью поднять Европу; надо было поэтому разубедить Европу и роялистов.
Я должен быть выбрать между частичными преследованиями или одним ударом; не могло быть сомнения в моем выборе. Я предписал молчание и роялистами и якобинцам. Остаются республиканцы, эти мечтатели, которые думают, что можно создать республику из старой монархии, и что Европа спокойно предоставит установить федеративное управление из 20 миллионов человек. Этих последних я не могу победить, но их немного, и они не влиятельны.
Вы, остальные французы, любите монархию. Это единственное правительство, которое вам нравится. Держу пари, что все в сто раз себя приятнее чувствуют с тех пор как называют меня ваше величество, и я называю каждого господин. Мне кажется, что я очень плохо бы повиновался. Я вспоминаю, что во время трактата Кампоформио мы собрались, Кобенцль и я, чтобы заключить его окончательно в зале, где по австрийскому обычаю воздвигли балдахин и стоял трон императора австрийского.
Когда я вошел в эту комнату, я спросил, что это значит, а потом сказал австрийскому министру: «Послушайте, раньше чем начинать, велите сиять это кресло, так как я никогда не могу спокойно видеть кресла более высокого, чем остальные, чтобы у меня не явилось желания сесть на него». Вы видите, что у меня уже был инстинкт того, что должно было со мной впоследствии случиться.
В настоящее время я достиг большого умения управлять Францией; это потому, что ни я, ни она не обманываемся. Талейран хотел, чтоб я сделался королем; это слово из его словаря. Ему казалось, что он тотчас же сделался бы знатным вельможей при короле; но я желаю только таких знатных вельмож, каких сделаю сам.
Кроме того, титул короля изношен; он несет в себе готовую идею; он сделал бы из меня нечто в роде наследника; я не желаю быть ничьим наследником. Титул, который я ношу, более велик. Он еще несколько неопределенен, он служит воображению. Теперь революция закончена, и притом тихо, и я горжусь этим. И знаете ли почему? Она не переместила ничьих интересов, но пробудила многие. Всегда нужно держать ваше тщеславие в напряжении; строгость республиканского правительства надоела бы вам до смерти.
Что создало революцию? – Тщеславие. Что завершит ее? Опять тщеславие. Свобода только предлог. Равенство – вот ваша страсть, и вот народ доволен иметь королем человека, изъятого из рядов солдат. Люди вроде аббата Сийеса, могли бы закричать: это деспотизм! Но моя власть останется всегда популярной. Теперь народ и армия за меня; был бы очень глуп тот, кто бы не сумел с этим править.
О Шарле Пишегрю, Жане Моро и герцоге Энгиенском
В этот период моей столь богатой событиями жизни мне удалось снова водворить порядок и спокойствие в государстве, залитом кровью и потрясенном борьбой партий до самого основания. Волею великого народа я стал во главе его. Заметьте, я достиг трона не так, как ваш Кромвель или Ричард III.
Ничего похожего: я нашел корону в сточной канаве, вытер грязь, которою она была покрыта, и надел ее себе на голову. Моя жизнь была необходима для сохранения столь недавно восстановленного порядка, который я – те, кто во Франции возглавлял общественное мнение, это признали, – столь успешно укрепил. В эту пору мне каждый вечер представляли доклады, в которых сообщалось, что против меня замышляется заговор, что в Париже в частных домах происходят совещания.
И, однако, никак не удавалось добыть достаточные тому доказательства. Все старания неутомимой полиции ни к чему не приводили. Мои министры так далеко зашли, что стали подозревать генерала Моро. Они неоднократно убеждали меня подписать приказ об его аресте; но этот генерал в то времена пользовался во Франции такой славой, что, казалось мне, участие в заговоре против меня могло лишить его всего и ничего не могло ему дать.
Я отказался подписать приказ о его аресте; я сказал министру полиции: «Вы назвали мне Пишегрю, Жоржа и Моро; представьте мне доказательства, что первый из них находится в Париже – и я немедленно велю арестовать третьего». Заговор был раскрыт благодаря одному необыкновенному обстоятельству. Однажды ночью я испытывал какую-то тревогу и не мог заснуть; я встал с постели и начал просматривать список заговорщиков.
Случаю который, в конечном итоге управляет миром, угодно было, чтобы мой взгляд остановился на имени одного полкового лекаря, совсем недавно вернувшегося из Англии, где он содержался в заключении. Возраст этого человека, его воспитание, жизненный опыт, которым он обладал, – все это навело меня на мысль, что его поведение объясняется причинами, ничего общего не имеющими с юношеским преклонением перед Бурбонами.
Насколько обстоятельства позволяли мне судить о нем, целью его действий должны были быть деньги. Этого человека арестовали. Он был предан суду, где заседали переодетые судьями полицейские агенты; они приговорили его к смертной казни, и ему было объявлено, что приговор будет приведен в исполнение через шесть часов. Эта хитрость имела успех: он сознался.
Было известно, что у Пишегрю в Париже есть брат, старик-монах, живущий весьма уединенно. Монах этот был арестован. В ту минуту, когда жандармы его уводили, у него вырвалась жалоба, наконец открывшая мне то, что мне так важно было узнать: «Вот как со мной обращаются из-за того, что я дал приют родному брату!»
Первое донесение о том, что Пишегрю прибыл в Париж, исходило от полицейского шпиона, который сообщил подслушанную им любопытную беседу, происходившую в частном доме, расположенном на одном из бульваров, между Моро, Пишегрю и Жоржем Кадудалем. Во время этой беседы было решено, что Жорж покончит с Бонапартом, Моро будет первым консулом, а Пишегрю – вторым.
Жорж настаивал на том, чтобы третьим консулом назначили его, на что оба других возразили, что, поскольку он известен как роялист, всякая попытка включить его в состав правительства погубит их всех в общественном мнении. Тогда вспыльчивый Жорж вскричал: «Уж если стараться не ради себя, так я за Бурбонов! А если не ради них и не ради себя, а для того, чтобы заменить одних синих другими, так уж пусть будет лучше Бонапарт, чем вы!» Когда Моро был арестован и подвергнут допросу, он вначале отвечал свысока; но когда ему представили запись этой беседы, он упал в обморок.
Целью заговора, – продолжал Наполеон, – была моя гибель и если б его не раскрыли, он удался бы. Этот заговор исходил из столицы вашего государства. Во главе его стоял граф Ангумуа. Он послал на Запад герцога Бургундского, а на Восток – герцога Энгиенского. Ваши корабли перебрасывали на берега Франции менее видных участников заговора. Момент мог оказаться для меня роковым; я почувствовал, что мой трон зашатался. Я решил удар, который Бармакиды предназначали мне, обратить против них, будь это даже в самой метрополии Британской империи.
Министры настаивали на том, чтобы я приказал арестовать герцога Энгиенского, хотя он и проживал на нейтральной территории. Я все же колебался. Князь Беневентский дважды подносил мне приказ и со всей энергией, на какую он способен, уговаривал меня подписать его. Я был окружен убийцами, которых не мог обнаружить. Я уступил только тогда, когда убедился, что это необходимо.
Я легко мог уладить это дело с герцогом Баденским. Чего ради должен я был терпеть, чтобы лицо, проживающее на границе моей империи, могло беспрепятственно совершить преступление, которое, на одну милю ближе ко мне, привело бы его на эшафот? Разве не применил я в этом деле тот самый принцип, который осуществляло ваше правительство, когда оно приказало захватить датский флот? Мне все уши прожужжали уверениями, что новая династия не сможет упрочиться, пока останется хоть один Бурбон. Талейран неизменно придерживался этого принципа, который являлся основой, краеугольным камнем его политических убеждений.
Я внимательнейшим образом обдумал этот вопрос, и в результате моих размышлений полностью присоединился к мнению Талейрана. Мое законное право на самозащиту, справедливая забота о спокойствии общества заставили меня принять решительные меры против герцога Энгиенского. Я приказал его арестовать и назначить над ним суд. Он был приговорен к смертной казни – и расстрелян; совершенно так же с ним поступили бы, даже если б он был самим Людовиком IX. Из Лондона ко мне подослали убийц во главе с графом Ангумуа. Разве не все средства против убийства являются законными?
(Запись Уордена, английского врача на острове Святой Елены)
Устное распоряжение Наполеона Бонапарта, сделанное своему врачу за шесть дней до смерти
После моей смерти, ждать которой осталось недолго, я хочу, чтобы вы произвели вскрытие моего тела… Я хочу также, чтобы вы вынули мое сердце, поместили его в бокал с винным спиртом и отвезли в Парму моей дорогой Марии Луизе… Особенно рекомендую вам внимательно исследовать мой желудок и изложить результаты в точном и подробном отчете, который вы вручите моему сыну… Я прошу, я обязываю вас со всей тщательностью провести такое исследование… Я оставляю в наследство всем царствующим домам ужас и позор последних дней моей жизни.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Наполеон в воспоминаниях современников
Среди лиц, поставленных в положение, независимое от этого необыкновенного человека, найдется немного таких, кто, как я, имел бы столько точек соприкосновения и столько непосредственных сношений с ним.
Мнение мое о Наполеоне не изменялось в различные периоды этих отношений. Я видел его и изучал в моменты наибольшего блеска его; я видел его и наблюдал в моменты упадка; и если он и пытался ввести меня в заблуждение, в чем он порою был очень сильно заинтересован, то это ему никогда не удавалось.
Я могу поэтому надеяться, что я схватил самые существенные черты его характера и составил о нем беспристрастное мнение, тогда как большинство современников до сих пор видело лишь сквозь призму как блестящие, так и мрачные, отрицательные стороны этого человека, которого сила вещей в соединении с выдающимися личными качествами вознесла на вершину могущества, беспримерного в новейшей истории.
Проявлявший редкую прозорливость и неутомимую настойчивость в использовании того, что полвека событий, казалось, подготовляли для него, руководимый духом власти действенным и дальновидным в равной мере; ловко улавливавший в обстоятельствах момента все, что могло служить его честолюбию; умевший с замечательной ловкостью извлекать для себя выгоды из ошибок и слабостей других, Бонапарт остался один на поле брани, которое в течение десяти лет оспаривали друг у друга слепые страсти и партии, охваченные кровожадною ненавистью и исступлением.
С тех пор как он в конце концов конфисковал в свою пользу всю Революцию, он стал казаться лишь тем единственным пунктом, на котором должны сосредоточиться все взоры наблюдателя, и мое назначение на пост посланника во Францию поставило меня в этом отношении в исключительно выгодные условия, которыми я и не преминул воспользоваться.
Наше мнение о человеке часто складывается под влиянием первого впечатления. Я ни разу не видел Наполеона до аудиенции, которая дана была мне в Сен-Клу для вручения моих верительных грамот. Он принял меня, стоя посреди одной из зал в обществе министра иностранных дел и еще шести лиц его двора.
Он был в пехотном гвардейском мундире и в шляпе. Это последнее обстоятельство, неуместное во всех отношениях, ибо аудиенция не была публичной, неприятно поразило меня: в этом видны были чрезмерные претензии и чувствовался выскочка; я даже колебался некоторое время, не надеть ли и мне шляпу. Я начал, однако, небольшую речь, точный и сжатый текст которой резко отличал ее от речей, ставших обычными при новом французском дворе.
Его манера держать себя, казалось, обнаруживала неловкость и даже смущение. Его приземистая и квадратная фигура, небрежный вид и в то же время заметное старание придать себе внушительность, окончательно убили во мне ощущение величия, которое естественно соединялось с представлением о человеке, заставлявшем трепетать весь мир.
Это впечатление никогда не изгладилось вполне из моего ума; оно сопутствовало самым важным свиданиям, какие я имел с Наполеоном в различные эпохи его жизни. Возможно, что оно помогло мне разглядеть этого человека таким, каким он был, сквозь все маски, в которые он умел рядиться. В его вспышках, в его приступах гнева, неожиданных репликах я приучился видеть заранее приготовленные сцены, разученные и рассчитанные на эффект, который он желал произвести на собеседника.
Что больше всего поразило меня в моих сношениях с Наполеоном – сношениях, которые я с самого начала постарался сделать более частыми и конфиденциальными, – так это необыкновенная проницательность ума и великая простота в ходе его мысли. В разговоре с ним я всегда находил очарование, трудно поддающееся определению.
Подходя к предмету, он схватывал в нем самое существенное, отбрасывал ненужные мелочи, развивал и отделывал свою мысль до тех пор, пока она не становилась совершенно ясной и убедительной, всегда находил подходящее слово или изобретал его там, где еще его не создал язык; благодаря этому беседы с ним всегда глубоко интересны.
Он не беседовал, но говорил; благодаря богатству идей и легкости в их выражении он умел ловко овладевать разговором, и один из обычных оборотов речи был следующий: «Я вижу, – говорил он вам, – чего вы хотите; вы желаете прийти к такой-то цели; итак, приступим прямо к вопросу».
Он выслушивал, однако, замечания и возражения, которые ему делали; он их принимал, обсуждал или отвергал, никогда не нарушая тона и характера чисто делового разговора, а я никогда не испытывал ни малейшего смущения, говоря ему то, что считал истиной, даже тогда, когда последняя не могла ему понравиться.
Подобно тому, как в представлениях его все было ясно и точно, точно так же не знал он ни трудностей, ни колебаний, когда приходилось действовать. Усвоенные правила его нисколько ни смущали.
В действии, как и в рассуждениях, он шел прямо к цели, не останавливаясь на соображениях, которые считал второстепенными и которыми он, быть может, слишком часто пренебрегал. Прямая линия, ведущая к задуманной цели, была той, которую он выбирал по преимуществу и которой шел до конца, если что-либо не заставляло его сойти с нее; но точно так же, не будучи рабом своих планов, он умел отказываться от них или видоизменять их в тот момент, как изменялась его цель, или когда новые комбинации представляли возможность достигнуть ее другими, более верными путями.
Он не обладал большими научными познаниями. Его приверженцы особенно усердно поддерживали мнение, что он был глубоким математиком. Но то, что он знал в области математических наук, не возвышало его над уровнем любого офицера, получившего, как он, подготовку к артиллерийской службе; но его природные дарования восполняли недостаток знания.
Он стал администратором и законодателем, как и великим полководцем, в силу одного лишь инстинкта. Склад его ума всегда толкал его к положительному; он отвергал идеи неопределенные; грезы мечтателей и отвлеченные схемы идеологов в одинаковой мере отталкивали его, и он смотрел, как на пустую болтовню, на все то, что не приводило к ясным выводам и осязательным результатам.
Он, в сущности, признавал научную ценность лишь за теми знаниями, которые можно контролировать и проверять на практике путем чувств, которые основаны на опыте и наблюдениях. Он выказывал глубокое презрение к ложной философии и ложной филантропии восемнадцатого века. Из корифеев этих учений в особенности Вольтер был предметом его ненависти, и в этой ненависти он доходил до того, что оспаривал даже по всякому поводу общепризнанный взгляд на литературные заслуги Вольтера.
Наполеон не был нерелигиозным в обычном смысле этого слова. Он не допускал, чтобы мог существовать искренний и убежденный атеист; он осуждал деизм как плод необоснованного умозрения. Христианин и католик, он лишь за положительной религией признавал право управлять человеческими обществами.
В христианстве он видел основу всякой истинной цивилизации, в католицизме – культ наиболее благоприятный для поддержания устоев нравственности, в протестантизме – источник смуты и раздоров. Не соблюдая церковных обрядов в отношении к себе самому, он, однако, слишком уважал последние, чтобы позволить себе насмешки над теми, кто придерживался их. Возможно, что его отношение к религии являлось не делом чувства, а результатом дальновидной политики, но это – тайна его души, которой он никогда не выдавал. Что касается его мнения о людях, то они сводились к идее, которая, к несчастью для него, приобрела в его уме значение аксиомы.
Он был убежден, что ни один человек, призванный действовать на арене общественной жизни или просто преследующий какие-нибудь цели в практической жизни, не руководствуется и не может руководствоваться какими-либо мотивами, кроме личного интереса. Он не отрицал ни доблести, ни чести, но он утверждал, что ни первое, ни второе чувство ни в ком не служат главной движущей силой, за исключением лишь тех, кого он называл мечтателями и кого в качестве таковых считал совершенно неспособными к успешной работе в общественных делах.
Я много и часто спорил с ним по поводу этого правила его, против которого восставало мое внутреннее убеждение, и ложность которого – по крайней мере в том объеме, в каком он его применял, – я пытался ему доказать. Мне ни разу не удалось поколебать его на этом пункте.
Он обладал особенно тонким чутьем в распознавании людей, которые могли быть ему полезны. Он быстро открывал в них ту сторону, с которой нужно было подойти, чтобы извлечь наибольшую выгоду. В то же время он старался связать их со своей личной судьбой, компрометируя их настолько, что для них невозможно уже было отойти от него и создать себе другое положение: таким образом, в личном расчете он видел залог преданности ему.
Лучше всего он изучил национальный характер французов, и история его жизни показала, что он хорошо понял этот характер. В частности, на парижан он смотрел как на детей, и он часто сравнивал Париж с большой оперой. Когда однажды я упрекнул его в явных измышлениях, которыми изобиловали его бюллетени, он ответил мне смеясь: «Ведь не для вас я их писал; парижане всему верят, и я мог бы рассказать им еще много другого, во что они не отказались бы поверить».
Ему нередко случалось во время разговора пускаться в рассуждения на исторические темы. Эти рассуждения обнаруживали в нем недостаточное знание фактов, но необычайную прозорливость в оценке причин и в предвидении последствий. Он таким образом больше угадывал, чем знал, и хотя события и людей он окрашивал в свой собственный цвет, он находил для них остроумные объяснения.