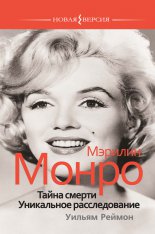Жених и невеста Ганиева Алиса

Сильный плач заколыхал тяжёлое тело.
Не стерпела я, не удержала слезу… Реву, а сама кулаки в рот, чтоб голос мой не сказал отцу, где я.
Из-под стрехи вижу: подбёг сам к мамушке, взялза плечи, ведёт к дому. У порожка подставил под неё стулку.
– И чего, – говорит, – убиваться его так?
– Ой, Миш, ну-у… – Мамушка залилась ещё горше того.
Сверкнул отец шалыми глазищами.
– Ну вой, вой! Я ль запрет кладу? Вой! Всё какой никакой наваришко. Баба плачет – меньше ссыт!
Как-то разом мамушка срезала силы в голосе. Потишала.
– Э-эх, – укорно качает головой. – Какой ты, Миш, был на язык бандит, так такой и закаржавел.
Только тут мамушка разжала глаза от слёз – разглядела, что за штука бугрилась у отца на руке.
– Это чего будет? – шлёт вопрос. А сама не без страха пальцем на вожжи кажет.
– Свадебное подношение прынцессе твоей!
– И-и! Чего, старый горшок, удумал. У нас в роду никто ребятёнков и пальцем не трагивал!
– А я вот возьму и пальцем трону, и вожжой так нагладю глянец – запомнит до снега в волосьях! А то мы с ей, понимашь, панькались. А она, цаца, эвона каки шишки стругая!
Вбежав в избу, отец вышвырнул на крыльцо подвенечную одёжку, к чему заступница моя мамушка не показала даже и любопытства.
– Вишь, как маленька собачка лая. От большой слышит! Всё твоя школка!
– Где моя, там и твоя.
– Да-а… Шишки свои делить со мной на ровнях тебя не учи. Что матке, что дочке пальца в рот не занашивай. По локоток отхватят! С родителева хлеба такую дочунюшку спроста не скинешь долой.
– Оно, Михайло, не грех какой год и обождать…
– А чего манежить? Ну чего? Тя когда ссадили на мой кусок?
– Так то меня.
– Ну и она не медалька на шее. Не долго думала, да скоро спровадила какого…
– Вот именно какого. Про него и слово путное не живёт, – уже твёрже как-то сказала мамушка. – А что при капиталах… Оно и через золото слезы льются!
_– Ты-то что коготки выпускаешь? Видал, с кашей нас не съешь! А я так скажу… Муженёк хоть с кулачок всего, да за мужниной за головой всё затишок… Не спущу ей этот выбрык. Вожжи в ниточку исхожу!
Я себе и сейчас не скажу, как это насмелилась я откинуть люк.
Спустилась в сенцы. Подошла к открытому окну.
– Ну видала ты эту лихостную небожительку? – опешил от нежданного моего появления отец и спрашивает мамушку: – Ну какую ты кару ей дашь? Га?
– Отец… Да… Ну… – тише воды, невсклад, что твоя борозда бороздит, еле спихнула я с языка крайние слова. – Отец…
Я не знала, как и говорить, но говорить надо было. Я повторила:
– Отец…
И прислушалась к своему голосу.
Кажется, силы, решимости в голосе набавилось.
– Отец, я сама себе… кару подобрала… Хотите – верните его… Я пойду… Только не бранитесь… Что ж вы стоите?
– Она ещё указы будет мне указывать! – без давешней свирепости громыхнул отец, с чего я взяла, что со своим стыдным венчаньем подался он на попятный дворок и что одно пустое самолюбие велит ему вздорным шумом прикрывать отход. – Надо – беги да ворочай сама того увечного копеешника. А мне с им не вступать в закон!
5
И крута гора, да забывчива,
и лиха беда, да избывчива.
Года ещё с четыре была я одна, как верста в поле.
Правда, парни не на каждом ли углу распускали передо мной перья. Только давала я всякому скорый отлуп: никого мне и на дух не надо.
Какой ни подойди – во всяком мерещился прасольщик и всё тут, хоть ты что…
Времечко отмягчило душеньку мою.
Подросли и мои деньки красные.
Вот скажи кто загодя, что поведусь я с Валеркой Соколовым, – я б тому голову оторвала и в глаза бросила б…
Полюбить можно стороннего кого, рядили у нас в Острянке меж собой девки, а кто ж любит соседа? Ну какой интерес? Всё ж про человека знаешь с той самой поры, как знаешь и себя…
Валера был ровня мне годами.
Росли мы друг у дружки на видах. И что в особенность, до последней поры я и голоса его толком не знала: Валера всегда молчал, как кол в плетне.
Что ни вечер Валера засылал поверх плетня к нам на подворье голодные глаза свои. Ждал-выжидал меня.
Отец был как-то в добром духе, завидел его и со словами ко мне:
– Смотри, явление первое: те же и Валерьян с балалайкой, – и засмеялся, картинно тронул стрелку вислого уса. – Только каким вот будет явление второе?
– Поживёте – увидите…
– Эт что ж он ищет-то у нас?
– Зашедшее солнушко.
– А ты куда сбираешься?
– Тож искать зашедшее солнце.
– Ой, девка, смотри-и, как ба я вам все двадцать четыре света не показал в одном окне… Не бывало ещё такого, что и коза сыта, и сено цело. Сама знаешь, не люблю я в кулак шептать. Если что, мигом протру ему глаза. Я с этим молчуном жив не расстанусь!
– Напугал коня овсом! Да мы с тобой и подавно не сбираемся расставаться.
– Ты на что намёк кладшь? Иль налаживаешься за него?
– А какая станет ходить впросто так?
– Ну-у, решай сама. Я теперя в твоем деле – сторона.
– Не думай. Всё будет в лад. И комар носа не подденет.
Вся-то я – птицы ком, лечу к Валере. А мамушка не в час и останови.
– Где ж ты, девонька, со стыдом со своим разминулась?! Что ж ты так несшься к милости к своей – на вожжах не удержишь!? Иль у тя голова клочьями набита, что так в открытую льнешь к нему, как шелкова ленточка к стене?
– А в закрытую я не умею! Потом, потом, ма… И про стыд, и про ленточку!
В спину, вдогон мне, шлёт мамушка вздох:
– Побежала… и горюшка мало… Только и воску в свечке, что Валеpкa…
Как пуля из ствола, вылетела я из калитки.
Побрались за руки да и под потёмочками за дома, за огороды – в лесок в Остренький наш.
А что темнёшеньки вечера в лесу…
А что горячи поцелуи милого…
А что злой хмель-яд лился с жарких губ…
6
Либо петля надвое, либо шея прочь.
Весна несла по реке блинчатый лёд, вела к нам из заморья птичьи тучи.
У весны свои хлопоты, у нас свои.
Да такие, что духом и не скажешь. Носила я уже под сердцем живой подарочек дней наших красных…
Раз стирала я с мамушкой.
Мамушка всё у корыта бьётся, а я никак в самую в стирку не войду. Нетушки моих сил и всё, ровно у меня руки отболели, как у ленивки.
Подам то одно, то отнесу другое, то кину-развешу что…
Развешиваю бельё в саду на верёвке, развешиваю и вижу на себе – а была я одета по-лёгкому – полохливые мамушкины глаза.
Перестала я вешать, смотрю на неё.
Мамушка и говорит исподтиха, с секретом таким в лице:
– Марьян, а чё эт ты выставила пузо – хоть блох колоти?
Дрогнула вся, будто ток меня прошил. Но не потерялась вовсе, взяла на себя вид дурашливо-развесёлый, отвечаю в ответ:
– Справная стала. Надо быть, с толстых харчей.
– Ох, ломака, не вали на харчи… Всегда харчи были тебе не в корм коню… – Мамушка весь век навыверт кладёт эту прибаску. – Не шли мне грешных мыслей в голову… Ты убери его… чё ли… Подбери…
– Куда ж я уберу? Отстегну, что ле?
Мамушка поднесла руку к груди.
– Болит мое… Ох, не наделали ль вы хлопот, что не сходится капот?
Я и не дыхнула – не кинулась ёжиться.
– Не сходится… – опускаю глаза.
Мамушка так и села.
Вижу, хватает воздух, как рыбина на берегу, а дохнуть нечем. Подбежала я, завалила на горку сухого, ещё не стиранного, белья и ну руками гнать к лицу воздух.
Оклемалась… Качает головой.
– Вот уж ох и вправде… Спасибочки скажешь… Разуважила… А как хотел батько отдать в место, покудова ветры не обдули да собаки не облаяли, так ты поперёк… А теперь-то как? А что изверг-молчушник твой? Из поганого ружья мало пристрелить! Мураш мохнорылый!
– Муж…
– Муж?! По такой лавочке – как в штанях какой, так и муж! – знаешь, скоко их, котов купоросных, бегает! Попомнишь ты эти лихостные игрища!.. Пойду-ка… Нехай напрядеть тебе на кривое веретено!
В коротких словах мамушка говорила с отцом.
Проявились они из дому помилуй как скоро.
Я ждала, что отец ядром выскочит с какой-нибудь штуковиной наподобие вожжей, накрученных на руку, а он вышел ни с чем да какой-то весь из себя тихий, тень тенью, какой-то виноватый с лица.
Стал на крыльце, сложил перед собой руки в замок, губы кусает.
– Иль я у Бога телка съел? – в печали говорит, а у самого пот по лицу. – За что ж судьба так?… Вот вам, Михайло Андрев, явленье второе, – смотрит искоса мне на живот. – Вишь, какие у молчуна богатыя речи! У нас в роду и старикам такое не в память…
Стою я навытяжку, как ружьё. Стою ни жива ни мертва.
– Отец… честное слово… мы… не хотели…
– Знамо… Ну да кто же спорит? И разве я что против говорю? Эха-а… Ангельски каемся, да не ангельски согрешаем… Что самого-то сукиного кота не видать? Иль в мышиной где отсиживается норке?
Набычилась я, что твоя середа на пятницу.
– Зачем же, – говорю, – в норке… С Верхнего Лога солому возит.
– Что он-то поёт? А старики?
– И сам, и отец-мать в одну руку играют… Не противься я – давнушко б сосватали.
– А ты-то что проть шерсти? Нелюбый?
– Вот ещё…
– Тогда что ж?
– Да робела все… не знала…
Отец перебил меня:
– Чего девка не разумее, то её и красивит! Вот что… Не рука тебе тянуть… Говори с им, говори, что хошь… Куда б там дело ни бежало, абы мне ехало к венцу. В первое же вот воскресенье велю сослать под венец. Вашему греху один венец судья!
– Вообще-то… Нам венчаться нельзя…
– Это почему ещё, а раскидай тя в раны?!
– И я и Валера… в комсомол записанные… Активные…
– Что активные – вижу, не слепой. А дальше что?
– Какой же мы пример дадим?
– Не спорю. На беду, пример ваш ни кансамолу, ни дьяволу не гожается… – Подумал вслух: – Это что ж за песня? Как кансамолий, так уж по-людски и обзакониться не смей?
– Отчего же… А вон загс на что, по-вашему?
– Да ты смотри мне! А то я так возьму тебя за тот проклятущой загс, что голова вспухнет! Ишь, какая хитрая – тихомолком рвёт мешки! Да покуда таскают меня ноги, не узнаешь, с какого боку отворяются двери у того антихристова загса!
Заплакала я да и пошла к Валере домой, пошла да так и осталась там…
Отвели нам комнатёшку, стали мы жить без расписки, без родителева благословения, без свадьбы…
7
Отвага мёд пьёт.
В скорых месяцах нашёлся у нас мальчик.
Выписали меня.
Не успела я занести ногу за больничный порожек – вот он вот и Валера в белой сатиновой рубахе, кою разве что и заставишь его надеть в немалый годовой праздник.
Увидал меня – невозможно сконфузился, не знает, куда и глаза подеть.
Конфуз конфузом, а подбёг, в неловкости взял ядрёного сынишку на руки и в большом торжестве понёс – как чурбачок.
Несёт – боится дохнуть, под ноги и редкого взора не пустит. Мне и боязно, и смех донимает.
– Валер, – говорю, – а дай покажу, как надо.
– Как могу, так и несу. А к бабскому сословию мы, мужики, на поклон не пойдм, – и жмётся бритой, не в первый ли раз в жизни надушенной щекой к маленькому.
Маленький играет себе глазками, а мы лыбимся, будто тебе какие малахольные, незнамо где подгулялые.
Вот на Рассветной завиднелся плетень, бок отцова подворья. Валера клонит голову к конверту.
– Држа, это, знаете-понимаете, хорошо, что ты смеешься, но пора и за дело… Распишитесь в получении первого боевого задания. Поздоровкайся с дедуней… Так ты поздоровкаешься? А?
Я заглядываю в конверт.
Маленький знай помалкивает себе.
– Сыну, ты мне всю панихиду ломаешь, – не без сердца уже говорит в таких словах Валера и косится на ближнее окно моих стариков. – Понимаешь, многострадальный дедуся на боевом наблюдательном пункте, – отец и в самом деле выглядывал из-за занавески. – Так спеши ж, ядрышко моё чистое, поздоровкаться. Заплачь! Запой!
Но маленький наш не спешил. Всё молчал, играл себе глазками, словно помимо этого ничегошеньки-то другого и не мог.
Валера сглотнул, стал втихую дуть маленькому в лицо.
Маленький насуровился, круто повёл плечишком и заплакал. Звончатый, бунтовской голос вспорол тишину.
Почитай в тот же миг на крыльце проявился отец. Босой, в рубахе поверх штанов, сунулся бегом к калитке.
– А доченька!.. А сыночек!.. А внучок!..
Выбросил в мольбе руки вперёд, Валера и подай пузырика.
– У всякого, – говорит-рокочет отец, в большой радости вскинул наше зернятко перед собой, – свой сын по локоть в серебре! Во лбу ясный месяц! В затылке часты звёзды! – Он скоком обкрутился, держа на вытянутых ручищах мальчика и показывая его на все стороны. – Добрый сын – всему свету завидище!
«Эко взыграла душа у старого…» – с грустью подумала я.
– А дражните, дражните-то как? – шлёт в улыбке вопрос. – Ну что – в нос те колечко! – плечьми дёргаете? Назвали, назвали как, спрашиваю.
Мы с Валерой переглянулись.
Я всегда поважала отца; и когда почувствовала, что наладилась тяжелеть, я сказала Валере, как там ни крутани потом жизнёнка, а будь у меня первенькой хлопчик, в обязательности назовем по отцу. Mихаилом.
Валера положил мне согласие.
Сейчас я спрашивала Валеру глазами, помнит ли он про наш уговор.
Сперва Валера вроде того и не понимал моего долгого безотрывного взгляда. После с корильным смешком шлёпнул себя в слабости, не больней, как муха крылом, по лбу подушками пальцев, ответил родителю:
– Мишаней… Мишаткой назвали…
– Шутки шутите!
Отец пустился гонять удивленно-сердитые глаза с меня на Валеру, с Валеры опять на меня.
– А на что нам шутить? – Валера это. – Мы всё ладим вроде серьёзно.
– Оно-то и хорошо, что серьёзно, только на кой дитю моё подлючкино имя пришпиливать? Это ж сказать… Только из-за меня… За месяц друг дружке слова живого не послали… В сам деле… Совстренемся где на улице – рраз друг к дружке горшками. Мол, не знакомы и не ж-жалам! Ну а на что было заваривать такую тесноту-свару? А скоко слёз лито?… – и повинно косится на меня.
– Слёзы, па, – говорю я, – у русачек без переводу. Такое добро… На потоп хватит. Были вчера, сыщутся и назавтре, ежель как прищучит…
– Да что его вспоминать? – встрял Валера. – В житейском котле все перетолчётся…
– А куда ж денется? Перетолктся… – соглашается отец. Он строит козу мальчику, спрашивает с весёлостью в голосе: – А на какую фамильность героя припишете этого?
Расплох любого губит.
Мы как-то ещё и не думали вовсе об этом.
– Ну что друг на дружку уставились молчаком? – наседает без злости. – По бумажкам вы всё чужие?
– Вы ж против, – сказала я.
Видали, я против и – ша, земля стала! А ты б положила делу свой ум. Не побежала ж перед соим потаённым подвигом за советом ко мне – не померла. Откинула б мой запрет – не помер бы и я. Не всяко, дочка, пустое стариково слово ладь в строку. Оно, вишь ли, всякий старец о-оченно горазд в свой ставец… Дед спуста брыкается, а тут… Вот что, соколятки… Не нравится вам наша церква, ну и Господь с ей. Поняйте в свою церкву – в загс. Абы и у вас, и у Мишатки был полный в бумажках глянец. Бумажка что? Дунь – нету! А в свою времю силу какую ещё явит!.. Да ну что я, старый пёс, забрехался у калитки? Явите божескую милость, пожалуйте в хату на чашку чаю. Вас там мать что ждёт. Как Бога!
8
Чей день завтра, а наш ноне.
Загорелись мы с Валерой исполнить отцову волю в тот же день, как вернулась я из родилки, да сам отец и сбей всю нам охоту.
– Марьянка, – говорит, – ты хоть матка сама уже, а осталась, как и была, шебутной. Ну куда его сейчас? Ни в какую в Америку тот загс от вас не удрапает. А ты первое дело – приди в себя. Небось ослабла вся, того и гляди, в подворотне ветром в лужу сдует.
– Ну-у… Тоже наскажете…
– И скажу, раскидай тя в раны! Мысленное ль дело… Ты, девонька, не веточку сломила – соколёнка принесла! А после родов, знаешь, ещё сколь дней баба в гробу стоит – так плоха?
– Это я плоха?
– Мне лучше знать.
– Ну, разве что так…
Не поймал отец подковырки моей, на своей стоит кочке.
– Отдохни с недельку-две. А там и ступайте с Богом.
Прошла неделя, отошли две, месяц ушёл – никуда мы ни с Богом, ни без Бога так и не выбрались. Некогда всё за домашней колготнёй, некогда за певуном нашим.
Я сижу с маленьким, а мамушка припоглядывает за мной. Боится, а ну вдруг что не то да не так почну делать, всё наказывает:
– Ребятёнок растёт в день на одну мачинку,[1] в год на ладонь. А всяк раз, как мать ударит его по голове, он на мачинку сседается. Оттого упрямые росточком бедны.
– Хорошая мать и бия не бьёт… Не бойсе, я не бью, у меня не ссядется до веника.
– Помни… У младенцев до году ногтей и волос не стригут.
– Ну-у, ма-а, отвяжись, грошик дам… Не зуди.
– Я не пчела, чтоб зудеть. Я дело говорю. Видали, она и рыбы жареной не кушает – не слушается матери…
Перебрёхи с мамушкой потешали меня.
И посейчас не пойму, а чего это с маленьким на руках я и разу взаправде не осерчала, хоть мамушка ox и допекала усердием своим.
Теперь вот вспомни – какая-то такая неясность берёт, а тогда радость брала. Или гипноз какой в маленьком в моём?
Почитай день-ночь на ногах за ним, а света, света что в душе!
Подойду к качке… не нагляжусь… Лежень лежит, а растет… Растёт, как из воды идёт…
Смотрю, глазки сжимает.
– А кто спатеньки хочет? Мишенька… А кто баюшку слушать хочет? Мишенька…
Качаешь качку и запоешь…
Знала я эту баюшку от мамушки. Эта песня – первое, что я в жизни запомнила.
Мамушка играла её мне ко сну.
- – Ах ты, котенька, коток,
- Котя – cepенький хвосток!
- Приди, котя, ночевать,
- Мово Мишеньку качать.
- Я тебе, коту, коту,
- За работу заплачу:
- Дам кусок пирога
- И кувшин молока,
- Платок беленький свяжу
- И на шейку повяжу,
- Шубку кунью я куплю
- И сапожки закажу.
- Лежит котик на печи —
- Ты не много лепечи! —
- Лапки, лапки в головах,
- А платочек на плечах.
- Что платочек на плечах,
- Кунья шубка на боках
- И сапожки на ногах.
Пела я себе, пела – опять я «горбата спереди».
И горб растёт мой, ровно тебе пшеничное тесто на опаре, растёт скоро – не удержишь на вожжах.
– С такой с тобой и неспособно как-то… Не рука, знаете-понимаете, идти в расписку, – жмётся лукавец мой Валерa. – А давай, – говорит, – погодим, как от второго вот поправишься…
И снова расплетают мне косу: на родильнице не должно быть и одного узелочка.
И опять мамушка тужит-вздыхает в мечтаниях: