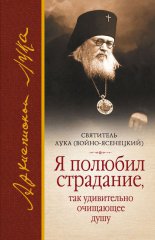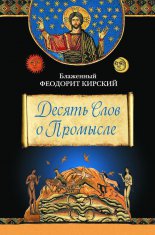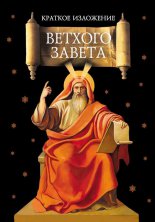Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 2 Swann Lena

Пышная, дорого разодетая, Мария со здоровяком-Младенцем на руках, как ее изображала приалтарная скульптура, скорей была (как уже и заподозрил Дьюрька) и правда похожа на сытую баварскую кронпринцессу с двойным подбородком, чем на бедную голодную экзальтированную еврейскую девочку, родившую в хлеву.
Воздвиженский, как-то траверзом, стараясь не разворачиваться и глядеть строго на алтарь, как будто он вообще никуда не идет, а так его просто случайно течением вынесло, подбрел к Елене.
– Не понял! – пробубнил он, не смотря на Елену – и выговаривая слова с таким вызовом, как будто его обсчитали в булочной. – Ее что, тоже… убили? – спросил он, кивнув головой в сторону другой скульптуры Марии – пронзенной кинжалом, – которая была выставлена за левой колоннадой.
– Ну, это просто чересчур буквально понятое предсказание одного ветхого старика, о том, что «оружие пройдет ей душу» – в смысле, что ее сердце будет сокрушенным.
– А-а… Ну ладно тогда. Ладушки… – с облегчением произнес Воздвиженский, и отплыл опять куда-то против часовой стрелки.
– Ужас. Ужас… – все никак не могла оторваться опять взглядом от поразившего ее распятия Лаугард. – Слушай, не понятно, почему рана под грудью – с справой стороны, а не слева, не у сердца?
– Честно говоря, Оленька, я подозреваю, что это проблема зеркального отражения: если ведь ты смотришь со своей стороны – рана слева. А с Его стороны никто и не заглядывает, – на ходу начала фантазировать Елена, пытаясь объяснить действительно непонятную подробность. – Знаешь, это, по-моему, проблема фото-негатива и проявленного позитива – возможно, чтобы воссоздать образ использовали ведь изображение туринской плащаницы – а там, как случайно выяснил один смешной фотограф-приколист, – как раз обратный негатив.
– Ну вот я и думаю! С чего бы они стали справа под ребра копьем тыкать… – стряхнув оцепенение ужаса, луженым логичным голосом пригвоздила этот факт к воздуху Лаугард.
– Знаешь, между прочим, современные врачи говорят, что один из евангелистов, сам того не зная, и не будучи медиком, дал профессиональное медицинское свидетельство Его смерти на кресте – потому что написал, что когда солдаты, желая удостовериться, что Он мертв, пронзили Ему ребра копьем, то истекла «кровь и вода» – то есть околосердечная жидкость – а это могло произойти только в одном случае – если Он уже до этого умер от разрыва сердца – и околосердечная жидкость уже отстоялась.
– Так Он, что – от разрыва сердца, что ли, умер?! От инфаркта?! – переспрашивала потрясенная Лаугард, опять закрывая глаза обеими руками.
Елена с Ольгой Лаугард вместе опустились на ближайшую к алтарю лавку в правом ряду, и тут вдруг начали обрастать они со всех сторон забавным народцем – с правого бока, еле втиснувшись, как в рельсы, между лавками, пролезла длинноволосая каштановая толстуха с огромным туристическим рюкзаком, крупное, преувеличенное лицо которой было бы устрашающим, если бы беспрестанно не улыбалось; сзади, прямо за ними, подсела студентка с плоским, средневековым ликом с широкими челюстными костями, в берете и прямоугольных очках ученого и нотами на коленях; рядом с ней примостился в нули подстриженный строгий джентльмен, крепко державший за руку свою белокурую прямоносую супругу; а потом и еще человек тридцать в одинаковых цветных платках, повязанных вокруг шеи: быстрым шагом подошли с разных сторон и нанизались в ряды на банкетках. К ним лицом, впереди, перед лавочками осталась стоять красавица-пацанка с черным каре и ранеными глазами, улыбающаяся как-то внутрь, сосредоточенно, отчего шел свет вокруг.
После секундной спевки по губной гармошке (которую достал из сумочки своей жены строгий стриженный джентльмен), резко, на всю мощность готической акустики, хористы запели:
Шалом хавэри м! Шалом хавэрим! Шалом – шалом! Л’итра’от! Л’итра’от! Шалом! Шалом!
– Стойте, стойте! Коллеги! Простите! – с мукой в голосе прервала их шеф-повар хора – брюнетка с каре. – Вы не могли бы все-таки постараться, как я вас уже и просила на репетиции, в начале слова «Хаверим» петь не хаух-лаут, а ихь-лаут?! Сосредоточьтесь! Ну же! – и опять, поварив руками в воздухе, вымахнула:
Шалом хавэрим! Шалом хавэрим! Шалом! Шалом!
Визитеры церкви застыли в тех местах и позах, в которых их захватило пение.
Регентша раскачивала на пальцах еще не начавшуюся мелодию, – затем подала знак, и певицы с певцами грянули, уже гораздо более уверено (так что эхо отскакивало обратно на них из-под хорды крыши): с джазовыми распевами юба-дуба – а потом и вовсе вскочив, раскачиваясь, пританцовывая, хлопая в ладони, отбивая ритм:
Хэвэн из а вандэфул плэйс! Филд витз глори, глори энд грэйс! Ай вонт то сии май Сэйвиэр’c фэйс! Хэвэн из а вандэфул плэйс! —
и припевая после каждой строфы хулиганскими низкими голосами неурочный речитатив: «Ай вонт ту гоу ту!», щелкая пальцами и дурачась.
Не вскакиал только молодой инвалид, только что подкативший по центральному проходу и достроивший себе свой собственный, личный, самый первый ряд, состоявший, собственно, только из одного места – его автоматической инвалидной коляски – прямо перед Ольгой: «Ой, какой хорошенький!» – не удержалась она. Понравившийся ей молодой человек был черняв, кудряв, весел, раскраснелся от быстрой езды, и все время зачесывал руками вверх кудри с висков, оборачивался, кокетничал, и оправлял джинсовую куртку с модно торчащим наружу мягким капюшоном. Разноцветный же галстук своей общины он эффектно повязал себе бантом под ворот, как дворцовый нашейный платок. Коляска обладала габаритными огнями, пультом управления под правой рукой, а позади его кресла был заткнута отдыхающая, сложившая крупные красные крылья птица-зонт с оборками – как складки камзола пажа, вскочившего на заднюю подножку кареты.
Вдруг резко изменили жанр. Регентша, с просиявшим глазами, расставив напряженные пальцы обеих рук, и взняв их как огромные сосуды кверху, как будто ловя что-то невесомое и невидимое – наконец, поймав, кивнула своим друзьям.
Посерьезнев, встав стройно, и облачив вдруг лица в хоральную величественность, пять-секунд-назад-джазисты запели кратчайший псалом:
– Лаудатэ Доминум! Лаудатэ Доминум!
мнэс джэнтэс! Халлелуйя!
А потом, взорвав общий хор, сначала инвалид со своей коляски, а потом – толстуха с первого (ставшего вторым) ряда (до этого растекавшаяся по банкетке по правую руку от Елены), вдруг, по очереди, прорезались пронзительными соло – тенором и сопрано – на французском. А регентша подхватила следующий круг вновь на латыни.
У Анны Павловны, застигнутой пением врасплох справа, у алтаря, как будто попала тушь в глаз, или запорхнула под веко ресничка – одна из ее коротеньких, тщательно прокрашенных тушью ресниц, – классная закатила глаза к потолку, массируя и ставя отчаянные запятые у переносицы мизинцем, резко втянув носом воздух, и отклячив книзу подбородок.
Выходили из Фрауэнкирхе, сопровождаемые уже откровенно разбитной джазовкой:
– Оу, хаппи дэй! О-ха-ппи-дэй!
Ольга Лаугард громко вздохнула и, непонятно на кого оглядываясь внутрь, сказала: «Э-эх…»
Потом была рыжая Театинэр, изнутри вся как будто бы запудренная, припорошенная светлым пеплом – будто, некогда расписное, барокко попало под извержение водоэмульсионного вулкана.
Четыре великих писателя, с собственными книгами в руках, казалось, ждали своего выступления на сцене – в алтарной части: у ног одного из них лежал, как домашний котенок, лев, благодарно, по-человечески, приложивший лапу к груди; второму приятельствовал кучерявый орел; у третьего, поддерживаемого волом, увы, отсутствовал торс и вся левая сторона – сквозь него просвечивали стены, так что создавалось изумительное впечатление, что он, принарядившись в заалтарные туманы, прямо на глазах зримо проскальзывает в видимый мир из невидимого; четвертый же их друг, спонсируемый ангелом, уже явно успел ускользнуть в обратном направлении – и вместо него была поставлена символическая плоская, с едва намеченным его силуэтом, белоголовая заставка.
На фоне этих внушительных скульптур почему-то крошечным и скромным изображался их главный Источник Информации.
В каждую церковь Елена заходила как домой и, переступая порог, как будто сбрасывала снаружи какой-то огромный и ненужный рюкзак с плеч; и, с физическим облегчением, расправляла плечи и оказывалась у себя.
В каждый храм заходила, как на свою территорию, как на землю посольства единственной державы, гражданство которой она за собой признавала.
Радостно распахивала храмовые двери, как будто ее там ждали.
Внутри каждого храма – чувствуя, что с лица не сходит улыбка, и не желая, да и не будучи в состоянии ее прятать, испытывала радость узнавания знакомых, хотя и никогда не виданных прежде символов, видоизмененных – в сравнении с теми, что она знала по русским церквам, – но, безусловно, говоривших на понятном и родном ей языке.
И то и дело ловила на себе боковым зрением неизменный набученный взгляд Воздвиженского, с раздраженным интересом шпионившего за ней.
Перед входом в кирху Святого Духа Федя Чернецов собезьянничал и, с довольным видом, перекрестил лапкой мордочку, как кошка к гостям – и даже не хрюкнул – и ввел под свод целый очеловеченный зверинец – в одном собственном лице.
Колонны, стены, своды этой церкви невероятно нравились Елене тем, что создавали абсолютную иллюзию мая: все было как будто в гроздьях сирени, и даже упитанный голубь явно нес на крыльях этот майский лиловый отсвет: словом, все было, как на даче в Ужарово, под Москвой в ее день рождения. И даже вместо торжественных люстр были уютные потертые матерчатые бечевочные мягкие торшерчики с бумбончиками, – в точности – как на даче! – которые даже были спущены сверху, с недосягаемых высот, почти да высоты нормальной обычной человечески мыслимой комнаты.
В левом заднем ряду кротко спал, посапывая, то ли турист, то ли бомж, то ли и то и другое сразу, по совместительству, – в черном вязаном пирожке и дутой куртке. Пирожок был так глухо надвинут на его лицо, а голова так радикально клюкалась вниз, на грудь, что его фигура смотрелась как старинный рыцарский барельеф: то ли мертв, то ли пьян после битвы. Каждый осмотрел его как достопримечательность. А когда вываливали наружу, перейдя этот майский сад насквозь, случайно гомоном разбудили экспонат: оказалось, что это добропорядочный согбенный старик, не могший распрямить голову, который ненароком прикорнул за молитвой. Тот тут же встал, и вышел вместе с ними. Такой же горбатой строчной немецкой буквой r.
Снаружи, прямо у церкви, обнаружился экспонат еще более потрясающий: на мостовой, спиной к церковной стене сидел престарелый бездомный ковбой в шляпе с красной лентой, а рядом с ним спал, положив морду ковбою на колени, любовно закутанный в клетчатое пальто беспородный лохматый пес. Тут уже удержаться было невозможно, и Елена, стараясь не вызывать кантату, как можно тише, пропустив всех вперед, наклонившись как можно ниже, бросила одну из десяти, затесавшихся почему-то в ее, выданном Кеексом, конверте, железных марок – в предательски звонкую ковбойскую консервную банку – и когда распрямлялась, уже чувствовала, что сейчас будет скандал. Воздвиженский, моментально обернулся, привлеченный звоном монетки, и, как будто уже давно натуженно поджидая чего-то подобного, за что можно будет придраться, с тихой злобой сказал ей:
– Verrсkt! – и, выкатив глаза, ускорил шаг.
А в следующем храме – Святого Петра – все главные герои в алтаре были такими смуглыми, как будто действие происходило как минимум в Мавритании или Эфиопии. А увидев маленькую темную избушку у правой стены со взволновавшей ее вывеской «Beichte» (значение которой она почему-то моментально поняла, хотя в школярском запасе слова и не было), Елена мучительно прикидывала, хватит ли у нее словарного запаса назвать по-немецки все свои грехи на исповеди.
Когда все побежали на колокольню этого самого апостола, она испытала странное внутреннее неудобство: залезать на храм, чтоб глазеть сверху на город. Бесконечные ступеньки были настолько узки, что она легко касалась сразу обоими локтями стен. Белые церковные стены, царапавшие по локтям, оставляя на ее малиновом джемпере меловую глазурь, были похожи на побеленные Глафирины куличи с цукатами, выставленные у нее под белым хлопковым полотенцем на столе. Было жарко. Елена остановилась, резким рывком стянула с себя синтетический джемпер через голову (просквозив через секундное чудовищное, наэлектризованное короткое замыкание волос и материи, так что казалось, что никогда она из этого душного цветного коридора головой не вылезет), усмирила ладонями вставшие торчком волосы, и быстро закатала рукава рубашки по локоть.
Наверху, на открытой площадке, оказалось так ветрено, что когда кто-нибудь из них пытался разговаривать, казалось, что в рот ему, балуясь, какой-то хулиган вставляет невидимые пальцы, распирающие изнутри щеку. На город приходилось смотреть диковатым ракурсом – через решетку – в которую было забрано пространство со всех сторон вета, а ветер, тем не менее, врывался сквозь нее без всяких купюр.
Дьюрька отчаянно фотографировал Мюнхен сверху – изо всех сил высовывая руки в пазы клетки, и рискуя прикончить какого-нибудь зеваку внизу внезапно упавшим с неба фотоаппаратом.
Равнодушно поглазев на карликовые человечьи фигурки, россыпями танцевавшие (медленно, с заевшим заводом) на Мариен-платц, и на валявшихся возле их же ног на асфальте, плашмя попадавших с крыш вниз их же приятелей, в черных костюмах, гораздо выше них ростом (гуталиновые, маркие тени), Елена обошла башню кругом и тут застыла: сизые горы на близком, супер-близком, горизонте, были настолько невероятны, что поначалу она их даже и не заметила: они казались большими сизыми кучевыми облаками.
Чиркая ладонью по шершавой рубиновой черепице крыш, взмывая как с трамплина ввысь с горящих от солнца церковных хребтов, скользя на скорости по звенящим как бритва шпилям, обжигаясь о снежные вершины и щупая пальцами горные складки, она с ликованием подумала: «Не обманулась! Снег, действительно – снег лежит в этом жарком городе, – и действительно, в самой подкорке!»
Резакова с Кудрявицким, а за ними и Воздвиженский с Ольгой Лаугард ушли внутрь (на убогую душную площадку ожидания со стругаными деревянными лавками), потому что снаружи им стало холодно. Потом сломалась и Аня, до последнего жадно пожиравшая, с Еленой бок о бок, горы глазами.
Наружу, гурьбой тяжело отжав качавшиеся со специальным возвратным ходом деревянные двери, которые из-за ветра было вдвойне сложно осилить, – вывалились быстро-быстро говорливые (казалось – все время скороговоркой повторяющие одно и то же слово) шепелявые испанские школьники со слюнявыми, одинаковыми, пестрыми брекетами на зубах – которыми они, оскалившись, сверкали во все стороны.
Анна Павловна, едва справляясь с хулиганом, опять засунувшим ей пальцы за щеку (к счастью, на этот раз, это хотя бы был не Чернецов, а ветер), давясь шквальным порывом и шатаясь в своем раздувающемся как парус плащике, обошла всех оставшихся на площадке, натужно умоляя спускаться вниз.
Елена поморщилась: вниз по ступенькам! Да еще и башня – так бесконечно здесь много их… Многотомник ступенек!
На ближайшем пролете Чернецов с Кудрявицким раскурочивали прозрачный аппарат, с крутящейся, как в шарманке, ручкой, обещавший отпечатать на решке опускаемой одномарковой монетки эмблемку – вид «Старого Петра» – но, поскольку монетки у них не было, решили сразу достать горстями из автомата и то, и другое. Анна Павловна завела хай.
Воздвиженский дождался Елену в следующем пролете и, то ли с наглостью, то ли с самоиронией, с вызывающей нарочито идиотско-поверхностной интонацией поинтересовался:
– Ну? Как тебе понравился… видок?
И испуганно посторонился, когда она мрачно и молча прошла мимо.
Скача вниз, чувствуя себя снова абсолютно несчастной из-за этого предстоящего длиннющего спуска, и из-за извращенческого группового свального способа гульбы по городу, и из-за всего недосмотренного, недочувствованного, недопеченного – что никаким иным способом нельзя досмотреть, дочувствовать и пропечь, кроме как с городом тет-а-тет, – Елена рассерженно бормотала себе под нос, ставя слова в ритме собственного бега по деревянным ступенькам, насильно приковывая свое внимание к каждой:
от несказанных слов пахнет порохом от сказанных – потом тесно, как двум мелованным стенам трущимся друг о друга мысль о Боге белою мышью прошмыгнула в угол снов несвязанных хватит надолго прочесавшему золотом гриву города вам не видящим снов станет холодно опрокинув себя же на хорду жевать слоган
Хэрра Кеекса, грозившегося встретить их на Мариен-платц «у ф «о» нтанчика», разумеется, на месте не оказалось.
Он покинул их сразу же, по выходе из экскурсионного автобуса, и понесся куда-то по своим делам, условившись о встрече через три часа, чтобы препроводить их на самую модную дискотеку в центре Мюнхена – куда вечером должны были съехаться все «их» немцы. На сердечнейшее предложение присоединиться к ним и погулять по городу, Хэрр Кеекс, мстительно-четко выговаривая каждый слог, объявил:
– Ни-ко-гда! – имея в виду, что ему «некогда», и спутав в своих точных, но перевернутых песочных часах мельчайшие русские крупицы звуков.
И теперь вот куда-то действительно запропастился.
– Между прочим, я не с Кеексом живу: говорю вам на всякий случай, чтобы никто ничего не думал, и чтобы ни у кого не было никаких фантазий. А с очень интеллигентной милой дамой из гимназии, – на всякий случай тут же открестилась от сомнительного соседства Анна Павловна.
И зря.
– Ууу, моя хорошая, – полез к ней опять с объятьями и лобзаниями Чернецов, при виде которого она уже сразу срывалась на визг.
Через полчаса ожиданий, Анна Павловна отправилась в телефонный автомат звонить Хэрру Кеексу домой.
И, разумеется, как только классная скрылась за углом, глазастая Лаугард углядела Хэрра Кеекса: он в глубочайшей задумчивости шагал по другой стороне площади, забрасывая свои длинные ноги так высоко вперед, как будто бы с каждом шагом преодолевал какие-то одному ему видимые препятствия и барьерчики, расположенные, судя по взмахам, где-то на уровне колена; и крепко держал стопку книг под мышкой.
– Хэрр Кеекс! Хэрр Кеекс! – побежала за ним кучерявая Лаугард – поддерживая, правой рукой в черной кожаной перчатке, на бегу, чуть раздуваемую ветром черную юбку по колено, а левой – ловя улетающую прическу, а третьим глазом умудряясь поглядывать на эффектные – в ажурную фабричную кружевную дырочку с боковых вертикалей – кооперативные черные колготки над низенькими черными полусапожками – явно выбирая, как красивей ставить на бегу ноги. Но погруженный в свои, неведомые, мысли, вышагивающий, с незримыми препятствиями, Хэрр Кеекс не услышал и не увидел ее до того самого момента, пока она не дернула его за коричневый рукав.
– А где вы были? Я приходил час назад. Мы же договорились, русским языком: через два часа, чтобы у вас было время все осмотреть, – невозмутимо заокал Хэрр Кеекс. – Потом я зашел вот сюда в книжный. А все последнее время стоял ждал вас вон там – с той стороны от фигуры Марии – мы же условились: у золотой статуи!
– Жалко я фотоаппарат с башни из руки не выпустил на него! Или еще чего-нить потяжелее! – тихонько захихикал Дьюрька, одновременно делая многозначительные жесты возвращающейся, и гримасничающей в адрес спины рассеянного Хэрра, Анне Павловне. – Хотя… – Дьюрька, сощуря взгляд, измерил угол снаряда с невинно отступившей во второй ряд от площади башни Старого Петра, – …эх, оттуда бы сюда все равно не долетело!
Немцы уже давно были на дискотеке в полном составе.
На входе пришлось втискиваться в арку с металлоискателем. И потом – еле отбились от сковородоголовых охранников, не упускавших шанса с пристрастием ощупать всякую входящую.
– Кошмар – как на границе прямо! – возмущался Дьюрька.
– Хуже, хуже! – заохала Лаугард, резко мотнув головой вниз, опрокинув кудрявую прическу, вздыбив, с изнанки, волосы руками, и вернувшись, после эквилибристского этого номера, как ни в чем не бывало, в вертикальное положение; затянула широкий черный пояс, скрашивавший чудовищно ширпотребный длинный советский свитер, и, скомкав губы, зачем-то очень сильно втянула щеки перед высоким вертикальным зеркалом, сделав неприступно-интересные глаза и выставив правое плечо вперед: замерла на секунду – видимо, осталась довольна зеркальным кадром – и побежала дальше.
Как только нырнули внутрь, что-то случилось с одеждой.
Дьюрькина белая парадная рубашка оказалась издевательски испачкана советской синькой.
– Дьюрька, что с твоей рубашкой? – спохватилась Елена.
– Ты на себя взгляни!
И действительно – и нитки на пуговицах ярко-желтой выпущенной из джинсов длинной сорочки Елены, и даже выпуклые бело-пепельного оттенка резиновые буквы, напоминавшие на ощупь наконечник карандаша с растрескавшимся ластиком – у нее на малиновом джемпере (которым она препоясалась, завязав рукава узлом на поясе – и который теперь тут же развязала и сняла с себя, чтобы полюбопытствоватьсинюшным эффектом); и полоски на кроссовках тоже; и даже мельчайшие пылинки на всей ее одежде – словом, всё, за что синьке можно было зацепиться, немедленно окрасилось в галлюциногенный фиолетовый цвет.
Кроме этого не видно был ничего – внутри было так темно, что даже отсветы от зеркалец мозаики на медленно вертевшихся под потолком ртутных планетах, попадая изредка на лицо, слепили, – зато звук был таким громким, что, казалось, сейчас перельется из ушей через край.
Дьюрька быстро нашел местечко в углу на черных квадратных пуфах неподалеку от барной стойки. И спокойно уселся, только слегка морщась от звука и затыкая себе уши.
Кто-то удушливо, со всхлипами, ритмично выдыхал из динамиков.
– Фигня какая! – вдруг с изумлением отняв руки от ушей, констатировал Дьюрька. – Это что ж он ей говорит? Что сегодня он ее хочет – а завтра уже не будет хотеть?! Это какая ж кретинка с ним после этого общаться-то будет?! Или это, может, я чего недопонял?
Они стали прислушиваться, комментируя идиотские слова песни, и уже давясь от хохота:
«Мое сердце болит, Мое тело горит, Мои руки трясутся…»
– Ясно. Тремор, короче, у него в руках. Так? Что там дальше?
«Ты знаешь – выбор так прост. Терять нам все равно нечего. Я тебя хочу. Сейчас».
– Вот, Дьюрька! Вот ключ ко всему произведению! Послушай: он говорит, что «не хочет звучать, как парень»!
– А он и не звучит как парень! Явный педик! – отрезал Дьюрька.
Композицию гоняли уже третий раз подряд.
Женская публика визжала в исступлении, едва заслышав одну и ту же заставку с гинекологическими стонами в начале.
– Постой-постой! Что там еще у него трясется? – заливался уже весь потный от хохота Дьюрька. – Нет-нет, ты подожди, не смейся, не затыкай уши, давай послушаем еще раз! – орал Дьюрька, когда песню завели, под визг публики, по четвертому разу. – Что значит: «We’ve got time to kill»?! Кого там эта парочка пришить собирается?! «Нам нечего терять»… А, ну раз терять им уже нечего, тогда понятно!
– А, вот, опять что-то смешное… «Do you know what it means, to be left this way»… – выхватывала Елена фразы из композиции и пыталась перевести (что было проще) – и уловить хоть какой-то смысл (что было гораздо труднее!).
– Ну понятно! – радостно комментировал Дьюрька. – Она его продинамила! Или, вернее, он его продинамил (он же педик! если верить ему, что он не хочет звучать как парень!). Короче – завели парня: у него уже руки трясутся – и бросили. Конечно, у него теперь голова бо-бо! Еще бы! – с уморительным цинизмом произносил целомудренный Дьюрька.
Елена страшно гордилась, что знает хотя бы начатки английского – но сейчас она скорее была бы готова дорого приплатить, чтобы наоборот перестать понимать вздохи, на плющащей громкости несущиеся из динамика, – потому что, по мере семантического разбора идиотских текстов с Дьюрькой на пуфиках, несказанное очарование («крутяк, диско, темнота, крутейшая западная музыка») – катастрофически развеивалось.
То ли от этого рябого мерцания, то ли от духоты – из-за все время выхлопывающего откуда-то удушливого, искусственного, голубизной фосфоресцирующего тумана, Елена почувствовала астматический спазм в бронхах.
Стараясь держаться бодро, Елена бросили Дьюрьку на пуфах, и пошла осматривать дискотеку, говоря себе, что надо радоваться, что это круто, что ей должно это нравиться, потому что в ее несчастной стране ничего этого нет. В дверях другого зала ее встретил Кудрявицкий.
– Пойдем чего-нибудь выпьем, – обняв ее, закричал Кудрявицкий ей в ухо, стараясь переорать грохот музыки.
Она быстро прошла мимо, в следующий зал, – где бабец с луженой глоткой из динамиков уже в двадцатый раз предупреждала дружка: «ты знаешь, она немного опасна». А Кудрявицкий приплясал вдогонку, уже источая запах то ли приторного одеколона, то ли пунша.
Озираясь по сторонам, и пятясь от активно вибрирующих человеческих сгустков, она врезалась спиной в Воздвиженского: и впервые со времени приезда в Мюнхен они неловко улыбнулись друг другу – не зная, куда себя девать посреди танцующих тел.
Двое незнакомых немецких парней («геи, кажется, – приставать не будут», – с надеждой успела подумать Елена, не успевая толком разглядеть слева и справа томную, извивающуюся, сильно парфюмированную фиолетовость) схватили ее за руки и потащили в нижний, совсем темный, зал, на серый блестящий танцпол с тусклой подсветкой из пола – а втащив ее в движущуюся гущу, довольные, развернулись друг к дружке, и, игриво копируя жесты друг друга зеркалом, стали симметрично выбрасывать руки вверх, павианьи вибрируя в направлении друг друга бедрами. Из темной массы выскользнуло на секунду лицо Ольги Лаугард, плясавшей бок о бок с размашистой, тициановских форм, гладковолосой немкой Ташей – своей партнершей по гимназии.
Заслышав очередной проигрыш, все немцы завизжали, и упали на пол, расселись в позе лотоса, и, орудуя коленями, как брюхоногие, быстро сгруппировались в круг, и под вступительные ударники начали синхронно хлопать то самих себя, то – своих соседей, то в ладоши, а то по ляжкам – с такой отвратительной слаженностью, как будто годами сидели и репетировали: we will, we will rock you! Клац-клац-клац, стук-стук-стук, буб-бум-бум!
Мутировавшая аллеманда, – с ужасом догадалась Елена.
Синие ромашковые поля. Ромашка размноженной плоти с неприятной цикличностью отрывает самой себе лепестки, вращается, вибрирует, наращивает агрессивные акриловые ногти, сосредотачивается, вызревает – и вдруг атакует из тумана синьки радиоактивной тычинкой – бросок, – и Елена сама оказалась затянута на пол, в эту безумную ромашку: немка Таша вдруг обернулась и, цепко вдернула ее фиолетовым наручником своей толстой руки в экс-белой блузе.
Напротив уже сидела Лаугард. И тоже с остервенением колотила кого ни попадя в ладоши. Елена двигалась в этом кошмарном общем ритме, но одновременно четко наблюдала за собой как будто со стороны, абсолютно выйдя из тела, механически копировавшего одни и те же движения – и видела ромашку сверху. И подумала, что если есть неприятные опыты левитации, то один из них она как раз сейчас переживает.
Большой взрыв – и ромашка разлетелась тысячами распалённых синих миров.
В следующей музыкальной вертикали кто-то вновь тянул ее вглубь танцпола, и она уже не разбирала кто, а, наконец, рассмотрев мрак перед собой, обнаружила, что давно уже танцует совсем не с Ташей, а с анонимным крайне смазливым немцем со шнобелем и в очках.
Через два танца она перестала контролировать свое тело. Музыка была настолько громкой, что от проходящих сквозь все тело ударных волн звука ее начало мутить.
До безобразного смазливый немец, в не фосфоресцирующей, черной, рубашке с распахнутым воротом, томно уверял Елену, почему-то, что зовут его Моше, и, да, был он в очках, показавшихся надежно интеллигентскими. И, что, да-да, зовут Моше, ты не ослышалась, а родители родом из Тель-Авива, а работают в торгпредстве, а я здесь, в Мюнхене, в университете, а ты какую группу любишь? А я, когда закончу университет, буду певцом. Ну, скажи, скажи, какая твоя любимая группа? Ах, как ты старомодна! Мне это нравится. Я сочиняю стихи – на английском – и музыку! Депеш Мод – мой идол! Вот она – чистая классика! Они – мои гении! Я пишу под них! И – пользуясь предлогом, что Елена не расслышала название группы, – придвинулся уже совсем близко, танцуя с ней в ритм: Пойдем? У меня здесь квартира, совсем недалеко, на Mnchener Freiheit! Знаешь, какая у меня дома классная музыка. Я супер. Хочешь попробовать? Пока не попробуешь ведь не узнаешь! Хочешь? Решайся! Здесь и сейчас! Дай мне свои руки! Ты будешь за рулем. Хочешь? Пойдем?
Своих ответов она уже не слышала, а только его бредовое, как в скверно суфлированных фильмах, и зачем-то с модными, как будто из музыкальной попсы позаимствованными, англоязычными вкраплениями, соло, вползающее в ее ухо вместе с кончиком его языка: Хочешь? Уже становится поздно. Ты знаешь, что я имею в виду. Ну, решайся! Это же так просто! Скажи мне «да», здесь и сейчас. Очки, по мере танца, с Моше куда-то отвяли, как бутафорская карнавальная мистификация. И ез стекол его глаза выглядели раскосо-рысьими. И густые, очень густые темные ресницы, на уже запретную дистанцию приблизившиеся к ее глазам, как несытые тычинки анемоны, сокращающиеся и вновь вспыхивающие вместе со всполохами света на танцполе, и опять уже мешающиеся с неимоверной, взрывающей барабанные перепонки, музыкой: Хочешь? Да или нет? Скажи мне да. Скажи да. Now! Und gerade hier!
«Всё. Еще хоть децл цикуты в уши – и привет, Эльсинор», – пронеслось в голове у Елены, – и она сползла в полуобмороке из объятий Моше, плашмя на танпол.
– Да не бойся ты, пей, это вода, – наклонялся над ней, подставляя ей какой-то сомнительный бокал, Моше. И как только она поднялась, взял ее за талию, пытаясь куда-то умыкнуть.
Не говоря ни слова – грубо счищая с себя руки, высвобождаясь из тел вокруг, как от какого-то нароста, требухи, липучего мусора, отдирая себя от сросшейся ритмично циклирующей биомассы, удирая по ступенькам вверх, яростно сбрызгивая из глаз остатки ядовитой синьки на проползающих мимо зомби, Елена пыталась выяснить у недобитых дорогу: Как, пожалуйста? Как пройти через? То есть, инз?
– А ты иди поблюй – легче станет, – обыденным тоном сказал вдогонку Моше. – Иди, я тебя буду ждать.
Рэхьтс, линкс, унд гэрадэаус – навигируя себя в грохоте по выцыганенной, как тайное старинное заклинание, у в меру бухой девицы, словестной карте, на лестнице.
И потом распахнув ногой дверь в туалет, и пробежав мимо умывальников, мельком заметила, что девушка в кожаной безрукавке рассыпала зубной порошок на краю красной раковины и, согнувшись в три погибели, вяло пытается его пропылесосить носом. «Нашла время зубы чистить, дура», – вскользь язвительно отметила про себя Елена – сама себе удивляясь, что еще вообще в состоянии хоть что-то замечать. Ворвалась в последнюю кабинку, заперлась на хлипкую защелку в этот крипт, склеп, скит, прикрыла глаза, чтобы не видеть скальной живописи на древке дверцы, и начала истошно молиться. И дискотечный сортир, с готическим граффити на стенах, стал, вероятно, самым экзотическим за всю историю цивилизации местом аварийного чтения «Отче наш».
Выйдя к умывальникам, где уже никого не было, и облив лицо холодной водой, – и зачем-то тщательно промыв левое ухо, – не вполне понимая, хватит у нее ли горючего вернуться на планету, где дают свежий воздух, заткнула уши – приложив ладони раковинками – в точности как они с Эммой Эрдман делали, сидя под кустом и счастливо писая, в тот благословенный, не учебный, день, во втором классе, когда хоронили Брежнева, а потом, уже дописав, и натянув портки, и разгуливая по улице, быстро-быстро прижимая ладони к ушам и тут же их отнимая, радостно добивались эффекта великолепного «уа-уа-уа» в тот момент, когда вся Москва пятнадцать минут по приказу траурно гудела – все заводы и фабрики и вообще все, кому было во что дудеть, – и так добежала, смотря строго в пол, до выхода из дискотеки.
Охранник, вросший плечами в металлоискатель, нацелился поставить ей фосфоресцирующую печать на правое запястье.
– Нет, спасибо, не надо, – суеверно отдернула она руку. – Я больше входить не буду. Я своих снаружи подожду.
Через пару минут на улицу выкатился разочарованный, зевающий во весь рот Дьюрька:
– Скукотень какая! И слишком громко: поговорить ни с кем толком невозможно! На, ты свою кофту рядом со мной забыла, – протянул ей Дьюрька скомканный малиновый джемпер.
Елена, чуть не плача, не в состоянии членораздельно объяснить, в чем дело, упала к нему на плечо.
– Ум Готтс вуин! Я же тебе говорила: надо было вчера поесть как следует за завтраком! – причитала вокруг нее следующим, субботним, утром, Марга, с таким трагизмом на лице, как будто у нее как минимум – гангрена: когда Елена, выскочив из ванной, наскоро одевшись, сбежала по лестнице в кухню, и завернув штанины джинсов, пожаловалась немке на чудовищное раздражение на коже.
Голени действительно выглядели не лучшим образом: в том самом месте, где у пегасов обычно растут крылья, ноги смотрелись как вывернутые наизнанку унты, сделанные из ее же собственной кожи.
– Никаких разговоров: сейчас мы с тобой немедленно же едем в зупермаркт, и ты мне покажешь, что для тебя купить из еды. Я уверена, что это авитаминоз.
Елена, втайне приписывавшая стигмы тлетворным дискотечным миазмам, тем не менее охотно согласилась, потому что в супермаркете еще никогда в жизни не была.
Усадив Елену рядом, в наконец-то починенную машину (пожарной масти доисторический жук с очень низко волочащимся пузом и забавным кургузым задком), и, едва отъехав за поворот от дома, со шкодливым прищуром закурив в окно сигарету, Марга, гордо сообщила, что везет ее в самый большой в округе продуктовый.
Промотав за окном игрушечные коробочки домиков, Маргин автомобиль неожиданно бодро влетел в зеленый пролесок.
И вдруг слева, прямо перед машиной выпрыгнул на шоссе кто-то большой и коричневый – Елена не успела даже понять, что происходит, как в дурном сне, – а Марга уже в абсолютном коматозе затормозила, выронив сигарету на штанину, и истошно заорала, – а грациозная молодая замшевая косуля, спешившая в свой зеленый супермаркет через дорогу, умиленно поглядев на них глянцевыми глазами, проскакала дальше, подбирая в прыжке копытца, как в замедленной съемке, складываясь на лету вдвое. А Елена подумала, что если бы еще и этого великолепного зверя сбили – она бы этого уже не выдержала.
Супермаркет, место благоговейного паломничества добрых домохозяек, возлежал в середине соседней глухомани, походил на ангар для летающих тарелок, и размером был таким, как будто только что сожрал три добрых футбольных поля.
– Ну, говори теперь: что ты хочешь есть! – требовала Марга, водя ее по бесконечным продуктовым рядам.
В Москве, в самом богатом гастрономе района, самым дефицитным товаром считались вонючие гнилые говяжьи кости, со случайно задержавшимися на них ошметками черной, с зеленцой, разлагающейся коровьей плоти: кости вывозились в специальной железной высоченной клетке-контейнере на кривых, все время запинающихся колесиках, и отчаянно стучали по прутьям; запряжена в эту страшную колесницу была мужеобразная тетка с свирепым лицом в черно-кровавом (белом) фартуке. По гастроному быстро пробегал боевой клич: «Кости выбросили!» И на них набрасывалась голодной сварой уже пару часов поджидавшая очередь из как минимум двухсот страждущих – и не всем, далеко не всем, доставалось этого вонючего счастья.
– Ну? Что ты хотела бы сегодня на обед? – ласково допытывалась Марга.
Ася Тублина, ее московская соседка-ровесница, дочка военного, с пяти часов утра, до школы, стояла у закрытого магазина в очереди вместе со всей семьей, чтобы им досталось тройная порция молока, потому что из-за крайнего дефицита продавали уже давно только по поллитра в руки, – и Елена с Анастасией Савельевной всегда над такой бессонной прожорливостью смеялись.
– Пожалуйста, не стесняйся! Ну? – пыталась подбодрить ее Марга. – Хорошо, пойдем вперед, ты все посмотришь – и просто скажешь мне, что положить в тележку!
И тут Елена отважилась и назвала самое невероятное, самое любимое, самое волшебное, чего уж точно, на ее взгляд, быть не могло ни в одном магазине мира, тем более в марте:
– Грибы.
– Gut! – буднично сказала Марга, – но это ведь не всё. Ты должна что-то есть и завтра, и послезавтра. Что еще?
– Грибы! – уверенно повторила Елена, почувствовав сразу в носу неповторимый запах сказочных боровиков, по которые бегали с Анастасией Савельевной поздним летом: а когда найдешь первый, нужно было сразу кротко садиться на корточки, и, разбирая мох, аккуратно искать рядом второй, а потом, с визгом, здесь же – третий, и четвертый, и пятый.
От мясных рядов справа по борту, и от всей этой квадратуры километража жрачки тошнить начало не меньше, чем накануне от дискотеки. Измучившись от напряженного Маргиного допроса, Елена попросила извинения, и сказала, что выйдет на воздух.
На обратной дороге косулю не встретили. Зато заехали на минуту в гости к Маргиному другу – врачу, пегому, с перекопанным лицом, коротконогому господин. «Только не говори ему, ладно?» – задышала на нее Марга перед входом в марганцовочного цвета трехэтажный докторский особняк, выразительно похлопывая себя по карману – как будто туда же, вслед за пачкой сигарет, она в состоянии была припрятать и свое амбре.
– Аллергия на холод, – поставил немедленно же диагноз доктор, опуская обратно парчину джинсов, и строго посмотрев при этом, почему-то, на Маргу.
– Да вы шутите? В Москве сейчас – минус пять. Здесь у вас жара, – перебила его Елена.
– Цыпки на руках бывают?
– О, этого хоть отбавляй! Каждую весну. Мне уже говорили об этой аллергии. Но так это же – там, в России, в холоде! – возразила Елена, с подозрением разглядывая начинавшие зудеть тыльные стороны ладоней и запястья.
– Ну, вот это то же самое. Холод к этому имеет только прикладное отношение. Спусковой крючок. Нервное. Чисто нервное. Смена климата. Обстановки. Реакция на окружающую среду. Весна. Стресс. Забудьте. И не волнуйтесь.
– Я же тебе говорила. Авитаминоз, – тут же подставила опять свой диагноз Марга, едва выйдя за дверь, и моментально всласть задымив.
На обед приехал Францл, – усатый, кудрявый, черноволосый, улыбчивый, но молчаливый, – муж Марги, которого Елена не видела со дня своего приезда – с того самого момента, когда он, весь в машинном масле, притаранил Маргу домой из аэропорта в смешном зеленом автомобильчике с длинным открытым багажником сзади и маленьким подъемным краном на нем.
– Это ему коллеги с работы машину подвезли – узнав, что наш автомобиль по дороге сломался, – довольно объяснила Катарина. – У него – своя фирма по трубам. Работает целыми днями!
«Сантехник, что ли?» – весело подумала Елена. И заключила, что в Германии, сантехникам, очевидно, живется неплохо.
Теперь Францл был дома почему-то в костюме и в галстуке, топорщил черные усы, сидел в гостиной на краешке дивана, в какой-то принужденно прямой позе, держал перед собой «Зюддойче цайтунг», и не говорил Елене ни слова, как будто это не она, а он – иностранец, и только благопристойно покашливал.
Катарина мельтешила на пахшей горячим хлебом кухне, все время клеймила пальцы о противень в духовке, айкала, бесконечно надевала и снимала ватные варежки (страшно похожие по стилю на ее же тапочки, которые она подарила временно Елене).
– И это – вы называете «грибами»? – со смехом ткнула пальцем Елена в скукоженные белесые наструганные шампиньоны, негусто валявшиеся в томатной подливке в начинке вегетарианской пиццы. В некоторой панике Елена пыталась сообразить, как бы объяснить, что имела-то она в виду керосиновый привкус Глафириных лисичек, подосиновых и белых.
Катарина, слегка обидевшись, предложила подложить еще шампиньонов, раз этих мало – потому что Марга купила еще пять пакетов, таких же (они теперь коротали век в вечной мерзлоте рядом с кубиками для коктейля).
– Нет-нет-нет, ни в коем случае! – как можно любезнее улыбнулась Елена, и снисходительно подумала, что даже заграничному волшебству есть предел.
Во Франкфуртском эмигрантском издательстве, куда она, спохватившись, принялась названивать в субботу, выудив благоговейно из кармана магический сложенный ввосьмеро номер, криво накаляканный Темплеровым на обрывке странички, никто к телефону не подошел.
Объяснить Катарине, почему она собирается бросить ее и уехать на несколько дней во Франкфурт, оказалось невозможно.
– За книгами.
– Ну так дай мне список всех книг, которые тебе хотелось бы прочитать – я проверю, нет ли их в мюнхенских магазинах! – нервно подвздрагивая сжатыми губами и взлетая всеми своими птичками на лбу, просила Катарина.
Пришлось объяснять всю российскую кутерьму. Которую Катарина, кажется, не очень-то поняла, и в которую, кажется, не слишком-то и поверила, как в истории про покушение на Санта Клауса; и положительно решила, что от нее спешат отделаться.
– А кстати, можно мне посмотреть твои книги, там, в гостиной, и взять чего-нибудь почитать на ночь? – вспомнила Елена.
– А у нас книг нету. Где? – испуганно переспросила Катарина (одной рукой мягко отваживая Бэнни, на взгляд которого пицца была явно вполне сносной – он уже встал на задние лапы, втягивал носом, и мерно, на цыпочках, облокачиваясь передними на кухонный столик, перетанцовывал к цели, отчего сзади был похож на балерину, которую зачем-то укутали в слишком толстую рыжую шубу и башлык). А потом прыснула: – А-а-а, там! Да это ж видеокассеты, а не книги! Ну, то есть, если ты очень-очень хочешь что-нибудь почитать – то – есть, пара книг. Вон там, в туалете возле маминой спальни в корзинке лежат. Но только это – комиксы, картинки: Францл очень любит иногда! – и потом, чуть понизив голос, чтобы Францл в гостиной не услышал, доверительно сообщила: – Францл, кстати, не мой родной отец – а приемный. Они с мамой уже после моего рождения поженились. Но для меня он – как родной.
После обеда – чинного, священно-молчаливого, во время которого все смотрели на Елену с благоговейными розовыми улыбками, подкладывали, пододвигали, подсыпали, дотягиваясь до ее тарелки через овальный розовато-палевый полированный стол (казавшийся – из-за криво нарезанной и уже дольками подъеденной гулливерcкой пиццы в центре на круглой доске – нездорово растянутым, деформированным, растекшимся циферблатом часов – где Марга сидела пополудни; Катарина – на очень выпуклых трех часах; Францл, прижимаясь к Марге – ютился на пол-одиннадцатого; а сама Елена занимала уверенную позицию файф-о-клок, и все никак не могла дождаться, когда же хоть чья-нибудь секундная вилка пробьет, наконец, время вставать из-за стола) – Катарина позвала Елену в гости к своему дружку Мартину.
Через несколько часов должно было нагрянуть мероприятие под загадочным названием «фондю и фламбэ» – дома у Аниных немцев.
– А пока можно повеселиться у Мартина: у него родителей сегодня дома нет! – как-то фривольно подмигнула ей Катарина – Туда сейчас еще пару друзей подъедут!
Памятуя вчерашнее веселье на дискотеке, Елена готовилась уже к самому худшему. «Если Мартин в школьном автобусе ее при всех целовал – то что же будет здесь?» – логически достраивала картину Елена.
Мартин встретил их на крыльце своего дома («на другом конце города» – как выразилась Катарина, – до которого идти пешком оказалось меньше пяти минут), протянул Елене, здороваясь, рептильи холодные пальцы, провел в комнату, где рядом с холщёвым, цвета ненастного неба, диваном вокруг низенького вытянутого прямоугольного столика были уже расставлены три кресла, и в двух из них сидели: один блондинистый, непонятно по какому поводу гоготавший краснолицый оболтус Фридл и девушка Лило, с выбритым виском слева и крашенной в зеленые и фиолетовые перья челкой, зачесанной на правый бок, с азартом и неподдельным пристальным интересом расковыривавшая коросту на правой бледной своей коленке.
– Ну, что?! Сыграем?! – с подозрительным азартом спросил вновь прибывших Мартин, потирая руки.
На столе вдруг оказалась – географическая карта (как показалось Елене) – и через секунду она с изумлением опознала в развернутой картонке плоское игровое поле для настольной игры из картонной коробки, в какую она последний (он же первый) раз играла в первом классе.
Мартин проявлял свой интеллект: сидя на диване рядом с Катариной, отреченно откинувшись, холодно, без всяких комментариев, сквозь ящеричные очки наблюдая шумную возню на поле остальных, – а потом вдруг, резким рывком наклоняясь к столу, педантично бросал кости в центр боевых действий, давал пендаля своим фишкам указательным ногтем и тоном философа коротко изрекал: «Дахин!»
Оболтусу Фридлу не везло. Он злился всё больше и больше.
Елена абсолютно не въезжала в смысл игры, механистично передвигая свои желтые фишки, и всё потихоньку пыталась выведать тайный резон всех этих телодвижений у расправившейся, наконец, с коростой Лило – но оказалось, что смысла никакого и нету – просто кто первым доберется всеми фишками до указанного (жирной зеленой стрелкой) кружка на плохо нарисованной горке – скача по воображаемым холмам и плоскогорьям, перемахивая через лежмя лежащие плоские заборчики, и избегая попадаться в нестрашно изображенные капканы, в которых, если влип, обязан был сидеть, пропуская шаг, пока все другие бутылообразные разноцветные фишки бодрой трусцой промахивали мимо, – и стараясь не суваться в засады с катапультами, которые отбрасывали тебя на несколько шагов обратно, откуда ты опять нудно начинал марш.
Мартин явно выигрывал.
Фридл не выдержал и, разозлившись, вскочил и перевернул все игровое поле, рассыпав пестрые фишки по сыровато-песочному ковру.
– Дашь ты мне пожрать чего-нибудь в конце концов, Мартин, или нет! Ради чего я к тебе сюда приперся через весь город! Я не могу сосредоточиться и играть на голодный желудок! Друг еще, называется!
– Цупф ди! Фридл! Как ты себя ведешь?! – зацыкали на него, впрочем, умиленно, девушки.
А Мартин, довольно посмеиваясь, ободряюще ударял Фридля крепким кулаком в плечо.
Елена всё с некоторой опаской ждала, когда же начнется веселье, но тут Катарина с вежливой улыбкой встала и чмокнула Мартина в щеку:
– Было очень хорошо, спасибо тебе большое, нам пора бежать!
В Аниной резиденции – вытянутом буквой Т двухэтажном просторном бежевом коттедже с ярко обведенными белой краской раздвижными стеклянными дверями, посреди еще нерасцветшего фруктового сада, на отлёте, в соседнем Грёбэнцэлле, где двумя днями раньше чуть не остался жить с незнакомой немецкой мадонной Чернецов, и куда теперь их с Катариной подкинула на машине Марга, – уже буйствовали страсти. Дьюрька успел наклюкаться домашней вишневой наливки (либерально выставленной на хирургического вида барном столике, с колесиками, хозяйкой дома – матерью Аниной подруги Ценци – полненькой розоволицей дамой с пластичными движениями; вместе с Добровольской они теперь в соседней комнате играли на пианино раннего Моцарта – в четыре руки, на перегонки, звучно наступая друг другу на пятки) и учинил дебош: вместе с Ольгой Лаугард и Руковой затеял перевод советского гимна на немецкий язык, с корявыми строфами, жуткими ошибками и белыми рифмами.
Когда Елена и Катарина вошли в дом, Дьюрька (заглушая фортепьянные потуги зальцбургского повесы, некогда безуспешно пытавшегося выдать на гора хоть одну приличную фугу) бравурно распевал на знакомый до боли в зубах советский мотив гимна:
Зиг хайль, у-у-у-у-нзэр фа-а-терланд!
Первый куплет, повторенный специально для Елены на бис, звучал у него так:
Union unzerstrbare der Freiheitrepublik’n Hat Russland verbunden im siebzehnten Jahr! Es lebe, geschaffen vom Willen der Vlker, Die Einheit und Strke der Sowjetunion
Дальнейшее пение, впрочем, звучало, при Дьюрькином переводе, еще матернее:
Sieg heil, unser Vaterland! Unser Freiheitsstaat! Freundschaft der Vlker ein richtiger Grund! Gibt es aber noch eine Kraft Lenins Partei ist das Die zu einer neuen Gesellschaft uns fhrt!
Словом, все встают под гимн – и бьют Дьюрьку по морде. Нет, конечно, никто с места не двинулся, все остались сидеть.
Дальше шла уж и вовсе похабель, строго по тексту.
Дьюрька довольно раскланивался перед хохотавшими одноклассниками.
– Фашизм какой-то! – охнула в сердцах не догнавшая особого Дьюрькиного юмора Таша, дослушавшая гимн до конца, внимательно наклонив голову, и все прямее натягивая растопыренными пальцами концы своих жестких блестящих волос с обеих сторон длинного каре. А потом встряхнув головой, разметав локоны, выпрямилась, и взбив пальцами скрещенных рук волосы на затылке, смерила Дьюрьку волоокими черными глазищами: – Это все равно, что у нас в Германии спеть гимн «Deutschland, Deutschland ber alles»! Или нацистский марш! У нас бы за такое на три года по закону сразу в тюрьму посадили!
Дьюрька, последний человек во вселенной, кого можно было заподозрить в советской диктаторской и колониаторской агитации, раскрасневшись, только хохотал, довольный, что устроил провокацию.
– А то с ними скучно! – подойдя к Елене, буянил Дьюрька. – Мой Густл сейчас, например, со мной в настольные игры играл! Ты не поверишь, Ленка! Разложил картонку на столе – и давай хряпать! Ходы, фишки, кости! Детский сад! Я даже сосредоточиться поначалу не мог и понять смысл игры – из-за полной, абсолютной плоскости! Равнинные игры фрицев!
– Не может быть! Мне кажется, ты просто клевещешь на добрых людей, Дьюрька! – потешалась над очаровательно пьяненьким, дебоширившим другом Елена.
Сладкое фондю было вместо шарад. И большинство из них разгадывать оказалось бесполезно – потому что разгадок в памяти не содержалось: манго, стар-фрукты, физалис, киви. Ценци ловко накалывала нарезанные кусочки фруктов из безразмерной салатницы на специальные деревянные шпажки с занозами, окунала в серебряные лохани с горячим белым или черным шоколадом и приглашала гостей отведать и угадать на вкус, что это.
– А вот это попробуй! – стонала Аня. – И вот, вот этот кусочек – кажется, это именно то, что я распробовала. Похоже на персик, но не он! Только макни не в черный шоколад, а в белый! Божественно!
– Это – нектарин! – подсказывала, радуясь, рот до ушей, маленькая, большелобая и умопомрачительно прыщавая Ценци.
Кудрявицкий, впрочем, выжирал шоколад прямо из специальных серебряных прудов, – эффективно работая, вместо всех этих хитростей, черпаком витой чайной ложечки с эмблемой Мюнхена на расплющенном кончике.
Чернецов в другом конце комнаты изводил Добровольскую:
– Нет, не понимаю я, Добровольская! Ну что ты нашла в этом пустоголовом венском фигляре с буклями? А? – ревниво очернял он ее музыкального идола. – Сплошные бравурные трели! Очень уж он сладенький! Хрюй! Никакой драмы! Я, например, Шуберта га-а-а-раздо больше люблю!
И, нацелив на Добровольскую, как пулемет, свою гитару, варварски забринькал шубертовскую серенаду, добавляя щедрый аккомпанемент, блюмкая губами и языком: