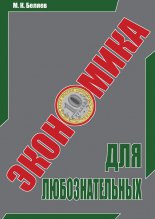Сияние предметов и людей (сборник) Филановская Лидия

Гектору не интересен скверик, от помойки я его отвожу, ведь он норовит здесь изучить какую-нибудь гадость, как-то жуткая кость или какая-нибудь гниль; остальная захламленная территория обследуется быстро. Каждое дерево здесь знакомо, все здесь пахнет Гектором, никакого нет «письмеца».
Я повела Гектора вокруг территории детского садика, что граничит с нашим сквериком. Мы обошли с ним все, а когда, возвращаясь, шли мимо соседнего дома, к нам прицепился какой-то тип. Рабочие, по всему судя, приезжие, возводили на газончике какую-то постройку, что-то типа охранной будки. Этот дом решил отделиться. Много квартир здесь куплено, зажиточные жильцы в складчину организовали строительство. Делают возле дома место для парковки, а на газончике возводят будку для охраны.
Так вот: какой-то пренеприятнейший тип (сам-то он ничего не делал, наверное, это был руководящий работник), подойдя к нам, очень невежливо заявил, чтобы я не гуляла здесь со своей собакой. Я не терплю агрессии в любом ее проявлении и на подобное отвечаю обычно в том же духе. Я сказала, что мне никто не может указывать, где мне гулять, что где хочу там и гуляю. Я была задета хамским тоном и поэтому особенно не торопилась уходить. Противный же тип не отставал: «Я же вам говорю, не гуляйте здесь со своей собакой!» – сказал он прежним скандальным голосом. Я в свою очередь повторила, что где хочу там и гуляю, что мне не нужны ничьи указания. Мне было сказано, чтобы я гуляла со своей собакой в своей квартире. Это очень напоминало известную сцену в фильме «Бриллиантовая рука», где управдом в исполнении Нонны Мордюковой орала на затюканного собаковода: «Вам предоставлена отдельная квартира, там и гуляйте!» Я сказала своему противнику, что если он будет со мной разговаривать в подобном тоне, у него будут крупные неприятности. Я расхрабрилась. Но, наверное, мой голос прозвучал слабо, а угроза не испугала, потому что мой визави как-то вдруг мне признался, и в этом я почувствовала даже поиск сочувствия и понимания, что он сам с самого детства – сплошная неприятность. Я уже совсем неприлично разошлась и сказала ему, что он мамина ошибка. Это было, наверное, с моей стороны совершеннейшим хамством, но он, представляешь, со мной согласился. На том мы и расстались.
Я вернулась домой. Уж и не знаю, развеялась ли я, отвлеклась ли. Может быть, и отвлеклась от себя, но не так, как хотелось бы. Снимаю одежду, вытираю собаку. Нужно выполоскать тряпку, вытереть пол. Ничего делать не хочется. Я чувствую, как вновь захлопывается моя раковина. Я буквально физически ощущаю, как смыкаются створки, и я остаюсь в темноте, без воздуха. Смешно и жалко, что я считаю себя жемчужиной и, конечно, не понимаю, как ограничен мой мир. Мне кажется, что я не в душной жесткой скорлупе, а царю в волшебном прекрасном мире. Да, я царица, иду рука об руку с тобой.
С детьми сейчас мама, я могу побыть в покое. Отдыхала бы и отдыхала от всех дни напролет. Попью чаю. Возьму самую любимую свою чашку белоснежного немецкого фарфора. Она расписана нежными голубыми цветами, эти выведенные кистью, прозрачные цветы как будто прикасаются к моему лицу. Такая грустная чашка, а от прикосновений цветов хочется плакать. Я опустила в кипяток пакетик с чаем. Чай медленно заваривается, наверное, ему тоже тяжело от грусти. Я немного поболтала пакетиком в воде, потянулись темные струи, вода становится темно-терракотовой, вкусной. Положу в чай сахар, хоть чем-то подслащу свое горе.
Моя бабушка очень любила пить чай… Отчего в той комнате, в которой мы с тобой, молодая чета, поселились, старая мебель? Откуда там старинное зеркало, платяной шкаф в стиле модерн, чудесная железная кровать, спинка которой украшена шишечками? Я говорила, что нам даже в самых смелых своих мечтах не уйти от своей памяти, от себя. Моя грусть, моя вечная ностальгия по тебе… И как это сложно объяснить, как эта тоска связана в моей душе с другой тоской, вечной ностальгией по моему детству, по бабушке, ведь именно в ее комнате стояла эта мебель. Что это такое – тоска, грусть? Некое болезненное чувство, где из одного корня, одного ствола идут ветви разных воспоминаний и впечатлений, но суть в одном, потому что на все одна причина? Нужно искать ту причину, по которой в твоей душе завелся этот корень. Кто-то его, может быть, заботливо посадил в плодородную, легкую и пушистую почву твоей молодой души – и теперь ты неизменно страдаешь, путешествуя, как одинокая птица, с ветки на ветку.
Моя грусть сегодня настолько сильна, что я чувствую шелест, горькое благоухание многих веток. Они качаются передо мной, возникая из тьмы, и тут я оказываюсь в старинном саду.
Мне трудно объяснить логику своих аллюзий. В них нет никакой иной логики кроме самих моих чувств. Сюжет – я ужасно беспокоюсь, что в этом произведении нет сюжета, фабула только в переживаниях, – в неразделенной любви к бесконечно далекому человеку.
Извини меня, несовременную дурочку, романтичную идеалистку, за то, что я позвала тебя в этот сад. Я так люблю бывать в старинных садах. Как жалок мечтатель сегодня, он, кажется, теперь никому не интересен, но что же мне с собой делать? Я должна прожить свою жизнь, но в то же время мне обидно, что я ничего больше не могу в своей ностальгической немощи, кроме как мечтать. Может быть, эти мечты будут хоть немного оправданы хилыми строчками, что время от времени появляются на бумаге.
Я присела на скамейку. Мне грустно, мне хочется видеть тебя – и вот сию секунду ты передо мной. Ты очень аккуратно одет, неброско, но изысканно и, это видно, дорого, как подобает быть одетому человеку твоего положения. Ты, мне кажется, сейчас был занят чем-то, а я, вызвав тебя, отвлекла от важных тебе, интересных дел. Я не знаю, как начать разговор. Я вдруг растерялась, хотя столько раз тебя видела, общалась с тобой (конечно, в своих мечтах), и спрашиваю твое мнение о погоде. Ты улыбаешься, понимая мое замешательство, растерянность, ты снисходительно соглашаешься поддержать беседу. Ты ничего не знаешь о сегодняшней моей сильной меланхолии. Это так интересно, что ты, в общем-то, из нее возникая, рождаясь, сам о ней ничего не ведаешь; ведь появляешься ты как раз в утешение: я с тобой становлюсь другой – энергичной, говорливой, смешливой, может быть и неглупой, но все равно обыкновенной, нормальной бабенкой.
Но я не знаю, что сегодня со мной, мне ужасно грустно; я начинаю говорить с тобой о моей бабушке. Все понятно: память о моей бабушке Леле, моей ненаглядной и незабвенной подруге – очень важная тема моей души. Она золотой ее фонд. Наверное, я хочу показать тебе свои богатства, описать подробнейшим образом, что невероятно дорого для меня, что является основой моей личности.
Мое трепетное, страстное отношение к тебе и память о моей бабушке несомненно имеют один оттенок – святости. Память о бабушке так же значима для меня, как твое присутствие в моей душе, моем сердце. (Но все же как мне объяснить, как мне самой почувствовать и понять это, что я пытаюсь говорить о своей вечной тоске и грусти, не просто говорить, а доискаться ее причины?)
Я сейчас рассказываю тебе о том, откуда взялась наша с тобой комната, об этой чудесной, самой светлой и уютной в мире комнате, где вся мебель, каждая вещь, мне кажется, расставлена с самым тонким и точным пониманием гармонии и красоты. Как описать эту чудную, похожую на воздушный торт, кровать? Восхищение от этих, вышитых бабушкой бордюров «ришелье», наволочек на подушках (их на кровати по старинной моде целая кипа – чем выше, тем меньше). Кровать высокая, я маленькая на нее забиралась с разбега. Как чудесно, упоительно было тут очутиться, на этом сонном корабле безмятежного покоя, рядом с теплой, милой, недавно проснувшейся бабушкой. На стене над кроватью висит удивительно уютный ковер, а сверху еще картина – романтичный, не яркий, но очень заманчивый сельский пейзаж – пастушок, пасущий овец. Возле кровати, накрытая так же вышитой, чистейший салфеткой, тумбочка, на ней изящная, витая бронзовая лампа, фотографии дочерей, моей мамы и ее сестры, моей тети Нины, ни с чем не сравнимые часики. Они круглые, в матовом металлическом корпусе, хорошенькие, как игрушка, и стрелки у них с красной прожилкой. Все здесь так чудесно, прекрасно, так бывает только в раю.
А чего стоит бабушкин буфет! Он кажется мне восхитительным, романтичным старинным замком. Сколько прелести в нехитрых его резных завитушках и, конечно, главная тайна – внутри. Как интересно, заветно все, что содержится в этом великолепном буфете-замке. Как опьяняюще прекрасны хрустальный графин, керамический желтый в зеленую точку кувшин, чудесная старинная сахарница с изящным бронзовым мальчиком, поднимающим бронзовую же ложечку. Я даже теперь не могу понять, что вся эта утварь была в сущности бедной, обыкновенной, она мне, как в детстве, кажется самой заманчивой и удивительной.
Моя милая Леля, какие у нее были руки, как штопала она ими и зашивала свои скромные износившиеся вещички, ведь жила она до смерти в бедности, получая крошечную пенсию. Но как она гордилась своей работой, и с какой радостью, самозабвением, как искренне я за нее ее хвалила. Никто никогда не лишит меня уверенности, что моя бабушка самая лучшая, самая умелая, самая добрая и веселая.
Я рассказываю тебе о своей бабушке, о ее удивительном жилище, и сама не понимаю, почему вдруг начинаю плакать. В этих слезах так много: мне жаль ее, мою голубушку, умершую через несколько лет в страшных муках, до последних дней верившую в выздоровление, в свои силы, мне жаль ее жуткой доли, жаль ее рук, постоянно штопавших ветхую от старости одежду, жаль ее бедных вещей, которыми она так дорожила, и мне почему-то жаль себя.
Хорошо, что пошел дождь. Я делаю вид, что стираю капли с лица, но на самом деле стираю свои слезы. Ты внимательно смотришь на меня, лицо твое очень доброжелательное, ты даже чуть-чуть улыбаешься. Я оглядываюсь. За нами стоит твоя охрана – внушительного вида серьезные парни, они ждут тебя, они наготове, они привыкли заниматься серьезным, ответственным делом. Поодаль, на дороге – машины. Одна из них твой роскошный представительный лимузин. Сейчас ты встанешь, тебе мгновенно откроют двери машины, и ты исчезнешь, умчишься по своим важным делам. Слезы предательски текут из глаз, я не могу их остановить. Все время пытаюсь улыбаться, но видно, что я плачу. Мной всецело овладело сиротское чувство, я не могу уже удержаться от слез.
– Давайте пройдемся, – вдруг говоришь ты и решительно встаешь.
Я тотчас вскакиваю. Ты берешь меня под руку, я замираю от счастья, платком, нашедшемся в кармане пальто, пробую незаметно стереть соленую влагу со щек. Что я там только что тебе говорила о своей бабушке, о ее милых вещицах, все это не стоит… не стоит… не стоит… Но все же мне так грустно… Лица твоих ребят очень серьезны, в них неприступность другого мира… Что на меня нашло, что я вся в слезах…
Я не понимаю, как это вдруг получилось, что ты стал нежно и бережно меня целовать…
Мне не хочется общаться с отцом, я не умею с ним говорить, но бывать в родном доме мне нравится. Конечно, я думаю, дело в любимой маме. Я до сих пор цепляюсь за нее, как детеныш обезьяны за свою мать – ни за что нельзя отпустить, в любом положении изо всех сил держаться. Ну как же не держаться за это ни с чем не сравнимое душевное спокойствие? Это чудесная райская бухта, а я тот корабль, который навечно остановился здесь.
В своей бывшей комнате усаживаюсь за письменный стол. Сколько я просидела за этим столом, делая уроки… Смотрю в окно. Пейзаж новостроек. Купчинские проплешины, огромный газон, за ним такой же, как наш, дом.
Но что это? Я вдруг чувствую, что мое безмятежное настроение меркнет. Вместо шелковых расписных тканей шевелятся внутри рваные тряпки. Не радость и счастье баюкают меня, а рвут на части голодные одичавшие собаки. Я не понимаю, что произошло, что случилось, пока я перелистывала вырезки из старых газет, – стихотворные рубрики, – припрятанные мною в ящиках стола. Газеты немного обветшали, они издают специфический запах, давно немыто окно – но не в этом, естественно, дело. Я ощущаю, как ко мне возвращается мое детское состояние, состояние раздрая и раздражения. Какая-то странная метаморфоза, как грустно, но и удивительно: ведь я, в сущности, не понимаю, что же вынесла из детства – душевный покой и уют или страшное раздражение, гнев. Я склонна сейчас думать, что скорее последнее.
Я знаю, что произошло – моя комната была следующей за кухней, за ней уже была комната родителей, в которой обитал отец. Яркое воспоминание детства: я сплю, моя мама уже встала, она пришла на кухню, понятное дело, у женщины всегда найдутся на кухне дела, мама тотчас, как пришла, включила довольно громко радио. Стены блочного дома тонкие; мне все прекрасно слышно, но я пытаюсь спать.
В это же время отец – он мог проснуться спозаранку, но никогда не вставал раньше двенадцати, а то и часа, двух, – включал свой приемник. Он брал его прямо с собой в кровать. Отец особенно любил делать погромче, как меня раздражал звук перестраиваемой волны… Я пытаюсь спать между двумя этими помещениями, но разные громкие звуки, естественно, не дают мне этого делать. Звуки, я думаю, не сами по себе меня угнетали, они настраивались на какую-то очень важную волну в моей душе, волну отношений родителей, и входили в разрушающий резонанс.
Сейчас, сидя за столом, водя грустно глазами по до боли знакомому голому пейзажу, я опять слышу эти два радиоприемника: один материнский, другой отцовский, – и мне плохо. Я чувствую, что ненавижу весь мир. Нет, не так: я ненавижу отца – это он не прав, включив свое радио – и поэтому в целом мире мне нет места. Мне хочется из него уйти. Но смерть страшна, и потом, я слишком люблю мою милую маму, она бы очень ругала меня за попытку распрощаться с жизнью, она бы такого никогда не поняла, я и придумала для себя другой уход – я ускользаю из этой жизни в ту, придуманную, к тебе. Нет, мне не нужен мир сказочного великолепия, хотя какая женщина откажется от красивого, чарующее действие красоты исцеляет от любой меланхолии, мне очень хочется красивых чувств, любви, и я понимаю, как много на самом деле я прошу.
Что я делаю здесь? Я подымаюсь резко со стула, в коридоре почти сталкиваюсь с отцом. Он, закончив слушать свой старый приемник, уже чем-то занялся. Далеко отставив правую руку, он тащит в левой полное ведро. Как-то даже странно мне это видеть, я так понимаю, что моющая в кухне полы мама попросила отца вылить в туалет ведро, и он согласился… Да нет же – он сам и вызвался, она бы на самом деле никогда не попросила его. Это не в правилах нашей семьи. Мама все делает сама.
Ведро полное. Отец неаккуратно несет его, расплескивая. На полу тут и там вода. Вылив грязную воду, отец возвращается к матери, поскальзывается на лужицах и ужасно смешно, уродливо падает. Ударяется не сильно, но я, сама не ожидая от себя, страшно пугаюсь – ведь у него больное сердце. Подлетаю к нему. У него у самого испуганное лицо. Почему-то при виде этого испуганного лица, выражающего беспомощность, у меня появляется ощущение досады, досады до боли. Внутри шевелится разочарование. Я даже не знаю, откуда сейчас взялось это чувство, но у меня такое впечатление, что это наподобие скелета в шкафу.
Как-то я поехала в один магазин бытовой техники. Со времен моей работы у меня была отложена небольшая сумма денег на покупку нового фотоаппарата, мне хотелось сделать Андрею подарок на день рождения.
День был будний, часов двенадцать, покупателей собралось немного. Я, побродив по магазину, наконец, нашла подходящие мне фотоаппараты.
– Вам что-нибудь подсказать? – возникла передо мной, появившись как из-под земли симпатичная, даже прелестная девушка.
На бейджике у нее было написано: «Наташа». Но я обычно стесняюсь обращаться к продавцам по имени.
– Покажите, пожалуйста, мне цифровые фотоаппараты на шесть мегапикселей, – попросила я.
И у нас завязался очень милый деловой разговор. Наташа оказалась действительно очаровательной девушкой, общаться с ней было одно удовольствие. Как она была терпелива, внимательна, как хорошо знала свою тему. Я все время невольно думала, смогла бы я так, и каждый раз с горечью отвечала отрицательно на этот вопрос. Но между тем никаких ревностных, неприязненных чувств к Наташе у меня не возникало, в какой-то момент я поймала себя на том, что просто любуюсь ею. Я понимаю: задача продавцов – продать товар, и у них есть какие-то свои профессиональные приемы; я же человек очень внушаемый и впечатлительный, но я не верю, что дело только в том, что мне хотели что-то втюхать. Наташа совершенно чудесная девушка – удивительно приятная внешне, с легким характером, – от таких сходят с ума парни. Я была прямо-таки в состоянии наваждения. Никогда я не получала столько удовольствия от покупки.
Мы выбрали нужную модель и двинулись на первый этаж к кассам. И вдруг мне что-то послышалось. Мне кажется, послышался знакомый голос. Я, не веря в худшее, пригляделась. Так оно и есть – у одной из касс стоял и скандалил мой отец. Наташа тут же подошла к покупателю, но уладить проблему, естественно, было непросто: отец, как я поняла, купил какой-то дешевый чайник и требовал, чтобы ему дали на него бльшую гарантию, обвиняя девочек-продавщиц в мошенничестве.
Нужно было слышать его речь. Трудно себе представить, что человек может так гадко разговаривать, так обижать другого. И нужно было видеть лица бедных девочек, они чуть не плакали. Обиженные, разочарованные лица.
Мне стало плохо. У меня закружилась голова и потемнело в глазах. Как я могла подойти к отцу и признаться тем самым окружающим, что я его дочь? Меня бы в этом магазине все возненавидели, и, конечно, Наташа, а ведь мы друг на друга произвели такое прекрасное впечатление. Я проскользнула между соседних касс и выбежала из магазина без покупки.
Вечером того же дня – это был день рождения Андрея – мы отправились с ним в супермаркет. Нужно было что-то купить к столу, потом Андрей планировал посмотреть бытовую технику. У меня сжалось сердце. Ведь я не купила ему подарок. Мне показалось, он сам хочет купить себе что-нибудь, как будто ничего иного ему не остается. К тому же я не позаботилась об угощениях заблаговременно, со мной такое случается. Я слишком зациклена на себе, на своих переживаниях и не способна осуществить что-нибудь дельное.
Мы вышли из машины. Я неудачно захлопнула дверь, она прижала мой шарфик. Андрей закрыл машину на замок и уже двинулся к супермаркету. Мне и так было перед ним ужасно неудобно, я чувствовала страшную вину, ведь я не сделала ему подарок, мне было жаль его и мне не хотелось лишний раз его тревожить. В конце концов какая ерунда – застрял шарфик. Я начала его тянуть, я была уверена, что легко заполучу его обратно. Но не тут-то было. Шарфик начал рваться. Я только смотрела во все глаза, как вдруг с краю лопнула ткань, и разрыв все увеличивался и увеличивался – ведь я так и тянула, тянула уже в досаде и исступлении.
Что произошло после, вообще вспоминать не хочется. Я чуть не крича и плача, начала дергаться в петле шарфика, обмотанного вокруг шеи. Мне было ужасно больно, мне, кажется, хотелось себя убить. Я слышала, как Андрей зовет меня, он не понимал, почему я не иду, что меня задержало. Когда он подошел, шарфик уже порвался и я освободилась из петли. Наверное, вид у меня был безумный, и Андрей, глядя на меня, тоже широко раскрыл глаза.
– Что случилось? – ничего не понимая, испуганно спросил Андрей.
– Я ненавижу тебя! – кричала я тихо, чтобы не привлекать внимание окружающих, но от этого мне становилось еще больней. – Это ты во всем виноват! Ты, противный отвратительный тип! Я не хочу тебя видеть! Вы все такие, мужики! Ты мне не нужен! Ненавижу тебя! Ненавижу!
Бедный Андрей, это был его день рождения. Он остался без подарка, без поздравления, ему же устроили отвратительную сцену. Почему я такое кричала? Потому что меня терзало чувство вины? Я уверена, все случилось из-за моего отца. Не встреть я его вэтот день, день был бы счастливым.
Мы – Андрей, мама и я – в Петродворце. День выдался пасмурный, но иногда проглядывало солнце. Каким пронзительным казался его свет. Яркие лучи тяжело ударялись о землю, как мокрые полотенца. Деревья все давно облетели, дул сильный ветер. Естественный колорит пейзажа можно было назвать коричневым: голые деревья и покрытая листьями земля, темное небо над всем. И как удивительно было видеть открывшуюся, словно с ширмы сорвали ткань, – ведь не было привычной зелени, – перспективу прекрасного парка. Как было красиво наблюдать с возвышенности дорожки, аллеи. Узоры на газонах, выложенные темными и светлыми камешками, были этим хмурым, срывающимся на истерику солнца днем восхитительны. И еще розовый, словно губы девушки, парковый павильон.
Мы спустились вниз, прошли мимо унылого неработающего каскада, все скульптуры которого были закрыты чехлами, и двинулись к заливу. Ветер озорничал, если так можно сказать о чем-то огромном, могучем, неуловимом, волшебном, о чем-то, что может исчезнуть или превратиться в стихию. Ветер был со всех сторон. Он толкал в спину, не давал дышать, то подгонял, то задерживал, крутился под ногами, как надоедливый пес. Потом мы к нему привыкли. Голоса детей звенели и уносились куда-то к пронзительному солнцу. Оно то и дело показывалось и вываливало на землю свой огненный мусор. Кутерьма звуков, и света, и сильного ветра, словно все ловят мячи, которые нельзя поймать.
Водой в эту пору совсем не пахнет – скорее землей и прелой листвой. Прошли по мосту, пересекающему канал, и совсем уже приблизились к Монплезиру, как к нам, чуть не крадучись, очень несмело, как зыбкая тень, подошел человек. Мужчина был плохо одет, но все же не походил на бродягу. На бледном лице отмечалось болезненно отрешенное выражение.
В усах и бороде ни одного седого волоса, их цвет – полежавшего в земле каштана. Мужчина, по-видимому, был довольно молодым, но что заставило его превратиться в тень, не болезнь ли?
– Вы не хотите посмотреть акварели? – спросил он тихим голосом, очень несмело, и добавил: – От тридцати рублей.
Мы что-то обсуждали в этот момент, мой муж буркнул:
– Нет.
Молодой человек исчез, мы пошли своей дорогой. Вдруг муж сказал:
– Пойдемте все же посмотрим, что он продает. Может быть, что-нибудь купим, тридцать рублей не деньги. Жалко его.
Мой муж, надо сказать, очень великодушный человек, а незнакомец действительно с первого же взгляда вызывал чувство жалости и сострадания. Мы подошли к молодому человеку. Он расположился со своими папками на газоне, у самого берега, тут же лежали и краски. Может быть, сперва он собирался рисовать, а потом передумал, а может, все это было бутафорией, и он так хотел показать нам, что его акварели выполнены прямо сейчас, с натуры.
Молодой мужчина, несмотря на то, что производил впечатление оторванного от жизни, не от мира сего, видно, понимал, как следует вести дела. Он открыл свои папки, представляя нам живопись. Не нужно было быть знатоком, искушенным ценителем изобразительного искусства, чтобы сразу все понять: за убожеством формы не скрывалось решительно ничего. Просто дрянные работы, вот и все. Тот, кто пытался выдать себя за художника, попросту не умел рисовать. Дети рисуют намного лучше, быть может, и неумело, но в их творениях всегда есть и выдумка, и чувство. Здесь же не было ничего. Не исключаю, что у молодого человека страдающая тонкая душа и сам он одинок и глубоко несчастен, но он не умеет, как ни крути, свои страдания обращать в свет шедевров.
Рот мой открылся от изумления, сначала я еще думала, что, возможно, обманулась в своем первом впечатлении, чего-то не поняла и передо мной не жалкие, убогие работы, а что-то значительное, и я только в силу своей неграмотности не могу по достоинству их оценить. Но муж и здесь оказался проворнее, он-то сразу все понял, нисколько не сомневаясь, что перед ним обыкновенная мазня. Он засмеялся хитро и горько в сторону, как бы делясь впечатлениями с нами, со мной и с моей мамой. Андрей, несмотря на свою независимость и даже некоторую бесцеремонность в общении с людьми, привык щадить чувства ближнего, тем более тонких натур. Я тоже усмехнулась в ответ, поддерживая наш незаметный диалог, мне уже стало все понятно. Лишь одна мама еще сомневалась. Очень внушаемый человек, она думала, – вернее, хотела думать, к этому ее побуждала неожиданно открывшаяся уверенность в себе молодого человека, что перед ней что-то особенное. Вид у Валентины, я часто зову маму по имени, был очень серьезный, сопереживающий. Она всем своим существом была обращена к художнику и его работам.
Мы же с мужем, сдерживая смех, выбирали разложенные перед нами на земле акварели. Художник доставал из папки новые работы, он изо всех сил пытался заинтересовать нас. Работы нам были совершенно не нужны, но мы все-таки выбирали, желая взять себе не самые плохие. Да-да, живопись нисколько не интересовала нас, нам просто хотелось дать денег этому явно больному человеку, неспособному, как видно, никак больше зарабатывать себе на хлеб. Работы же были «одна лучше другой», не на чем было остановиться. Наконец мой взор упал на одну акварель. Пожалуй, на ней был изображен совсем не залив, скорее озеро, берег озера и деревья; видно, натурой этой работе послужили совсем не красоты парка. Я показала на понравившуюся мне акварель, юноша сказал, однако, что ее за тридцать рублей отдавать жалко. Муж достал деньги. В его руках была сторублевая купюра, он был рад отдать больше и поскорее развязаться с этим мероприятием. Можно было подумать, что мы, общаясь с этим, с позволения сказать, живописцем, обсуждая возможность покупки его творений, перестали уважать себя. Молодой человек, увидев в руках Андрея деньги, начал предлагать купить нам у него их три и еще одну взять в подарок.
– Зачем тебе эти картины? – спросил меня муж вполголоса. – Давай дадим ему просто деньги, и всё.
Но я, не желая обидеть продавца, стала возражать. Молодой человек заметил, что летом у него покупают картины по сто рублей штука. Муж стал говорить, что и мы можем взять, но только одну, но молодой человек, быть может, усмотрев в этом пренебрежение, упорно предлагал нам три или даже четыре. Конечно, милостыня ему была совсем не нужна. Тут еще подключилась Валентина, она тоже сказала, поддержав тем самым несчастного, что нужно обязательно взять не менее трех работ. Зачем, в самом деле, зря разбрасывать деньги, тем более что акварели, возможно, очень ценные. Нужно было видеть, с каким выражением на лице она рассматривала рисунки. Молодой человек так умело торговался, что действительно можно было подумать, что он продает что-то особенное, тем более что повлиять на внушаемую Валентину ничего не стоило. Видя наш интерес к художнику, тут же стали подходить еще люди, возле него возник прямо ажиотаж.
Мы дали художнику сто пятьдесят рублей и взяли три акварели. Художник поставил на своих «шедеврах» подпись. Его, оказывается, звали Алексей, и он пояснил, что автограф его похож на изображение серфинга. Вот подпись, действительно, была красивой, на нее только, как видно, у него и хватало таланта.
Мы удалились со смешанными чувствами. Нам было и смешно, и обидно, впрочем, мы ведь сами захотели обмануться. Даже Валентина, наконец, все начала понимать и робко предположила, что, наверное, вместо шедевров мы приобрели никому не нужное и ничего не стоящее убожество.
Зачем же я опять тебе все это рассказываю? Может быть, все это не пустая болтовня. За сказанным есть что-то, произошедшее говорит мне о себе самой. Мне страшно: неужели при встрече я произведу на тебя такое же убогое впечатление? Неужели ты так же посмеешься над моим текстом, как мы над работами этого художника, и мои чувства покажутся тебе жалкими, бессильными, ненужными? Может быть, я и есть такой же больной? Ведь это не так, правда? Ведь я не буду жестоко осмеяна и раздавлена и мои переживания найдут отклик в твоем сердце?
Как ужасно мне думать, что я буду несостоятельной в своем произведении. Как страшно не состояться вообще в этой жизни, с горечью, с ужасом в конце концов признать, что из тебя ничего не получилось.
Я долго гневила бога своим плохим настроением, своей беспричинной тоской. Я накликала-таки беду – набежали тучи, над нами сгустился мрак. У мужа на работе произошли неприятности, и мы внезапно оказались совсем без денег. Приходится отказываться от привычного образа жизни. Раньше по выходным мы имели возможность зайти в какой-нибудь уютный ресторанчик, могли купить себе какую-нибудь вещичку или что-нибудь по хозяйству, например, новый утюг, потому что старый стал течь, теперь же такого нет. Мучительно перестраиваться, ведь в душе остаются прежние желания и потребности.
Зачем же я оставила работу? Теперь я так себя ругаю за это. Сквозь гнев и раздражение на отца ко мне пробивается ощущение, что он был прав. Были бы хоть какие-то деньги. На мое прежнее место давно уже взяли человека. Так просто в один день никуда не устроишься. И потом, действительно, не бог весть какая у меня квалификация, а там, где платят большие зарплаты, много и требуют…
Сегодня суббота. Нужно съездить на дачу, проверить, как там, а мне во что бы то ни стало хочется пройтись по заветной улице. Шестая и Седьмая линия – тихая гавань моей души. Поздняя осень. Уже смеркается. Если бы я была художником, рисовала бы все время этот уголок Петербурга. Вечная, неисчерпаемая тема любви. Все здесь для меня живое, имеющее душу, именно потому, что все здесь наполнено моей душой. Старенькие дома, дающие кров и уют. Они, убаюканные осенним дождем, сладко, как дети в колыбелях, дремлют. Из-под полога крыш виднеется светлое, умиленное личико – зажженное окошко.
Почему не заглянули в «Макдональдс» – перехватить хотя бы самый простой гамбургер, что подешевле, не знаю. Детям тут нравится «хеппи мил», а вот что меня привлекает в фастфуде, так сразу и не объяснишь. Не дух ли коллективизма? Большое количество людей, все едят приблизительно одно и то же, и очень простое, к тому же полученное в очереди, где всегда царит некий ажиотаж, предвкушение добычи.
Наверное, это Андрей предложил все-таки идти не в «Макдональдс», а в маленький недорогой ресторанчик напротив. Он-то как раз не любит штамповки, и полагаю, как мужчина, особенно в еде. И потом, ему как никому из нас сейчас нужна хотя бы краткая прививка комфорта, благополучия.
Ресторанчик, в которой мы зашли, довольно интересное местечко. Оформлен в немецком стиле, в нем есть что-то от пиджачка, сшитого вручную, отличающее его от изделий дорогих фирм. Его штучное, недорогое убранство привлекает незатейливым бабушкиным уютом. Еще чуть-чуть – и мне будет здесь хорошо, но, к сожалению, этой необходимой капли отсюда не выжать. Может быть, оттого, что хозяевам не хватает аккуратности. В обстановке нет лоска. Хотя, что я требую от этого ресторанчика, если бы сюда добавить эту драгоценную каплю, то было бы какое-нибудь стильное, модное место с заоблачными ценами.
Одежду здесь можно вешать на крючок при входе, но мы забираем наши намокшие под дождем куртки с собой за стол, пристраивая их на спинки стульев. Приятный полумрак. Все освещение – висящие над столами лампы в абажурах. Сами столы покрыты клетчатыми скатертями. Почти все сейчас заняты. Курить здесь нельзя, похоже, из-за плохой вентиляции. Тока воздуха не чувствуется, здесь всегда душновато. Потолок отделан деревянными панелями, что-то в этом есть сельское. По стенам развешаны старинные фотографии, около нашего столика в углу – витрина. За стеклом какие-то дешевые безделушки, недорогие фигурки из фарфора. Я вижу декоративный чайничек, перед ним как будто небрежно брошен букетик засохших цветов. Вот еще интересная вещица – керамический домик. Это, как я понимаю, изображение швейцарского шале. Посмотреть бы на него, настоящее, хоть издали. Буду ли я еще когда-нибудь в Швейцарии?
Смотрю на все и не понимаю, есть ли у хозяев фантазия и вкус или нет. Во всяком случае, они люди оригинальные и самобытные, ведь нигде в Петербурге я подобного интерьера не видела. Чувствуется, что все здесь сделано, как говорится, своими руками. Дизайнеров наверняка не приглашали, а предметы интерьера собирались постепенно, как соломинки для гнезда, так всегда бывает дома.
Еда же тут так себе. Особенный только фруктовый пирог, все остальное как в самых обычных дешевых бистро. Денег у нас в обрез, можно сказать, обедая здесь, мы шикуем не по средствам. Почему, спрашивается, обязательно нужно было идти в ресторан, хотя бы это и был ресторанчик, неужели нельзя было потерпеть свою боль? Все дело в привычке?
Мы не можем заказать ничего существенного, никакого мясного или рыбного блюда, довольствуемся омлетом. Я вижу, что Андрей съел бы еще что-нибудь, что он остался голодным, но муж уверяет меня, что сыт. Он хочет, чтобы я заказала себе на десерт так понравившийся мне в прошлый раз фруктовый пирог. Мне тоже еще хочется есть. Глотая горечь, я прошу принести пирог. Я обязательно отдам половину Андрею. Зачем мы пришли сюда?
А ресторанчик уже украшен по-новогоднему, хотя на дворе еще ноябрь. На окнах висят яркие электрические гирлянды, на подоконниках в вате, совсем в духе моего детства, стоят Дед Мороз и Снегурочка. Я смотрю на красочные, мигающие огоньки гирлянд, и у меня в глазах стоят слезы.
Что сейчас делаешь ты? Счастлив ли ты в эту минуту? Отчего-то мне кажется, что да. Я представляю, что вот именно в этот момент, в дождливый ноябрьский вечер ты проводишь небольшое совещание в своем кабинете. Ты занят работой, ты уверен в успехе, у тебя есть все, чтобы добиться своего. Как четко я вижу твое лицо, говоря языком кинематографистов, оно сейчас передо мной крупным планом. Твой лоб кажется немного влажным от яркого света, я вижу твой нос и двигающиеся губы, твои волосы, глаза, они сейчас буравят твоего собеседника, несколько перепуганного. Ты, кажется, отчитываешь нерадивого, призываешь его быть ответственней. Разговор жесткий, голос твой, я буквально слышу это, стал жестяным.
У меня появилась привычка, что ли, подглядывать за тобой. Сколько глаз хотят видеть тебя, а я ведь действительно вижу. Кто же сможет мне возразить, что все не так? Я уверена, что сейчас ты распекаешь кого-то на совещании. Хотя, конечно, может быть, все совсем иначе. Ты в эту минуту, возможно, просто спишь, а может быть, с каким-нибудь другом охотишься, занимаешься спортом на свежем воздухе, совершаешь конную прогулку, ведь в твоей стороне наверняка сейчас светит яркое солнце.
Но вдруг я вижу твое сопереживающее лицо. Ты как будто услышал меня, и тебе стало так же грустно. Ты готов меня утешить, поддержать, я чувствую, ты понимаешь меня, для меня это очень важно. Я чувствую связь с тобой, я верю в твою доброту, в твое великодушие, тебя не оставляют равнодушным мои чаянья, страхи, нужды.
Любимое место, эти василеостровские линии, отчего же они для меня так привлекательны, так интересны? Наверное, потому, что с ними связаны впечатления детства. Самый любимый и интересный для меня кусок – от Среднего до Малого и чуть дальше, где стоит дом, в котором я жила с родителями до пяти лет.
Милое захолустье великого города. Когда я думаю, что нигде в целом мире нет подобного уголка, сердце мое сжимается сладко. Недалеко друг от друга здесь располагаются две довольно большие церкви. Одна мне дорога потому, что стоит совсем близко от того дома, в котором жила я. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Неужели только потому, что я помню ее с детства, она кажется мне такой красивой?
Если бы ты знал, как мне хочется описать здесь подробно каждый дом, уголок, как будто это и есть уголки моей души, полочки, на которых теперь, как драгоценные ткани, разложены самые чистые, святые чувства любви.
Вот здание с большими школьными окнами, с башенкой, у которой купол как луковица, зеленый, очень аппетитный. Что здесь находится нынче и находилось тогда, во времена моего детства, я так и не знаю. Но дом этот очень походит на учреждение и характер его такой же, как у стареющей классной дамы, но она, эта дама, совсем не зануда и не ханжа, любящая школить, она очень душевная, открытая.
Далее стоят два небольшие трехэтажные дома, один почти серый, другой желтоватый. Они очень похожи своей статью, но, в общем, оба очень скромные. Обыкновенные горожане, их, может быть, не заметишь в толпе, пройдешь мимо, но я так просто мимо них пройти не могу.
Небольшой открытый дворик за этими домами, словно маленькая площадь. Мне кажется, в нем всегда сумерки пасмурной ранней весны. Но если бы ты знал, как мне мила грустная кротость этого типичного петербургского пейзажа…
За двориком два довольно длинных и низеньких дома всего в два этажа. Дома, конечно, очень старинные. Высокие бельэтажи, окна украшены лепными карнизами. Один дом бледно-желтый, другой красивого цвета сангины. В желтом доме, том, что пониже, видно, недавно куплена квартира – в окна вставлены новые современные рамы. Два этих маленьких домика очень уютны на вид, какой-то сонной провинцией веет от них. Весь наш прекрасный, величественный город превращается в провинциальное захолустье. Миленький, сделай что-нибудь с этим, не дай умереть красоте. Но я на самом деле люблю это место, в глубоком патриархальном сне, в этой заброшенности для меня столько заветного и дорогого.
За этими двумя домиками поликлиника и школа. Здание поликлиники новое, типовое, школа тоже из новых, но все мне здесь кажется удивительно гармоничным, красивым, так восторженно, наверное, действует на меня моя младенческая память. А рядом со школой та церковь Благовещения.
Зиждится эта красота только на моей ностальгии или действительно моя улица так необыкновенна, живописна и разнообразна? Я не знаю, я свято верю, что все здесь прекрасно. А что там напротив! Какие романтичные, окруженные старинными деревьями особнячки. Эта картина неизменно бередит мое воображение, пробуждая мечты. Мне хорошо здесь в какую угодно пору, и всегда я ищу опору в этих пейзажах. Эти линии, цвета, формы удивительно благотворно действуют на меня.
По соседству несколько очень красивых домов, высоких, величественных, благородной архитектуры, богато украшенных. Это аристократы нашей улицы. У одного барочные завитушки как усы – это генерал; здание в стиле модерн подле – романтически красивая дама.
Несколько домов дальше к Малому – чиновники разных рангов, от обыкновенного письмоводителя (это серый не слишком яркий и презентабельный дом) до какого-нибудь статского советника (это тот нарядный и представительный дом на углу Малого и Шестой, с башенкой наверху).
Я малышкой здесь часто ходила с родителями, когда, например, мы возвращались из магазина или гостей, от бабушки, и, выходя из метро, направлялись к нашему дому. Наш дом на самом деле подальше, за Малым, не больно привлекательная часть этой улицы, примыкающая к речке Смоленке, но ведь все равно и здесь, возле бывшей фабрики «Беккер», мне как-то удивительно интересно, комфортно. Я смотрю на эти в общем-то мрачные, наводящие тоску трущобы с обожанием.
И вот – полюбуйся: этот страшный, угрюмый дом из темного кирпича – наш. Не дом – казематы. Но стоит ли говорить, что это здание для меня особенное? Нет, оно действительно очень интересное. Почему же? Четыре этажа, но с мансардой. Дом выглядит высоким, каким-то даже странным, а неказистая, грубая на первый взгляд, одежда его украшает. Сам дом не длинный, в семь стандартных окон, но к нему примыкает большой флигель. Низ этого флигеля нежилой, он занят складами.