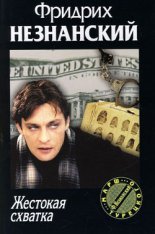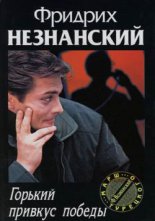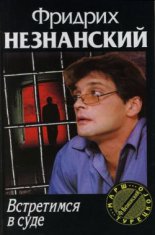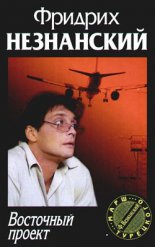Виртуальный свет Гибсон Уильям

– Подожди-ка секунду, – сказал Райделл.
Прикрытые розовыми очками глаза несколько раз моргнули.
– Ты это про карманный телефон, да? Насчет подключить его каким-то там хитрым образом и говорить на халяву, так что ли?
Хмырь молчал, смотрел на Райделла во все глаза, как на чудо какое, и молчал.
– Большое спасибо, только у меня нет при себе телефона. – Райделлу не терпелось закончить поскорее этот никчемный разговор. – А то бы я с радостью принял твое соблазнительное предложение.
Хмырь продолжал пялиться.
– Где-то я тебя вроде бы видел… – он неуверенно смолк.
– Ни в коем разе, – твердо отрезал Райделл. – Я из Ноксвилля. И тут, у вас, впервые – забежал спрятаться от дождя.
Длинное, во всю стенку, зеркало, висевшее за стойкой, густо запотело, первоначальная надежда осмотреть с его помощью зал не оправдалась. Ничего не поделаешь, придется так, в простоте. Райделл повернулся и увидел японку – ту самую, что и тогда, в горах, здорово тогда Саблетт испугался. Японка стояла на небольшом, низеньком подиуме. Голая. Длинные, почти до талии, волосы – и все, никакой больше одежды.
– Слышь? – не отставал хмырь. – Нет, ты послушай…
Райделл встряхнулся, как мокрая, из реки вылезшая собака, но привидение никуда не исчезло.
– Так ты слышь, можно и в кредит. – Снова тот же монотонный, утомительный бубнеж. – Проблемы есть? Может, ты хочешь узнать, что они имеют на тебя? Или на любого другого, если у тебя есть номер…
– Подожди, – сказал Райделл. – Вот эта вот женщина, видишь? – розовые очки развернулись. – Кто это?
– Голограмма это, – сообщил хмырь нормальным человеческим голосом и удалился.
– Ну, ты даешь, – уважительно протянул бармен. – Отшил Билли Говнилу в рекордно короткое время, прямо хоть в книгу Гиннеса. Честно заработал себе пиво. – Бармен, черный парень с медными бусинами в волосах, весело ухмылялся. – Билли Говнила – это потому, что он и сам говно, и все его предложения – тоже. Подключит к твоему телефону какую-нибудь коробочку, без ничего внутри, без батарейки даже, понажимает для вида кнопки, навесит лапши, возьмет деньги – и поминай как звали. Говнила – он и есть Говнила.
Длинные черные пальцы ловко откупорили бутылку, поставили ее рядом с той, недопитой.
Райделл еще раз оглянулся. Японка так и не сдвинулась с места.
– Зашел вот от дождя спрятаться, – пробормотал он, пытаясь поддерживать нечто вроде светской беседы.
– Да уж, погодка, – кивнул бармен.
– Слушай, – решился, наконец, Райделл, – а вот эта, вон там, на сцене, женщина…
– Это – танцовщица, Джози ею танцует, – еще шире ухмыльнулся бармен. – Подожди чуток, вот будет подходящая песня – она сразу ее запустит.
– Джози?
Бармен молча ткнул пальцем в глубь зала; Райделл чуть не присвистнул от удивления.
Странно, мелькнуло в его голове, и как это обыкновенное инвалидное кресло выдерживает вес такой туши? Толстая баба была одета аккуратно, даже с некоторой претензией на элегантность: ослепительно-белый свитер и синий, с иголочки, комбинезон без рукавов, сшитый на манер детских ползунков; седые жесткие волосы сильно смахивали на стальную проволоку. На жирных коленях Джози лежал какой-то продолговатый предмет из серого пластика, ее руки были спрятаны в этом предмете, как в муфте. Глаза прикрыты, на сером, словно из теста вылепленном лице – ноль эмоций. Даже и не поймешь, спит она или нет.
– Голограмма, да?
Японка все еще не шевелилась. Райделл отчетливо помнил ту ночь, женщину на шоссе. Серебряная корона с рожками. Волосы на лобке, подбритые в форме восклицательного знака. Ничего этого сейчас нет, но нет и сомнений. Это она. Она.
– Любит Джози проецировать, хлебом ее не корми.
Бармен словно извинялся за капризного, непослушного ребенка.
– Из этой штуки, у нее на коленях?
– Вроде того, – кивнул бармен. – Это интерфейс, а сам проектор – вон там. – Он ткнул большим пальцем через плечо. – Над знаком НЭК.
Чуть повыше старинной, подсвеченной изнутри рекламной эмблемы чернело нечто вроде оптической кинокамеры, какими пользовались в прошлом веке. А что это такое – НЭК, пиво или что? Вся стена была увешана и оклеена такими значками; названия некоторых фирм вызывали у Райделла смутные воспоминания. Похоже, все это были рекламы древней электроники.
Райделл перевел взгляд с черного угловатого прибора на толстуху в инвалидном кресле. Его охватила непонятная тоска. И нечто вроде злобы. Вроде как если потеряешь что-нибудь личное, дорогое для себя.
– Даже и не знаю, чего я, собственно, ожидал, – сказал он не то чтобы бармену, а так, самому себе.
– Тут кто хочешь ошибется, – понимающе кивнул бармен.
Значит, кто-то сидел там, на склоне, чуть повыше дороги. Машины подстерегал. Вроде как они, школьниками еще, прятались за кустами на Джефферсон-стрит. А потом кидали под колеса проезжающих машин пустые консервные банки. Звук – ну точно как если ступичный колпак отвалится. Машины тормозили, водители вылезали на дорогу, смотрели, как и что, трясли головами. И там, в долине, было что-то вроде, какие-то ребята играли с дорогой игрушкой.
– Хрен с ним, – сказал Райделл и начал высматривать Шеветту Вашингтон; запахи пива и дыма исчезли за густой вонью пота и мокрой одежды.
А вот и они, девушка и двое ее приятелей, в самом углу, за маленьким круглым столиком. Тот, похожий на тень, скинул свой капюшон, явив изумленному миру голову, поросшую короткой белесой щетиной, с летучей мышью, а может – какой птицей, отсюда не разберешь, вытатуированной чуть повыше левого виска. Потому, наверное, и лысый – отпусти он волосы, так вся красота пропадет. Ручная работа, не компьютерная. Лысый – его маленькое жесткое личико было повернуто к Райделлу в профиль – молчал. Шеветта что-то объясняла второму, выглядела она безрадостно, еще секунда – и расплачется.
И тут музыка изменилась, вступили барабаны, казалось, что их, барабанов этих, тысячи и миллионы, что за тонкими стенками бара выстроилась несметная армия барабанщиков, и на этот неумолчный грохот накатывались волны шипения и свиста, вроде помех в радиоприемнике, накатывались, и откатывались, и накатывались снова, а затем вступили женские голоса, только голоса эти звучали не по-человечески, а вроде каких-то птичьих криков, и все это искусственное, синтезированное, голоса улюлюкали, как сирены полицейской машины на пустынном шоссе, а барабаны, если прислушаться, также не были барабанами, а состояли из крошечных звуковых обрезков, или там осколков, и все это гремело, било по ушам и по нервам.
Японка – голограмма, напомнил себе Райделл – вскинула руки, качнула бедрами, заскользила по сцене петлями и восьмерками медленного шаффла.[21] Не обращая внимания на барабаны, она подчиняла свои движения океаническому ритму шумовых волн, мерно накатывающихся на крохотный зал. Райделл оглянулся – глаза студнеобразной Джози были широко открыты, запястья рук, засунутых в пластиковую муфту, шевелились.
Никто из посетителей бара не уделял танцу ни малейшего внимания, только они двое, Райделл и женщина в инвалидном кресле. Впрочем, Райделл и сам смотрел на голографическую японку вполглаза, его занимала сейчас совсем иная проблема: что делать дальше?
Оперативное задание выглядело следующим образом: лучше всего, если ты доставишь очки и девицу, очки без девицы – чуть похуже, но тоже вполне удовлетворительно. Если очков нет – тащи хотя бы девицу.
С шорохом отхлынула последняя волна электронного прибоя, японка замерла. Кое-кто из посетителей захлопал, прозвучало несколько пьяных, ободряющих выкриков. Джози изобразила нечто вроде поклона.
Самое ужасное, думал Райделл, что вот эта втиснутая в инвалидное кресло женщина попросту не умеет толком танцевать свою голограмму. Вроде этого ноксвиллского слепого, который сидит с утра до вечера в парке и бренчит на старой, антикварной, считай, гитаре. Он, слепой этот самый, добыл где-то эту гитару, но играть на ней не умел, абсолютно. И сколько он там ни сидит, сколько ни мучает инструмент, ни одного аккорда так и не выучил. Неверно это как-то, вроде даже нечестно, только вот не понять: по отношению к кому нечестно? К старику-слепому, к ни в чем не повинным прохожим или к гитаре?
Заметив, что за ближайшим к Шеветте столиком встают, Райделл прихватил честно заработанную бутылку, перебазировался на одно из освободившихся мест и напряг уши. Хрен там что услышишь, при таком-то шуме. Хорошо бы, конечно, встрять в их разговор, только как это сделаешь? Райделл не чувствовал себя в этой пивной белой вороной, чужеродным элементом; судя по всему, здесь сидела сейчас разношерстная публика, не постоянные клиенты, а случайные люди, забежавшие спрятаться от дождя. Но он не понимал этого заведения, его духа, его идеи. Вот, скажем, название, «Когнитивные диссиденты» – ну с чем это, спрашивается, едят? Узнать у кого-нибудь? А что толку, сильно это тебе поможет? Тем временем разговор между Шеветтой Вашингтон и ее парнем заметно накалялся.
Ее парень, это точно. Во всем поведении Шеветты, в каждом ее жесте чувствовалась Отшитая Подружка, а парень, так тот прямо из кожи вон лез, чтобы продемонстрировать, насколько безразлична ему какая-то там быв…
Мудрые эти рассуждения мгновенно утратили всякий смысл. Шум в зале смолк, Райделл поднял глаза и увидел на нижней ступени лестницы знакомую фигуру Орловского. Голову вурдалака из отдела убийств СФДП прикрывала нежно-оранжевая пластиковая шляпа с примятой посередке тульей и закрученными вверх полями; странные, не как у людей, половинковые очки зловеще поблескивали. Орловский расстегивал пуговицы потемневшего от влаги плаща, вокруг его ботинок быстро набегала лужа. Под плащом обнаружился знакомый уже Райделлу бронежилет; расстегнув последнюю пуговицу, рука Орловского легла на гладкую, цельнолитую из оливкового пластика рукоятку «хеклер-и-кох». На этот раз Райделл разобрал, что пистолет у этого красавца очень и очень приличный, плавающий затвор и все такие дела. Зато бляхи полицейской, висевшей в тот раз на нейлоновом шнуре, он не обнаружил, сколько ни старался.
Весь бар молча вытаращился на Орловского. «Явление Христа христопродавцам», неизвестный художник, XIX век.
Орловский неторопливо осмотрел зал. Полуприкрытые полуочками глаза отпускали каждому из присутствующих щедрую дозу Парализующего Взгляда. С его приходом даже музыка, монотонный техно-долбеж, похожий на взрывы бомб в резонансных камерах, зазвучала иначе, обрела новый смысл.
На лице Джози, разглядывавшей русского из своего инвалидного кресла, появилось какое-то напряженное, непонятное Райделлу выражение.
Заметив Шеветту Вашингтон, Орловский зашагал к ее столику. Он двигался с подчеркнутой, выматывающей нервы медлительностью, волосатые пальцы сжимали рукоятку пистолета.
Райделл все больше и больше опасался, что русский возьмет вот сейчас и застрелит девушку. Все вроде бы к тому и шло – но разве может коп сделать такое?
Орловский остановился перед столиком на точно выверенной дистанции – не слишком близко, чтобы выхватить оружие и перестрелять парней, если те дуром на него кинутся.
«Кавалер» совсем обосрался, Райделл отметил это с непонятным для себя самого удовлетворением. Лысый замер, застыл, не живой человек, а восковая фигура. Его руки лежали на столе, в левой ладони чернел карманный телефон.
Свет флуоресцентных ламп придавал лицу Орловского пепельно-серый оттенок, четко прорисовывал каждую морщинку. И хоть бы малейшая тень улыбки. Он пронзил девушку стокиловольтным глазным излучением, тронул левой рукой поля пластиковой шляпы и сказал:
– Вставайте.
Девушку била мелкая дрожь. Ни у кого не возникло сомнений, что Орловский имеет в виду ее, а не парней. Обосравшийся кавалер побледнел, того и гляди, в обморок шлепнется, лысый продолжал изображать из себя восковую фигуру.
Шеветта поднялась на дрожащих, подламывающихся ногах. Ее стул упал, негромкий стук показался Райделлу грохотом.
– Выходи.
Движением подбородка Орловский указал на лестницу. Волосатая лапа все так же лежала на рукоятке.
Райделл судорожно напрягся. Его руки сжимали края столика. Снизу столик был густо облеплен засохшими комочками жевательной резинки.
Свет в зале потух.
«Джози швырнула на него свою голограмму, и это выглядело точь-в-точь как в конце „Затерянного ковчега“, когда все ангелы, или кто уж там они были, вылетели клубком из сундука и бросились на фашистов» – в таких словах описал Райделл последовавшую сцену Саблетту, но разговор их состоялся позднее, через много дней.
А тогда было не до сравнений, события развивались слишком быстро. Потух не только верхний свет, потухли все лампы, до последней, даже эти рекламные знаки на стене, и Райделл вскочил, ни о чем даже не думая, а так, автоматически, отшвырнул столик вместе с так и не допитой бутылкой дармового пива и бросился туда, где стояла Шеветта. В то же мгновение на стене – чуть повыше рекламы этой загадочной НЭК, только сейчас рекламы не было видно – вспыхнула ослепительная точка, и точка эта рванулась вниз, превращаясь по дороге в трехфутовый, а то и больше, шар света. Желтоватый такой шар, или, лучше сказать, цвета слоновой кости, одним словом, точно такой же, как кожа той японки, и весь в темных пятнах, фрагментах глаз и волос, и он вертелся волчком, как снятая со спутника Земля на экране телевизора в заставке прогноза погоды. И все это – вокруг головы Орловского и его плеч, и когда шар вращался, на нем мелькала то прядь ее волос, то глаз, то рот, разинутый в беззвучном крике, и все это – увеличенное. Каждый глаз становился на долю секунды огромным, во весь шар, и зубы тоже огромные, с руку длиной.
Орловский вскинул руки, отмахиваясь от неожиданной напасти, как от роя мух, и это его задержало, чуть-чуть, но задержало, и он не успел выхватить пистолет.
Убедившись (спасибо шару за освещение), что схватил в темноте именно Шеветту, а не Кавалера или Лысого, Райделл сгреб ее в охапку и бросился к лестнице; в Академии учили специальным приемам и захватам, чтобы задержанный шел с тобой и не рыпался, однако сейчас, в нужный момент, академическая премудрость вылетела у него из головы.
Орловский орал вслед нечто совершенно непонятное – по-русски, наверное.
Райделлов дядя – тот, который служил в Африке, – говорил, что любит смотреть на женские задницы, как они перекатываются на ходу, ну прямо тебе две росомахи в холщовом мешке. Сейчас, когда Райделл тащил Шеветту Вашингтон по лестнице, странное это сравнение наполнилось для него новым глубоким смыслом – и безо всякого там сексуального подтекста.
Еле ребра уцелели.
22. Неприличная фамилия
Шеветта не успела заметить, кто это ее схватил, да и какая, собственно, разница, что один бандит, что другой. Она брыкалась как бешеная, но без особого успеха – разве ж тут ударишь хорошенько, когда этот гад тащит тебя на вытянутых руках.
А потом он споткнулся и чуть не упал, и они оказались снаружи, на верхнем уровне, и в руке высокого, здоровенного мужика был здоровенный пластиковый пистолет, или там автомат, очень похожий на детскую игрушку, их тоже делают такого вот грязно-зеленого цвета, который называется «защитный», и на мужике этом был такой же плащ, как на том, другом, который остался внизу, а шляпы не было, ни пластиковой, никакой – только мокрые волосы, гладко зачесанные назад, а еще кожа у него на роже была натянута неестественно туго, прямо как на барабане, чуть-чуть – и порвется.
– Отпусти ее, мудила.
Странный был акцент у этого мужика, вот так же точно говорил какой-то монстр в одном старом фильме ужасов. Тот, другой, который вытащил Шеветту наружу, поставил ее на землю, она не успела напрячь ноги и едва не грохнулась.
– Только пошевелись, – сказал монстр с пистолетом, – и я тебя, мудилу…
– Уор… – тот, зацапавший ее, согнулся пополам и начал хрипло, натужно кашлять. – …бэйби, – добавил он, выпрямляясь, а затем ощупал свои ребра, болезненно сморщился и пробормотал:
– Ну, мать твою, и лупишь ты ногами.
Вот этот – точно американец, только не с Тихоокеанского побережья. Рукав дешевой нейлоновой куртки почти оторван, из дырки лезет какой-то белый пух.
– Только пошевелись…
Пластиковый ствол глядел этому, драному, прямо в лицо.
– Уор-бэйби, уор-бэйби, – сказал драный, во всяком случае, звучало это именно так. – Уор-бэйби поручил мне найти ее и привести. Его машина припаркована у въезда, сразу за этими надолбами, он сидит там и ждет меня. С ней.
– Аркадий…
Ну вот, еще один явился. Старый знакомый. Теперь из-под его дурацкой шляпы торчал короткий тупой рог – объектив прибора ночного видения. В правой руке – какая-то круглая штука – аэрозольный, что ли, баллончик? Он махнул баллончиком в направлении лестницы и сказал что-то на непонятном языке. По-русски?
– Нельзя поливать перцем в закрытом помещении, – заметил тот, американец. – Люди ж до смерти с носоглоткой будут мучиться.
– Ты водила, да? – спросил Барабанная Рожа.
И тут же махнул своему напарничку левой, свободной, рукой, чтобы тот спрятал баллончик, или что уж там у него было.
– Мы пили кофе, а вы – чай. Шитов, так, что ли?
Не хочет, чтобы я знала его фамилию, подумала Шеветта, поймав на себе опасливый взгляд Барабанной Рожи. Да не боись ты, бандюга, ничего я не расслышала, мне и вообще показалось, что этот парень сказал: «Шит-офф», а ведь такой фамилии просто не может быть.
– Зачем ты ее утащил? – спросил Барабанная Рожа, Шит-офф.
– А если б она смылась в темноте? Я что, знал, что у этого, твоего напарничка, есть ночные очки? Кроме того, Уорбэйби меня за ней и послал. А вот вас тут вроде и не должно было быть, во всяком случае, я так понял.
– Отпусти! – заорала Шеветта.
Тот, в шляпе, грубо заломил ей руку. И когда это только успел он зайти сзади?
– Не бойся, – сказал американец. – Эти ребята из полиции. СФДП, отдел расследования убийств.
Успокоил, называется.
– Ну ты и мудила, – присвистнул Шит-офф.
– Копы? – переспросила Шеветта.
– Ну да.
Шит-офф громко, со злостью сплюнул.
– Пошли, Аркадий. Пока эти говнюки из подвала…
Шляпник снял прибор ночного видения и теперь нервно переминался с ноги на ногу, почти приплясывал – точь-в-точь как перед запертой кабинкой туалета.
– Подождите, – сказала Шеветта. – Сэмми убили. Вы же копы, вы должны что-то сделать. Он убил Сэмми Сэла.
– Какой еще Сэмми? – заинтересовался тот, с оторванным рукавом.
– Мы с ним работаем! В «Объединенной»! Сэмми Дюпре. Сэмми. Он его застрелил!
– Кто застрелил?
– Рай-делл. Заткни хле-ба-ло.
– Она говорит нам, что обладает-информацией-связанной-с-возможным-убийством, и ты говоришь мне: «Заткни хлебало»?
– Да. Я говорю тебе: заткни на хрен свое долбаное хлебало. Уорбэйби. Он все объяснит.
Они пошли в сторону Сан-Франциско, и Шеветта пошла тоже – а как тут не пойдешь, если руку тебе заломили.
23. Была не была
Шитов чуть не силком заставил Райделла пристегнуться к Шеветте Вашингтон наручниками и наручники дал свои, «береттовские», точно такие же, как у ноксвиллской полиции. Сказал, это чтобы у них с Орловским руки были свободные, на случай если местные заметят, что девушку арестовали, и захотят ее отбить.
Арестовали? А где же тогда «миранда»?[22] Да девице и не сказали даже, что вот, значит, ты теперь под арестом. Райделл твердо решил, что так прямо на суде и выложит, что не слышал никакой «миранды», хотя все время находился рядом, и давись они конем. Не было еще заботы – лжесвидетельствовать ради каких-то там раздолбаев. В Академии каждый, считай, день капали курсантам на мозги, что на полицейских ложится колоссальная ответственность и как они должны себя вести, так вот эти, прости Господи, крутые ковбои – хрестоматийный пример, как не нужно себя вести.
А с другой стороны, именно ведь такими и представляют себе люди копов, именно такого поведения и ожидают от них, сознательно или бессознательно, и все это связано с мифологией – так объяснял один шибко умный лектор. Мифология, она страшная сила, взять, например, синдром преподобного Малкахи. Это когда кто-нибудь держит заложников в запертом помещении и копы решают, что же им такое делать. И все они видели этот фильм про патера Малкахи и начинают действовать соответственно. Ясно, говорят, понятно, нужно привести сюда священника. Нужно привести родителей этого парня. А я пойду туда без оружия и постараюсь его уговорить. Слово за слово, а потом какой-нибудь герой и вправду кладет ствол на землю и идет этого психа уговаривать, со всеми вытекающими последствиями. И все по одной-единственной причине – он забыл, что жизнь не похожа на кино, совсем не похожа. Но это – редкий случай, чаще бывает наоборот, живой коп начинает подражать крутым телевизионным копам, проходит какое-то время, и ему не нужно даже подражать, он и вправду становится таким вот ковбоем. Несмотря на все, чему его учили, несмотря на все предупреждения. А иностранцы, вроде тех же Шитова и Орловского, на них эта телевизионная хрень действует еще сильнее. Да хоть на одежду взглянуть – сразу видно, с кого они узоры пишут.
Добраться бы до душа. До горячего душа, чтобы почти как кипяток. И терпеть, пока хватит сил – или пока вода в кране не кончится. Вытереться, надеть новые, совершенно сухие шмотки и сесть по-человечески, в своей комнате, в свое кресло. Уорбэйби наверняка заказал уже новому сотруднику номер в какой-нибудь гостинице, или сам заказал, или Фредди своему поручил. Позвонить, чтобы прислали пару клубных сэндвичей и пяток этих длинных бутылок мексиканского пива, в Лос-Анджелесе оно везде есть, так и здесь, наверное, тоже. В ведерке со льдом. Посмотреть телевизор. Включить, скажем, а там как раз «Влипших копов» показывают. Позвонить Саблетту, почесать языком, рассказать ему, какой тут бардак в этой ихней Северной Калифорнии. Саблетт не переносит яркого света и старается работать ночью, так что одно из двух – либо он сейчас в патруле, либо смотрит свои старые фильмы…
– Смотри, куда идешь!
Рывок за наручники чуть не опрокинул его на мостовую.
– А? – пришел в себя Райделл. Они с Шеветтой огибали вертикальный стояк с разных сторон. – Прости.
Шеветта хмуро промолчала. И все-таки – ну никак не смотрелась она на девицу, способную полоснуть мужика по горлу и вытащить его язык наружу сквозь не предусмотренное анатомией отверстие. Правда, вот нож… А что, собственно, нож? Ведь нельзя же каждого, у кого в кармане нож, так вот сразу считать за убийцу. Кроме ножа Шитов вытряс из нее карманный телефон и эти долбаные очки, из-за которых весь переполох. Точно такие же, как у великого сыщика, и футляр такой же. Теперь очки у него, во внутреннем кармане брони; увидев их, русские прямо кипятком в потолок от радости.
И даже боялась она не так – душные волны страха, исходящие от пойманного преступника, не перепутаешь ни с чем, для этого и опыта никакого не надо. А тут скорее ужас затравленной жертвы – и это при том, что она с ходу призналась Шитову, что да, украла я эти очки. Прошлым вечером в гостинице этой самой, в «Морриси», во время пьянки. И никто ведь из русских ковбоев и слова не сказал про убийство, и вообще про мужика этого зарезанного, Бликс он там или как. Подумать если, так они и ни в чем ее не обвиняли, ни в убийстве, ни в воровстве даже, – вообще ни в чем. А она говорила, что кто-то там убил какого-то Сэмми. Может, Сэмми – это и есть тот немец, зарезанный? А русские, словно не слышали, и сами ничего не ответили, и Райделлу рот заткнули, и она теперь тоже молчит, ну разве что огрызнется иногда, прикрикнет, когда он начинает засыпать на ходу.
Дождь закончился, ветер стих, но большого оживления на мосту не наблюдалось – да и то сказать, странно бы было, если бы сейчас, в невесть какой час ночи, все повыскакивали наружу и начали устранять причиненный непогодой ущерб. Однако кое-где зажегся свет, какие-то люди сгребали с мостовой воду и мусор. И пьяные – уж без них-то, конечно, никак. Круто уторчавшийся на «плясуне» мужик – во всяком случае, он непрерывно разговаривал сам с собой, молотил языком со скоростью тыща слов в минуту – пристроился в хвост процессии и так и плелся следом, пока Шитов не развернулся и не прошипел, что, мол, уторчался, мудила, так и уматывай на хрен в Окленд, а то искрошу тебя к такой-то матери в капусту, и все это со стволом в руках. Мужик вылупил глаза и послушно, без спору, повернул назад, да и кто бы на его месте спорил, а Шитов оглушительно заржал.
Участок моста, где час назад (или два? сколько же времени прошло?) стояла в нерешительности Шеветта Вашингтон, был освещен несколькими фонарями. Райделл споткнулся о какую-то доску, взглянул вниз и только теперь заметил на ногах девушки черные десантные ботинки, один к одному, как его собственные. И тоже, небось, с кевларовыми стельками.
– Классная обувка, – уважительно прокомментировал он и тут же смутился. Шеветта взглянула на него, как на психа. На ее щеках блестели слезы.
– Заткнись, мудила! – рявкнул шагавший рядом Шитов; ствол пистолета болезненно ткнул Райделла в ямку между челюстной костью и правым ухом. – И чтобы больше ни слова!
Райделл скосился на русского придурка, подождал, пока рука с пистолетом уберется, и только тогда кивнул:
– О'кей.
Весь дальнейший путь прошел в полном молчании. Райделл украдкой поглядывал на Шитова и решал в уме сложную задачу: когда начистить морду этому сучьему потроху – сразу, как расстегнут наручники, или чуть погодя?
В тот момент, когда Шитов вытаскивал свою долбаную пушку из Райделлова уха, Райделл заметил через его плечо какого-то парня, заметил безо всякого интереса – ну парень себе и парень. Высокий, крепкий, длинноволосый, вылез из узкой, не шире фута, двери, и даже не дверь это, а щель какая-то, вылез и стоит, моргает, то ли от яркого света, то ли от удивления.
Райделл не относился как-нибудь там по-особому ни к иммигрантам, ни к черным, ни к голубым – пусть себе хоть зеленый в крапинку, был бы человек хороший. Это, к слову сказать, сильно выручило его при поступлении в Полицейскую академию – прогнали его через все ихние тесты, увидели, что не расист парень, ни вот на столько не расист, и взяли – несмотря на очень грустные отметки в школьном аттестате. Райделл и вправду не был расистом, только не из каких-нибудь там идейных соображений, а так, по житейскому смыслу. Ну, на кой, спрашивается, быть расистом, если от этого никакой радости, одни заморочки? Ясно же, что люди никогда не вернутся назад, не будут жить, как жили когда-то; а даже и случись такая невероятная вещь – что бы в том хорошего? Тогда бы, небось, не по одной станции долбили пятидесятничный хэви-металл, а по всем, двадцать пять часов в сутки. И кто бы, спрашивается, жарил монгольский шашлык? Да и вообще, что толку думать о такой бредятине, когда в Белом доме сидит черная баба?
Однако сейчас, когда они с Шеветтой Вашингтон пробирались между бетонных надолбов, взмахивая руками в идиотском общем ритме, ни дать ни взять детский сад на прогулке, черт бы побрал эти наручники, Райделл не мог не признать, что некоторые конкретные иммигранты и негры его достали. Сильно достали. И Уорбэйби с его вселенской скорбью и постной, как у телевизионного проповедника, харей. И Фредди этот самый, технический, в рот его и в ухо, консультант. Отец, царствие ему небесное, на дух не переносил таких вот типов, скользких и хитрожопых; «ублюдки сраные» – так он их называл, любимое папашино выражение. А уж Шитов и Орловский – посмотришь на них и сразу поймешь, что имел в виду дядя, который в Африке воевал, когда рассказывал про дубин, у которых голова хрящом проросла.
И вот он, пожалуйста, Фредди тот драгоценный, – привалился задницей к радиатору «Патриота» и дергает башкой в такт какой-то там из наушников мелодии, а по краям его кроссовок бегут красные буковки, слова песни или там что. Этот-то под дождь не вылезал, в машине отсиделся, вон ведь, все у него сухонькое, и рубашка эта пистолетная, и необъятные портки.
И начальничек его, Уорбэйби, в стеганом этом пальто и в шляпе, нахлобученной почти на глаза. Почти на эти сраные ВС-очки. Широкий, как шкаф, только нормальный шкаф сам по себе стоит, а этот на тросточку опирается.
Нос к носу с «Патриотом» стояла неприметная такая серенькая машинка размером с океанский лайнер; армированные покрышки и графитовая решетка на радиаторе прямо-таки кричали каждому любопытному: «КОПОВОЗКА». И любопытные были – несмотря на поздний (или уже ранний?) час, они стояли среди бетонных надолб, сидели на ящиках и продуктовых тележках. Дети, пара мексиканок – поварихи, наверное, судя по волосам, затянутым сетками. Крепкие, угрюмого вида мужики в грязных робах опирались на лопаты и швабры. Никто не подходил особенно близко, просто смотрели – и все, на лицах подчеркнутое безразличие, обычное поведение людей, наблюдающих за работой копов.
На переднем пассажирском сиденье полицейского броненосца клевал носом еще один блюститель закона.
Русские сомкнули строй, зажали Райделла и Шеветту в плотные клещи; Райделл чувствовал, что собравшаяся толпа их нервирует. А вот не хрен было выставлять свою машину на всеобщее обозрение.
Теперь, когда Шитов шагал совсем рядом, стало слышно, как поскрипывает под его рубашкой броня. Он благоразумно припрятал пистолет и, как и подобает настоящему ков бою, не выпускал изо рта китайскую «Мальборо».
И куда же теперь? В полицейскую машину? Да нет, вроде бы к «Патриоту». Лучезарная улыбочка Фредди прямо напрашивалась на хороший удар каблуком, зато Уорбэйби глядел на приближающуюся процессию с чуть ли не большей, чем обычно, скорбью.
– Снимите с меня эту хрень.
Райделл сунул Уорбэйби под нос охваченное тонким стальным ободком запястье; рука Шеветты Вашингтон дернулась вверх. Стоило зрителям заметить наручники, как их безразличие словно ветром сдуло; послышался негромкий угрожающий рокот.
Уорбэйби повернулся к Шитову.
– Добыл?
– Да. – Шитов похлопал себя по груди. – Здесь они, как миленькие.
– Вот и прекрасно, – кивнул Уорбэйби.
Он взглянул на Шеветту, на Райделла и наконец повернулся к Орловскому.
– Сними с него наручники.
Орловский взял Райделла за запястье и сунул в прорезь наручника магнитный ключ.
– Садись в машину, – скомандовал Уорбэйби.
– Они не читали ей «миранду», – запротестовал Райделл.
– Садись в машину. Ты же у нас водитель, или забыл?
– Скажите, мистер Уорбэйби, она что, арестована?
Фредди мерзко хихикнул.
Шеветта протянула Орловскому свое, все еще закованное, запястье, но тот уже засовывал магнитный ключ в карман.
– Райделл, – печально вздохнул Уорбэйби, – садись в машину. Мы тут больше не нужны.
Правая дверца серой машины распахнулась; полицейский (полицейский?), дремавший прежде на пассажирском сиденье, вышел наружу и потянулся. Черные ковбойские сапоги, длинный, угольно-черный плащ. Светлые волосы, не короткие и не длинные. От уголков рта – глубокие, словно стамеской вырубленные морщины. Бесцветные, водянистые глаза. Тонкие губы широко разошлись в улыбке, сверкнули искорки золота.
– Это он. – Голос Шеветты Вашингтон срывался. – Он убил Сэмми.
И тут высокий длинноволосый парень – тот самый, которого Райделл видел на мосту, только теперь он был на велосипеде – с разгона врезался в спину Шитова. Старый ржавый велосипед с крепким стальным багажником перед рулем тянул на добрую сотню фунтов, столько же, а то и больше, весил металлолом, набитый в глубокую корзину переднего багажника, еще две сотни – сам лихой велосипедист. Шитов негромко хрюкнул и рухнул на капот «Патриота»; Фредди подпрыгнул, как ошпаренная кошка.
Длинноволосый парень, похожий сейчас на взбесившегося медведя, перелетел через руль, упал на Шитова сверху и начал молотить его мордой о капот. Рука Орловского метнулась к пистолету, но в тот же момент Шеветта выхватила из ботинка отвертку и саданула его в спину. Бронежилет, конечно, не прошибла, но от удара коп качнулся.
Безгильзовые боеприпасы и плавающий затвор обеспечивают невероятную скорострельность. Надсадный, душераздирающий вой, издаваемый современным оружием при автоматической стрельбе, ничуть не похож на ритмичный перестук древних пулеметов и автоматов.
Первая очередь ушла в темное ночное небо; Шеветта Вашингтон повисла на правой руке Орловского. Орловский попытался повернуть ствол в ее сторону, но не сумел – вторая очередь полоснула в сторону моста. Из толпы раздались испуганные крики, люди хватали и прятали детей.
У великого сыщика отвалилась челюсть, он явно не верил своим глазам.
Орловский снова попытался вырвать руку из Шеветтиной хватки. Райделл стоял прямо за его спиной, и это было снова как тогда, с Кеннетом Терви. Или – когда «Громила» выносил ворота шонбрунновской усадьбы.
Он ударил Орловского ребром ботинка по голени, тот рухнул и третья очередь ушла вертикально вверх.
Фредди попытался схватить Шеветту – и едва успел прикрыться драгоценным своим компьютером. Отвертка пробила тоненький чемоданчик насквозь; Фредди уронил его на землю, истошно завопил и отпрыгнул.
Райделл поймал на лету расстегнутый наручник – тот самый, который висел недавно на его собственном запястье, – и дернул.
Открыв правую дверцу «Патриота», он пролез на водительское место и втащил следом за собой Шеветту. Длинноволосый все еще продолжал выяснять, что прочнее – русская голова или американский металл.
Ключ. Зажигание.
Райделл заметил на капоте радиотелефон и ВС-очки, вывалившиеся из кармана Шитова. Опустить стекло, схватить телефон и тускло-серый футляр, поднять стекло. Короткая очередь прошила длинноволосого, смела его на землю. Врубая задний ход, Райделл снова заметил того, золотозубого из коповозки. Золотозубый стоял, широко расставив ноги, и водил из стороны в сторону стволом. Правая рука сжимает оружие, левая сжимает запястье правой – все, как учили в Академии. Корма «Патриота» врезалась в какое-то препятствие, Шитов слетел с капота за компанию с ржавыми цепями и обрезками труб. Шеветта все еще рвалась наружу (и что же это она там забыла?), так что Райделлу приходилось придерживать ее за наручник и крутить баранку одной левой. Затем он выпустил наручник, чтобы перевести передачу с заднего хода на передний, и тут же вцепился в него снова.
Следующим номером программы Райделл бросил «Патриота» на золотозубого; тот настолько увлекся стрелковыми упражнениями, что едва успел выскочить из-под колес. Шеветта оценила, наконец, ситуацию и захлопнула дверцу.
«Патриот» проскочил в каком-то дюйме от края моста и едва не врезался в хвост огромного оранжевого мусоровоза.
Последняя картина, которую Райделл увидел и боковом зеркальце, выглядела почти нереально, как обрывок горячечного бреда, а потому намертво врезалась в его память. Громада моста, похожая на затонувший, опутанный водорослями корабль, на заднем плане – предрассветное, чуть сереющее небо, на переднем – громоздкая фигура великого сыщика. Уорбэйби шагнул раз, другой и ткнул тростью в направлении удаляющегося «Патриота». Сейчас он сильно напоминал фокусника или волшебника, манипулирующего своим волшебным жезлом.
Затем нечто, вылетевшее из трости, вышибло заднее стекло «Патриота»; Райделл заложил такой крутой правый вираж, что чуть не перевернул машину.
– Господи… – Шеветта говорила медленно, недоуменно, словно только что проснулась и не совсем еще воспринимает окружающее. – Что это ты делаешь?
Райделл не знал, что он делает, он просто делал.
24. Песня стальной рептилии
Свет вырубился, Скиннерову комнатушку залила густая, чернильная темнота. Ямадзаки встал со стула, нашел Шеветтин спальный мешок, нащупал фонарик.
Яркое белое пятно скользнуло по стенам, задержалось на кровати. Скиннер спал, укрывшись двумя одеялами и рваным спальником, из угла открытого рта сочилась тонкая струйка слюны.
Ямадзаки осмотрел надкроватную полку. Маленькие стеклянные баночки со специями, банки побольше с винтами, гайками и шурупами, черный бакелитовый телефон с диском – живое напоминание о том, откуда взялось выражение «набрать номер». Разноцветные колесики клейкой ленты, мотки толстой медной проволоки, рыболовные снасти – или что-то на них похожее, Ямадзаки не очень в этом разбирался – и, наконец, свечные огарки, штук десять, стянутые черной резинкой, пересохшей и растрескавшейся. Зажигалка нашлась быстрее – она лежала на самом естественном месте, рядом с примусом. Ямадзаки оплавил самый длинный из огарков в пламени зажигалки, прилепил его к блюдцу и зажег. Узкий оранжевый язычок испуганно заметался и потух.
С фонариком в левой руке Ямадзаки подошел к окну, закрыл его поплотнее, подоткнул две грязные тряпки – не очень эквивалентную замену утраченных сегментов витража.
На этот раз свечка не потухла, хотя пламя и колебалось – по комнате все еще гуляли сквозняки. Ямадзаки вернулся к окну. Все огни на мосту погасли, и он исчез, растворился в темноте. Дождь лупил по стеклам в упор, почти горизонтально; крошечные капельки прорывались сквозь трещины и щели, холодили лицо.
А ведь эту комнату, подумал Ямадзаки, можно превратить в первоклассную камеру обскуру. Вынуть из витража миниатюрное центральное стеклышко, чем-нибудь закрыть остальные сегменты, и на противоположную стену спроецируется перевернутое изображение.
Ямадзаки слышал, что центральная опора, удерживающая на себе середину моста, считалась когда-то одной из лучших в мире камер-обскур. Свет, проникавший в ее темную утробу через крошечное отверстие, рисовал на дальней стене исполинскую картину изнанки моста, ближайшего устоя и водных просторов. А теперь в этих мрачных казематах поселились самые нелюдимые обитатели моста; Скиннер настоятельно советовал воздержаться от какого бы то ни было с ними общения.
– Это тебе не Остров Сокровищ, никаких таких Мэнсонов[23] там нет, но ты, Скутер, все равно к ним не лезь. Ребята как ребята, только не любят они гостей, не любят – и все тут.
Ямадзаки подошел к стальному канату, разделявшему комнату пополам. Скиннерова халупа сидела на канате, небольшая его часть, выступавшая над уровнем пола, напоминала малую поправку, едва проглядывающую при компьютерном представлении поверхности, описываемой сложной математической формулой. Ямадзаки нагнулся и потрогал стальной горб, отполированный сотнями чьих-то рук.
Каждый из тридцати семи тросов, составлявших канат, был сплетен из четырехсот семидесяти двух жил, каждый из тросов выдерживал – всегда, в том числе и сейчас, в этот самый момент – нагрузку в несколько миллионов фунтов. Позвоночник… нет, даже не позвоночник, а спинная струна, хорда исполинской реликтовой рептилии, чудом дожившей до нашего времени. И по ней, по этой хорде, струится информация, смутная и темная, как даль геологических эпох. Доисторическая тварь не совсем еще утратила подвижности – мост вибрировал под напором ветра, натягивался и сжимался при смене жары и холода, стальные когти его огромных лап цепко держались за материковую платформу, укрытую донным илом, за скалу, почти не пошевелившуюся даже при Малом великом землетрясении.
Годзилла. Ямадзаки зябко поежился, вспомнив давние телевизионные репортажи. Он тогда был в Париже, с родителями. Теперь на развалинах Токио вырастили новый город.
Да, кстати. Он подобрал с пола Скиннеров телевизор, поставил его на стол и начал рассматривать. Экран вроде бы в порядке, просто вывалился из корпуса и повис на короткой пестрой ленте кабеля. Ямадзаки приложил тускло-серый, с округлыми углами прямоугольник к пустой рамке, нажал большими пальцами, что-то щелкнуло, и экран сел на место. Только будет ли эта штука работать? Он нагнулся, высматривая нужную кнопку. Вот эта. ВКЛ.
По экрану побежали красно-зеленые полосы, через секунду они исчезли, в левом нижнем углу вспыхнула эмблема NHK.
–..Наследник Харвуда Левина, создателя и единоличного владельца одной из крупнейших рекламных империй, покинул сегодня Сан-Франциско, где провел, согласно нашим конфиденциальным источникам, несколько дней.
Непропорционально длинное и все же симпатичное лицо. Тяжелый, лошадиный подбородок прячется в поднятый воротник плаща. Широкая белозубая улыбка.
– Его сопровождает… – прямо на камеру идет стройная темноволосая женщина, закутанная в нечто черное и – тут уж никаких сомнений – умопомрачительно дорогое, на коротких черных сапогах поблескивают серебряные шпоры. —..Мария Пас, дочь падуанского кинорежиссера Карло Паса. Лицо Марии Пас известно каждому, кто хоть немного следит за светской хроникой. Все вопросы, касающиеся цели этого неожиданного визита, остались без ответа.
Известное каждому – и очень несчастное, чуть ли не заплаканное – лицо исчезло, теперь по экрану ползли бронетранспортеры, снятые в инфракрасном свете. Японские миротворческие силы продвигаются к местному аэропорту какого-то богом и людьми забытого новозеландского городка.
–..Потери, вина за которые возлагается на запрещенный Фронт освобождения Саут-Айленда. Тем временем в Веллингтоне…
Ямадзаки попробовал переключить канал. Несколько секунд красно-зеленого мелькания, и на экране проступил портрет Шейпли, заключенный в аккуратную рамочку. Документальная постановка Би-би-си. Лицо спокойное, серьезное, даже чуть гипнотичное. После двух безуспешных попыток поймать что-нибудь другое Ямадзаки прибавил громкость, голоса британских актеров отодвинули в сторону все прочие звуки – и завывание ветра, и гудение тросов, и скрип фанерных стен. Он сосредоточился на хорошо известной истории, с хорошо известным – хотя и не очень хорошим – концом.
Джеймс Делмор Шейпли привлек к себе внимание антиспидовой промышленности в самые первые месяцы нового тысячелетия. Тридцатилетняя проститутка мужеского пола, он был инфицирован уже двенадцать лет. В тот момент, когда доктор Ким Кутник, работавшая в Атланте, штат Джорджия, сделала свое открытие, Джеймс Шейпли отсиживал в тюрьме двухсотпятидесятидневный срок за непристойное поведение в общественном месте (его статус ВИЧ-инфицированного должен был повлечь за собой значительно более серьезные обвинения, однако судьи этого «не заметили»). Ким Кутник, работавшая на компанию «Шарман», филиал «Сибата Фармасьютикалс», просматривала медицинские карты заключенных. Ей были нужны личности вполне определенного – и экзотического – плана: ВИЧ-инфицированные не менее десяти лет, не проявившие за это время никаких болезненных симптомов и имеющие в крови нормальное (либо, как в случае Шейпли, повышенное) количество т-лимфоцитов.
Шармановские лаборатории атаковали СПИД по многим направлениям; одно из них было связано с надеждой обнаружить и выделить мутантные штаммы вируса. Многие биологи считали, что высокая, практически стопроцентная летальность единственной известной на тот момент генетической разновидности ВИЧ противоречит законам естественного отбора. Вирус рубит сук, на котором сидит: распространяясь без помех, он не сегодня, так завтра уничтожит человечество, единственную свою питательную среду. Уничтожит самого себя. (Другие ученые столь же убежденно утверждали, что необычно долгий инкубационный период СПИДа не даст человечеству погибнуть.) Собственно говоря, идея выделить непатогенные штаммы вируса и применить их для подавления штаммов легальных была выдвинута лет на десять раньше, однако так и осталась идеей: «этические» соображения не позволяли проводить прямые эксперименты на людях. Шармановские исследователи опирались на идеологию этих старых работ: если вирус хочет жить, он не должен убивать своею «хозяина». Исследовательская группа, куда входила и доктор Кутник, намеревалась вакцинировать пациентов на стадии СПИДа сывороткой из крови ВИЧ-положительных индивидуумов – в надежде на вытеснение летального штамма безвредным.
Поиски таких индивидуумов были поручены семерым вирусологам, в том числе и Ким Кутник. Она решила начать прямо с ближайшей тюрьмы. Первоначальный отбор выявил шестьдесят шесть заключенных, которые: а) были инфицированы вирусом иммунодефицита человека десять и более лет назад; и б) не имели никаких жалоб на здоровье. Одним из этих шестидесяти шести был Дж. Д. Шейпли.
Действие переместилось в Рио-де-Жанейро, в патио загородного особняка.[24] Доктор Кутник (чью роль исполняла молоденькая английская актриса) вспоминала свою первую встречу с Шейпли.
– Трудно сказать, что поразило меня больше – количество т-лимфоцитов в крови Шейпли, значительно превышавшее норму, или его ответы на вопросник, из которых следовало, что Шейпли не больно-то следовал нормам «безопасного секса». Шейпли произвел на меня впечатление очень искреннего, отзывчивого и, как это ни странно, очень невинного человека. Мой вопрос об оральном сексе заставил его смутиться и покраснеть. Затем он рассмеялся и сказал… он сказал… – «Кутник» потупилась, ее щеки вспыхнули пунцовой краской. – Сказал, что «сосет – с хлюпом и досуха». Конечно же, – продолжила актриса, – в те дни все наши представления о путях распространения инфекции базировались на догадках и предположениях. Странно подумать: не было проведено ни одного прямого эксперимента по выявлению механизма передачи.
Ямадзаки выключил телевизор. Федеральный закон о добровольных участниках экспериментов по борьбе со СПИДом и ходатайство доктора Кутник позволят Шейпли выйти из тюрьмы. «Безбожные и безнравственные» эксперименты шармановской группы, связанные с переливанием людям, умирающим от СПИДа, «нечистой крови», встретят яростное сопротивление со стороны христианских фундаменталистов. Эксперименты застопорятся – в тот самый момент, когда Ким Кутник получит первые обнадеживающие результаты. Состояние пациентов, имевших половые сношения с Шейпли, заметно улучшится, они явно пойдут на поправку. Взбешенная Кутник уволится с работы, увезет ничего не понимающего Шейпли в стоящую на пороге гражданской войны Бразилию, найдет щедрых спонсоров и продолжит свои исследования – там к таким вещам относятся просто и по-деловому.
Все бы хорошо, не будь у этой истории такого печального конца.
Лучше уж сидеть при свечке и слушать песню стальной рептилии.
25. Хоть вброд, хоть вплавь
Он все говорил, что он из Теннесси, и что он в гробу видал все это говно. А она оставила уже всякие надежды дожить до завтра, так он гнал машину, а и доживешь, так что толку – все равно поймают копы или этот, который застрелил Сэмми. Она все еще не могла понять, как и что случилось, и ведь этот мужик, который вырубил краснорожего, – это же точно был Найджел.