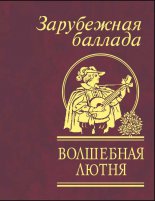Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи Раку Марина
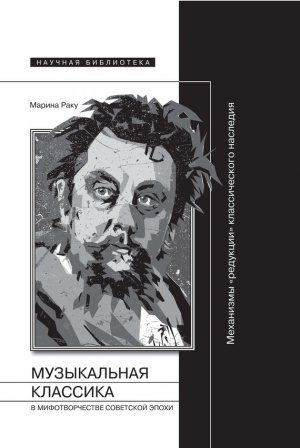
Никакой стилизации и старинности. Напротив, с кинематографической реальностью должно вспомниться зрителю голодное Поволжье 21-го года145.
В некотором смысле спектакль претендовал на то, чтобы стать манифестом современничества по вопросу об отношении к классическому репертуару на оперной сцене146. Во многом именно сугубо музыкантские интересы являлись ее вдохновляющими стимулами. Даже непривычные временные рамки спектакля ЛГАТОБа свидетельствовали о несгибаемой принципиальности его создателей, не желавших принимать во внимание интересы простого зрителя: начинаясь в полвосьмого вечера, он заканчивался полпервого ночи. Предложения по исправлению ситуации следовали в том же направлении – выражения особого пиетета по отношению к авторской воле. Одни предлагали изъять польский акт, не входивший в первую редакцию, другие – напротив, «исполнять оперу в два вечера: сначала первоначальную редакцию (без польского акта, без Кром, с первым вариантом сцены в царском тереме и картиной “У Василия Блаженного”); затем – основную (с польским актом и Кромами, но без сцены у Василия Блаженного)»147. Предъявленный постановщиками подход по справедливости должен быть признан контаминацией.
Как указывает Михайлова, уже клавир Ламма не отделял текст одной редакции от другой: «Идея о единстве двух редакций и сквозной линии народных сцен в качестве основного ‘‘стержня’’ произведения – именно такой вариант драматургии Б.В. Асафьев считал ‘‘подлинным’’ замыслом автора»148. Купюры текста первой авторской редакции, сделанные самим Мусоргским для второй редакции, рассматривались теперь как «вынужденные», возникшие «под давлением» театральной дирекции149.
В результате, как констатирует исследовательница, «спектакль ленинградского Академического театра оперы и балета представил поистине народную музыкальную драму. Но драму, которую Мусоргский не писал»150.
Кампания по поискам «аутентичного» Мусоргского продолжалась и далее151. В русле современнической стратегии также шла работа по продвижению «нового» «Бориса» на Запад, изрядно затрудненная проблемой авторских прав. В ней принимали активное участие авторы авангардного по своей направленности журнала «Musikbltter des Anbruch» Асафьев и Ламм, а также Мясковский и Николай Малько, ставший в результате за пульт премьерного радиоспектакля по обновленной партитуре Мусоргского, переданного из Берлина 26 февраля 1932 года152. Однако в самой России в ближаишие десятилетия эта художественная акция продолжения не получила.
В полном согласии с установкой на воспитание «нового зрителя» в советской России предполагалось «приучить» его к новому звучанию «Бориса» и к его новым размерам. Ученик и коллега Асафьева по Российскому институту истории искусств Р.И. Грубер153 отчитывался со сдержанным оптимизмом:
В первой половине 1928 года КИМБ (Кабинет изучения муз. быта при Музо ГИИИ) <…> последовательно взял под наблюдение постепенное внедрение в музыкальное сознание ленинградского обывателя «Бориса Годунова» Мусоргского в авторской редакции, начиная с генеральной репетиции и кончая последними весенними спектаклями. Результаты таких обследований дали в значительной степени удовлетворительный итог154.
Статьи Асафьева, «обрамлявшие» ленинградскую постановку, уже в 1930 году были выдвинуты на роль неких руководств для советских постановочных бригад:
Там же даны и руководящие принципы для новых постановок, что в данном случае облегчает нашу задачу155.
Однако «первая авторская редакция как целостное произведение в 1920-х годах на сцене так и не появилась. Вновь найденные фрагменты и сцены стали включаться в спекткли, образовывая при этом драматургические версии, самому Мусоргскому никогда не принадлежавшие»156. 1930-е годы, по наблюдению Е. Михайловой, предложили различные контаминации авторских редакций и партитур Мусоргского и Римского-Корсакова. Характерно, что «многие периферийные театры в конце 1930-х годов не решаются завершать оперу сценой бунта под Кромами (требование, бывшее почти обязательным для 1920-х годов), жертвуя при этом логикой общей сюжетной канвы, не говоря уже о музыкальной драматургии»157.
В послевоенном фильме «Мусоргский»158 Г. Рошаля идеологическая оценка вопроса о редакциях согласуется с принятой сценической практикой контаминаций. Во время сочинения первой версии в ответ на предложение конформистски настроенного Римского-Корсакова (А. Попов) ввести в оперу любовный дуэт Мусоргский (А. Борисов) отвечает: «А зачем мне в “Борисе” любовь?» Отвергает он и предложения друга сделать более пышной инструментовку сцены коронации. После того как театральная дирекция не принимает первую редакцию, Мусоргский внезапно соглашается переработать оперу, но мотивирует решение не давлением извне, а возможностью через введенную в сюжет Марину Мнишек показать Самозванца как предводителя польской интервенции. Появляется и Сцена под Кромами, увидев которую царский сановник кричит на директора Императорских театров Гедеонова: «Это революция, а не опера!» Образ несколько мягкотелого Римского-Корсакова явно меркнет на фоне бескомпромиссного и лишенного каких бы то ни было человеческих слабостей Мусоргского. Первый женится на энтузиастке нового искусства Н. Пургольд, второй, будучи неравнодушен к ее сестре, влюбленной в него самого и в его творчество, дает обет преданности искусству и на киноэкране категорически не изменяет ему. Вмешательство Римского-Корсакова в партитуру, расценивавшееся в разные времена то как подвиг дружбы, то как неблаговидный поступок, просто остается за скобками повествования.
В следующей костюмно-исторической кинобиографии Рошаля «Римский-Корсаков»159 участие Римского-Корсакова (Г. Белов) в продвижении опер Мусоргского на сцену уже весьма уважительно упоминается В. Стасовым (Н. Черкасов). Да и сочиняет Корсаков непосредственно «под приглядом» Мусоргского, чье фото водружено на его письменном столе. Имя Мусоргского возникает и в споре Корсакова со своим учеником Глебом Раменским, под именем которого выведен Игорь Стравинский. Раменский, только что вернувшийся из Парижа и демонстрирующий учителю свою новую «неблагозвучную» и «модернистскую» (по определению Корсакова) музыку, призывает идти вперед, прочь от «бурлаков» и героев Мусоргского и выслушивает в ответ гневную отповедь Корсакова. На антитезе модернизм «Мира искусства» / реализм «Могучей кучки» строится основная коллизия этого фильма, одним из воображаемых участников которой остается незримо присутствующий за спиной Корсакова Мусоргский.
Вопрос о «чистоте редакций» (Е. Михайлова) вновь встанет лишь в 1970-х годах с появлением уточненной версии партитуры англичанина Дэвида Ллойда-Джонса. Именно в Англии в 1935 году «первая редакция оперы как самостоятельное произведение» в авторскои оркестровке, восстановленнои Ламмом, впервые увидела свет рампы Русскому слушателю пришлось ждать знакомства с ней до 1989 года, когда она была поставлена в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко160.
I.3. «Переоценка» Мусоргского
«Переоценка» Мусоргского, о необходимости которой заявлял Асафьев, началась в рапмовской прессе еще до начала кампании по возвращению к «подлинному» «Борису», но проделывалась она с точки зрения марксистской социологии:
В непреклонном следовании Мусоргского заветам 60-х годов, невозможности усвоить запросы и склад нового времени, в этом трагическом срыве художника – глубочайший социологический смысл: Мусоргский, как и все движение 60-х гг., вырос из феодализма. Он воплощает в себе, как и все движения, десятилетиями накопленную силу величайшего протеста против рутины, мертвящей традиционности. <…> Но оторваться от своей почвы он не мог. Мусоргский тщетно пытался примирить свое хоть и гениальное, но кустарничество, с запросами нарождающегося капиталистического города. И потому, как все общественное движение 60-х гг., его феодальные устремления должны были отмереть, оплодотворив своим богатым творческим опытом дальнейшее развитие основных кадров музыкальной общественности, обслуживавших нарождавшуюся городскую буржуазию и группировавшихся вокруг Консерватории161.
М. Пекелис162 подчеркивает, что Мусоргский – «народник», но не «славянофил». В скором времени определение «народник» в полемике о Мусоргском все чаще будет подменяться определением «народный», а вместе с тем конкретно-исторические смыслы – актуальными. Но и в 1924 году Пекелис использует «слова-сигналы», позволяющие прямо связать творческую ситуацию Мусоргского с раннесоветской современностью:
Капиталистический город среди прочего потребовал музыкального безропотного жреца163.
В актуальном политическом контексте все чаше осмыслялось и возвращение к советскому слушателю «подлинного» Мусоргского. Подробно аргументированный вывод Ламма о том, что Римским-Корсаковым было отредактировано около 85 % текста «Бориса»164, позволял одному из вождей РАПМ Ю.В. Келдышу165 делать далекоидущие выводы о идейном конфликте Мусоргского со своей средой и эпохой и, как следствие, о его созвучности с устремлениями нового дня:
До недавнего времени существовало мнение, будто бы Мусоргский был технически слабым, безграмотным музыкантом, и на основании этого взгляда его произведения подвергались всевозможным «поправкам» и редакционным изменениям, причем это часто в корне нарушало замысел композитора. На самом деле причиной здесь была не действительная беспомощность Мусоргского, а просто неприемлемость его художественных идей и творчества определенным классам. Знакомясь с настоящим, неискаженным Мусоргским, мы убеждаемся, что он в этом виде гораздо цельнее, ярче, самобытней и, что особенно важно, ближе нам166.
В результате подозрение в «неблагонадежности» закономерно падает на Римского-Корсакова, обвинения в адрес которого станут привычными в среде рапмовцев. Анализируя «Сцену под Кромами», которая вполне ожидаемо предстает в этом описании кульминацией всего сюжетного и драматургического развития «Бориса Годунова», Брюсова пишет:
Нет ничего удивительного и в том, что «завершитель» творческого труда Мусоргского, Римский-Корсаков, при «обработке» этой сцены сделал все, чтобы по возможности изгнать из нее бунтарское, революционное содержание. Римскому-Корсакову такое содержание было просто непонятно167.
После того как Ламм сразу вслед за «Борисом» восстановил в предполагаемом «аутентичном» виде клавир «Хованщины», выяснилось, что Римский-Корсаков, завершивший и инструментовавший оперу и предоставивший ей таким образом возможность сценической жизни, едва ли не преднамеренно «исказил» также и это сочинение своего друга:
До последнего времени мы не знали «Хованщины» в подлинном виде и поэтому не могли иметь о ней правильного суждения. Римский-Корсаков, редактировавший ее, счел почему-то необходимым выкинуть из нее именно все наиболее яркие народные сцены168.
Асафьев предлагал теперь новую трактовку, резко противоречившую с его собственными недавними инерпретациями «Хованщины» как религиозно-мистического «действа»:
Какой представляется теперь драматургическая концепция «Хованщины»? <…> Особенно характерно, что благодаря восстановлению музыки, рисующей московский пришлый люд (народ, по Мусоргскому), который противополагается и попам и стрельцам; благодаря выделению сольного элемента в стрелецкой массе (сильно развитая роль Кузьки-стрельца), затем расширению роли Голицына и весьма антиклерикальной фигуре пастора из Немецкой слободы, – заметно снижается значение всей раскольничьей и религиозно-мистической стороны. Если добавить к тому, что с интонаций представителей этой стороны можно и должно снять вовсе не свойственный стилю Мусоргского оттенок монашеско-приторной слащавой слезливости и благоговейной умиленности, словом, если снять и с речей Досифея, и с причитаний Марфы налет «нестеровщины», – то все столь, обычно, выпирающие на первый план мистико-экстатические и церковнические элементы «Хованщины» естественно начинают терять навязанное им самодовлеющее значение169.
Неожиданными при сравнении с прежними писаниями Асафьева предстают новые характеристики, выданные им Досифею и Марфе – главным действующим лицам оперы; неожиданными – но при этом абсолютно органично вписывающимися в политические события, на фоне которых советское музыковедение отмечало юбилей Мусоргского:
Марфа «политическая авантюристка» на посылках у Досифея, который чутко играет на ее помыслах. <…> (Кстати, заклинание Марфы тоже очень легко освобождается от мистико-колдовских интонаций.) <…>
Подозрительнее фигура Досифея. Но мне кажется, что тут сочувствие композитора к героической морали гибнущих, а не сдающихся внушило ему в известной степени идеализацию образа расколоучителя <…>. Этой интеллигентской слабости Мусоргский не избежал170.
В феврале 1929 года ЦК ВКП(б) направило в областные и окружные комитеты партии письмо «О мерах по усилению антирелигиозной работы», согласно которому духовенство и рядовые верующие назывались «единственной легальной действующей контрреволюционной организацией, имеющей влияние на массы». Ровно через год Президиум ЦИК Союза ССР утвердил постановление ЦИК и СНК Союза ССР «О борьбе с контрреволюционными элементами в руководящих органах религиозных объединений». Появление статьи Сталина «Головокружение от успехов», где якобы намекалось на необходимость послабления антирелигиозной борьбы в деревне, привело лишь к кратковременному отступлению от взятого еще в 1917 году политического курса «воинствующего атеизма». Уже с середины 1931 года гонения на церковь в самых крайних формах возобновляются. 7 апреля открывается Всесоюзная конференция Общества воинствующих материалистов-диалектиков, на которой звучат обвинения духовенства и простых верующих «во всякого рода заговорах против колхозов». И, наконец, XVII партийная конференция, проходившая в Москве с 30 января по 4 февраля 1932 года, поставила окончательную точку в борьбе государства против церкви и религии. В директивах к составлению второго пятилетнего плана социалистического строительства, принятых на ней, была поставлена задача окончательной ликвидации «капиталистических элементов». Первыми в этом изрядно поредевшем за годы репрессий списке предположительно числились представители духовенства. Как естественное следствие принятой на ближайшее время политической программы в конце 1931 года был совершен разгром Союза православной церкви, его руководители были отправлены в лагеря.
Нетрудно было представить в их рядах «твердого верой» Досифея и мятежную Марфу. Для того чтобы оправдать их появление на страницах опуса Мусоргского, мало было извинить автора в его «интеллигентской слабости». Истинным виновником теперь становился «ложный друг», фигура которого то в образе Жуковского при Пушкине, то в образе Кукольника при Глинке начнет сопровождать русских классиков на страницах их советских жизнеописаний171. Генезис двух наиболее одиозных с точки зрения нового времени персонажей, вышедших не только из-под пера Мусоргского-композитора, но и либреттиста, возводится к «Китежу». Одновременно выносится и окончательный приговор творению самого Римского-Корсакова, исполнительскую судьбу которого уже пресекла цензура172.
Мистические Досифей и Марфа созданы театром эпохи религиозного «мир-искуснического» эстетизма. Они прибыли в «Хованщину» из «Китежа», а не наоборот. Отсюда же и весь елейный тон обычного (отвратительного, на мой взгляд) исполнения «Хованщины». <…> Теперь, имея в руках подлинник Мусоргского, легко отвыкнуть от привычных умильных интонаций, какими насыщена «Хованщина», и услышать величавую в своей «земной» естественности речь живых, осязаемых людей, Досифея и Марфы, – теперь не трудно снять повязку с собственных глаз и спросить себя: да где же я был?
Потому-то появление клавира в редакции Ламма (1931) руководитель Музгиза А. Верхотурский ставил в особую заслугу своему издательству. Приведу обширную выдержку из его вступления к юбилейному сборнику, посвященному Мусоргскому. Оно безусловно являлось программой на будущее, выполнение которой должно было лишь начаться с Мусоргского:
Государственное музыкальное издательство поставило себе целью очистить произведения великих мастеров прошлого от того редакционного наслоения, которое явилось следствием различной интерпретации исполнителей нескольких поколений.
Каждая эпоха и каждый класс имеет свой художественный стиль. <…>
Почти все классики подверглись такой участи. Достаточно вспомнить многие произведения Баха, Бетховена, Мусоргского… <…>
Но вот наступают так называемые «созвучные эпохи» – эпохи, весьма сходные по своим методам и формам борьбы, по своим целям (разумеется, только сходные, но не тождественные: история точного повторения эпох не знает). И тогда восстановление подлинного, оригинального содержания, так называемого уртекста, является неизбежностью. Возьмем, например, «Бориса» Мусоргского. Над радикальным изменением и идеологическим приспособлением «Бориса», как известно, много потрудился Римский-Корсаков и с точки зрения требований своей эпохи и своего класса сделал это в высшей степени талантливо. <…> Успех редакции Римского-Корсакова был вполне понятен. В самом деле, приспособить музыку Мусоргского к требованиям, понятиям и настроениям господствующего класса – это ли не заслуга великого мастера своей эпохи: ведь музыка и текст Мусоргского служили отражением настроений, мыслей и требований чуждого им, порабощенного класса. Но также понятно и то, что мы теперь хотим слышать подлинную речь художника созвучной нам эпохи, а не тенденциозное толкование инакомыслящего человека173.
«Восстановление уртекста произведений Мусоргского» объявляется «политически важной задачей Музгиза», «восстановление подлинного Мусоргского в полном объеме», издание «полного собрания реставрированных сочинений гениального композитора» – лозунгом издательства.
И все же главной целью такой громадной работы (которую, безусловно, немыслимо было выполнить к уже наступавшему 50-летнему юбилею, как громко заявлялось в этой декларации о намерениях) было не столько знакомство с экспроприированным некогда господствующим классом наследием гения в его подлинном виде, сколько поиск «родственной» пролетарским композиторам души, возможной предтечи искусства социализма.
Естественно, что и перед нами встает вопрос – нельзя ли нащупать в произведениях композиторов прошлого, в которых нашел отражение стиль созвучной нам эпохи, некоторые признаки, свойственные пролетарской музыке174.
Сборник, вышедший к памятной дате смерти композитора, наглядно демонстрирует единение вокруг его многообещающей фигуры. Имена Асафьева (Глебова), Брюсовой, Верхотурского, Келдыша, Ламма, Яковлева встречаются здесь под одной обложкой. На «очищенного» от «ретуши» своей эпохи Мусоргского, таким образом, с надеждой взирали со всех флангов советского искусства.
«Крайняя потребность в сатирико-юмористической опере»175 заставляла внимательнее вглядеться в потенциал его неоконченных комических партитур.
В 1925 году на сцену Большого театра вернулась дореволюционная (1913 года) версия завершения «Сорочинской ярмарки», осуществленная Ю.С. Сахновским. В 1931 году, когда отмечалось 50-летие со дня смерти классика, в ленинградском МАЛЕГОТе состоялась премьера «Сорочинской ярмарки», законченной В.Я. Шебалиным. А на следующий год «Сорочинская ярмарка» была поставлена на сцене московского Музыкального театра им. Вл.И. Немировича-Данченко уже в версии Ламма-Шебалина176.
В 1931 году Ипполитов-Иванов предложил свой вариант завершения «Женитьбы», дописав три акта из четырех (опера прозвучала единственный раз по радио). Попытка возвращения «Женитьбы» в советский репертуар таким способом не удалась177. Возможно, что препятствием послужил именно ее речитативный стиль, овладение которым поставил своей целью Мусоргский в этой работе. Ставя в контекст к ней «Нос» Шостаковича, критика высказывала недовольство тем, что молодой композитор якобы излишне утрировал этот прием:
Композитор Шостакович в опере «Нос» <…> как бы гипертрофирует приемы Мусоргского, преувеличивая типичное в интонациях персонажей своей оперы, доводя его до гротеска178 .
Понятно, что в этом обвинении косвенно выражена и опаска относительно эстетического потенциала предполагаемого первоисточника.
Совсем иначе воспринимался в качестве возможного прототипа «Борис Годунов». В репертуаре советских оперных театров 1920-х годов сложилось абсолютное преобладание историко-героического жанра179. «Народная музыкальная драма» Мусоргского стала не только тематической, сюжетной, драматургической, но в громадной степени и стилистической его моделью. В этом качестве она определилась в первой успешной (то есть воспринятой критикой как идейно-художественный ориентир) работе советского музыкального театра на исторический сюжет – опере Андрея Пащенко 1925 года «Орлиный бунт» («Пугачевщина», либретто Сергея Спасского, ЛГАТОБ). Уже в Прологе этой пятиактной композиции, обозначенной как «народная музыкальная драма», воспроизводятся как драматургические контуры, так и интонационные обороты «Бориса Годунова»: появление Пугачева сопровождается колокольным вступлением и монологом, народными плачами, основанными на нисходящих хроматизмах и триольных опеваниях. И в дальнейшем интонации плача из «Бориса» неоднократно цитируются в сходных ситуациях (во II д. – в партии киргизов, в III д. – с характерными причитаниями – в хоровой сцене со слепцами, торговками и монахами и т.д.). Казачий пляс II д. с его характерными «раскачиваниями баса» на восходящую кварту отсылает к Песне Варлаама.
Первая опера Пащенко запечатлела некоторые основополагающие жанровые особенности историко-героического жанра на советской музыкальной сцене, определив генеральное жанровое направление советского оперного театра ближайшего времени. Но если отдельные сюжетные положения, драматургические приемы или интонации русского классика поддавались воспроизведению, то богатство его декламационного стиля не нашло отражения в партитуре, хотя именно декламационность стала определяющим способом музыкальных характеристик. Ведь декламационность Мусоргского в «Борисе» опиралась на психологическую многозначность героев, которая совершенно нехарактерна для оперы Пащенко, как не станет типичной и для дальнейшего развития жанра. Значение же оперных форм, которые призваны концентрировать эмоциональные состояния и музыкально оправдывать их смену, полностью сведено на нет, речитативны все диалоги, и лишь любовный «дворянский» дуэт решен ансамблевыми средствами. Традиционные оперные формы отступали перед декламационностью, но мелодико-гармонический язык оказывался весьма бедным. Вместе с тем включение дивертисментов оказывалось почти спасительным приемом удержания зрительского внимания. Они являлись и поводом для театрализации, и жанровым «маркером» на довольно бесцветной музыкальной ткани.
Бедность лексики не компенсировалась и сколько-нибудь значительной семантикой. «Выходы» в семантический слой текста однообразны – наряду со славильными жанрами и причитаниями, с одной стороны, и аристократическим дивертисментом – с другой, в качестве своего рода лейтинтонации образа Пугачева используются различные фанфарные обороты. Они сопровождают появление Пугачева, его триумф, крушение, гибель и символическое воскресение, создавая таким образом несокрушимую статичность центрального музыкального образа. Герою придана та статуарность, которая предопределяет психологическую и образную неподвижность других персонажей. Пащенко музыкальными средствами весьма точно воспроизводит излюбленный монументальный жанр эпохи: скульптурный барельеф, к которому тяготели уже ранние революционные музыкально-драматические апофеозы.
В сочинениях историко-героического жанра и в дальнейшем Мусоргский остался верным ориентиром для показа образа «угнетенного народа», охарактеризованного через жанр причитания и хроматизированные нисходящие интонации плача. Все же подобный образ в глазах эстетиков и идеологов нового искусства имел серьезные ограничения. Даже лидеры РАПМ, ориентировавшие композиторскую молодежь на этот образец, вынуждены были признать:
Но все же «народ» остается у Мусоргского неподвижной массой, а не активной, революционной общественной силой180.
Эти «но» постоянно сопровождают рапмовские суждения о Мусоргском на пороге 1930-х годов:
Но Мусоргский не был способен понять революционной роли рабочего класса. <…> Мусоргский не может быть политическим учителем пролетариата181.
В результате на долю Мусоргского РАПМ оставила именно презентацию «темы народа», «революционность» же его не была столь же очевидной. С ролью полноценной предтечи «музыки революции» Мусоргский явно «не справлялся»:
<…> Если одной половиной своего существа Мусоргский примыкает к передовым общественным тенденциям эпохи 60-х и 70-х годов, то другая его половина – от умирающего и разлагающегося дворянства, со страхом чувствовавшего неизбежность своей гибели. Отсюда двойственность его идеологического облика, которая заставляет нас дифференцировать его творчество, беря его положительную материалистическую сторону и отвергая содержащиеся в нем моменты мистицизма, упадничества и реакционно-шовинистической ограниченности182.
С мнением Келдыша был солидарен и пролетарский композитор Мариан Коваль, отвечавший на вопросы анкеты о Мусоргском вместе с другими товарищами по объединению:
Именно такое творчество должно воспитывать наше сознание и растить новых пролетарских художников, творчество которых будет проникнуто духом пролетарской революции и строительства социализма. Однако в творчестве Мусоргского есть элементы нам чуждые (проявления шовинизма, религиозности, индивидуалистического психологизма), поэтому пропаганда творчества Мусоргского должна сопровождаться строжайшей критической оценкой этого творчества.
Сейчас влияние Мусоргского в моем творчестве уже пройденный этап. Для меня творчество Мусоргского уже мало активно и средства его творчества недостаточны для воплощения в музыке борьбы пролетариата183.
Другой рапмовский композитор, Александр Веприк, рассматривая Мусоргского как возможный ориентир композиторского творчества, выносил неутешительный приговор:
<…> мы сделали бы ошибку, пытаясь механически внести в наш творческий метод приемы Мусоргского, не видя в творчестве Мусоргского его классового отношения к миру. Не весь Мусоргский кажется мне в одинаковой степени приемлемым. Иные стороны его творчества даже далеки нам <…>184.
И даже пенял музыке Мусоргского за то, что «она не знает строительства нового мира»185.
Выводом из этого могла стать только задача «исправления» классика. Выращивание новых «улучшенных» Мусоргских виделось возможным с помощью «скрещивания» русского композитора с другим, пусть тоже «несовершенным», но все же «революционным» художественным дарованием – Бетховеном:
<…> нельзя сказать, чтобы все, что было в области музыки, кроме больших моментов борьбы буржуазии с феодализмом, близко нам и сейчас. Для ясности, конечно, нужно выделить, например, Бетховена, Мусоргского…186
Келдыш в статье по материалам доклада на I всероссийской конференции ассоциации пролетарских музыкантов писал, отчитываясь о проделанной объединением работе:
Благодаря целому ряду причин в большей степени был усвоен и преодолен Мусоргский и в меньшей степени – Бетховен. Собственно большинство композитов только сейчас по-настоящему подходит к овладению бетховенским творческим методом. Преобладающая роль Мусоргского в свое время была вполне естественна. <…>. Но теперь, в связи с новыми задачами, возникшими перед пролетарским музыкальным творчеством, необходимо основной упор с Мусоргского перенести на Бетховена. Основной слабостью Мусоргского, вызвавшей ряд противоречий у него, была неспособность его подняться до диалектического мышления. В противоположность ему Бетховен был гениальнейшим диалектиком и воплотил с наибольшей полнотой и яркостью черты диалектики в своем музыкальном творчестве. <…> Диалектический метод не может быть оторван от материалистической основы; эти два момента представляют собой по существу единство. <…> Тем не менее в определенные периоды необходимо делать акцент на одной или другой стороне этого метода187.
Водружение двух этих имен на знамя РАПМ в конце 1920-х годов автоматически оправдывало их перед лицом любых обвинений. При всех оговорках, которые делались идеологами РАПМ, при всем стремлении указать на «противоречия» облика обоих композиторов, «историческую ограниченность» их творчества, эти классики попадали в разряд «неприкасаемых», оставаясь там в демонстративном одиночестве. Это и ставилось в укор пролетарским музыкантам уже после разгона организации, как делал это один из видных функционеров в области музыкального искусства В.М. Городинский188:
Рапмовцы неправильно канонизировали Мусоргского, но они совершенно правильно выдвинули его на одно из первых мест в музыкальной классике. Откуда, наконец, появилась нелепая идея «уравниловки» среди классиков? Мы совсем не обязаны подходить ко всем классикам одинаково. Напротив, мы обязаны критически различать классиков189.
Однако Мусоргский, так и оставшийся в советской культуре «на одном из первых мест в музыкальной классике» даже после свержения РАПМ, в 1930-е и последующие годы был канонизирован уже окончательно, все реже вызывая критику в свой адрес и все чаще представая борцом со своей эпохой. Окончательно определив место композитора в пантеоне созвучных современности классиков, его музыку прочно впишут в подходящий идеологический контекст:
<…> творчество Мусоргского является музыкальным выражением философско-эстетических воззрений Чернышевского190.
Уже в начале 1930-х годов важнейшим из этих контекстов станет соцреализм. А пресловутое определение «народность» через двадцать с лишним лет без каких-либо оговорок будет сопровождать его творчество. И в 1956 году бывший активист РАПМ Келдыш статью к 75-летнему юбилею со дня смерти классика в «Известиях» озаглавит «Певец народа»191.
«Народность» и «революционность» вновь образуют нераздельный синтез в кинобиографии Мусоргского 1950 года. На роль главных его сочинений выдвигаются «Борис Годунов», «Песня о блохе» и «Раек» – сочинение на «народно-революционную тематику» и два сатирических опуса, получающие в контексте киносюжета вполне определенного адресата – театральную дирекцию, отклоняющую сочинения композитора. Связь Мусоргского с народом постоянно иллюстрируется в различных эпизодах его экранной биографии. Неотступно опекаемый людьми «из народа» – то няней, то дядькой-слугой, он постоянно оказывается наблюдателем революционных взрывов и бунтарских проявлений. Мужики, бегущие поджигать барскую усадьбу, зовут его с собой, напутствуя после нерешительного отказа: «Одному негоже на земле!» В качестве сюжета для оперы «о дружбе, о битвах, о победе народа» друзья подсказывают ему «Спартака». Однако тему оперы «Пугачевцы», по версии создателей фильма, он заимствует из самой жизни, за которой как бы записывает свои сочинения. Прилежный наблюдатель он черпает оттуда жанры (будущий цикл «Раек»), эпизоды (Сцена под Кромами), саму музыку (мотив Юродивого, в точности воспроизводящий пение нищего слепца, и Песню Марфы, дословно воспроизводящую услышанный из-за леса напев). На экране Мусоргский предстает таким образом не только «певцом народа», но его «воспитанником», как и полагается, по мысли идеологов, настоящему интеллигенту.
Творческий путь Мусоргского предвосхищает в такой интерпретации путь развития советского художника и соответствует его мировоззрению и эстетике. Замысел оперы о Пугачевщине и других народных восстаниях суждено было осуществить именно советским продолжателям дела Мусоргского. Весьма актуально звучит в его устах на киноэкране 1950 года тезис о том, что «жизнь есть музыка». Но озвучить его эстетическую программу создатели ленты поручают В.В. Стасову, и оттого она воспринимается как манифест всего кружка, более того – всего русского реалистического искусства, независимо от исторических обстоятельств. Речь Стасова, произнесенная на судебном процессе по обвинению в оскорблении некоторых музыкальных критиков192, в темпераментном исполнении Н. Черкасова поразительно напоминает доклады, прозвучавшие в ходе антиформалистической кампании 1948 года. Обращаясь к своим обвинителям, он в результате перенимает на себя роль прокурора-громовержца:
Вы так воинственно тянули русскую музыку назад, на задворки. <…> А что вы увидели в Европе? Вы вместе с теми, кто сходит с ума от мармеладных трелей, кто расслюнявился перед итальянскими примадоннами и вопит коленопреклоненно: «Божественная Патти!»